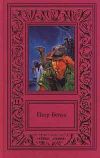Текст книги "С Невского на Монпарнас. Русские художники за рубежом"

Автор книги: Борис Носик
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
О знаменитых декорациях Билибина к «Золотому петушку» искусствовед С. Голынец пишет, что это был «такой же «облагороженный лубок», как и иллюстрации к пушкинской сказке, с теми же стилизованными горками, деревьями, облаками и даже с той же контурной линией».
Искусствоведы (в их числе С. Маковский) отмечали у Билибина сочетание грубоватого, чисто лубочного рисунка с «тончайшей вязью «а ла Бердсли». Англичанин Бердсли всех мирискусников волновал…
За несколько предвоенных лет Билибин сделал поистине головокружительную карьеру. Не удивительно, что он был выдвинут в академики Академии художеств, но утверждения пройти не успел, и это тоже не удивительно: на дворе стоял 1917 г. В тот год рухнул прекрасный, незабываемый петербургский мир, который так дружно проклинала (а на поверку оказалось – так обожала) вся русская интеллигенция и даже самая ее аполитичная прослойка – художники…
К моменту великого потрясения Билибин успел уже давно расстаться с милой Машей Чемберс и добрых пять лет прожить в новом браке с Рене О’Коннел, миловидный русской ирландкой, тоже художницей. Как богата была многонациональная русская земля, ежели на все браки Билибина хватило в ней красивых, талантливых художниц всех кровей и расцветок!
После революции почтенный сорокалетний художник Иван Билибин вошел в особое совещание по делам искусств и в Комиссию по охране памятников искусства и старины. Было еще пока довольно весело, собирались по-прежнему в застолье, и спиртное удавалось добыть – не тем, так другим способом. В дневниках Бенуа за 1917 г. есть несколько записей о веселом человеке Билибине, который еще ходит на нудные совещания, где они с Нарбутом «балуются как мальчишки». Потом Билибину перестают нравиться большевики, а потом… Вот последняя запись о Билибине в дневнике суетливо-деятельного в ту пору А. Н. Бенуа (запись за 14 июня 1917 г.):
«Представленные… проекты я забраковал и посоветовал обратиться к Билибину… Тотчас же по телефону справился у Билибина об условиях, причем получил от заики (вероятно, пьяного, ведь О’Коннель французская гражданка и может получать вино беспрепятственно) целый поток брани по поводу универсала Рады о независимости Украины… Говорят, Билибин в пьяном виде уже распевает «Боже, царя храни», восхваляет казаков…»
А вскоре Билибин, не дожидаясь ни октябрьского контрреволюционного путча, ни обострения алкогольных трудностей в столице, уехал прочь от всей этой заварухи, а заодно и от миловидной жены… Он уехал в Крым, в свой баты-лиманский рыбацкий домик на берегу, который иные источники называют «имением», а иные даже «поместьем».
Батылиманская идиллия
Собственно, оно и было имением, это скопление дачных домиков, но имением коллективным, чем-то вроде дачного кооператива или колхоза. Вот как рассказывала о нем зачинательница и организаторша этого интеллигентского кооператива, дочь знаменитого доктора и друга писателей Людмила Врангель-Елпатьевская:
«Нас было много собственников имения Баты-Лиман… переживавших грозное революционное время в этом уголке южного берега Крыма.
Баты-Лиман, прижатый огромной каменной стеной к морю, пожалуй самое теплое зимой и самое жаркое летом место в Крыму…
Высоко поднялись серебристые скалы над пропастью внизу…
Так дико все, земля бесплодна, и эта героическая красота, эта власть миров над человеком всегда привлекали к себе людей, настроенных пантеистически.
Билибин много и любовно писал этот каменный хаос с редкими зелеными великолепными соснами, его прозрачное, голубое небо».
Людмила Врангель случайно отыскала этот уголок берега близ Байдарских Ворот и купила его на паях с другими, чьи имена найдешь в ее позднем очерке:
«Пайщики Баты-Лимана принадлежали к артистическим, литературным и общественным слоям дореволюционной России.
Это были: артисты Московского Художественного Театра – Станиславский и Сулержицкий, певицы Е. Я. Цветкова и Ян-Рубан, художники Билибин и Руднев, писатели Короленко, Ельпатьевский и Чириков, профессора М. Ростовцев, П. Милюков, А. Титов и В. Вернадский, общественные деятели: Фон Дервиз, Де Плансон, Н. Шнитников, Радаков, М. Петрункевич, П. Гукасов, А. Кравцов и др…»
Прикупили пайщики и соседнее имение Ласпи. Милюков одним из первых построил себе дачку, а Билибин, неоднократно упомянутый в очерке Л. Врангель, и вовсе купил готовый рыбацкий домик на берегу…
Так возник в Крыму «второй Коктебель». Напомню, что «третий Коктебель» или «второй Баты-Лиман», стараниями той же Людмилы Врангель появился лет десять спустя, уже в изгнании, на Лазурном Берегу Франции, близ Борма и Лаванду, и в нем тоже поселились в первую очередь прежние батылиманцы – Милюков, Билибин, Людмила Врангель-Елпатьевская…
Почти два года, проведенные Билибиным в этом крымском убежище, были довольно идиллическими. Конечно, здесь не было питерского и московского веселого многолюдья, не сыпался на художника дождь заказов, но Билибин все же работал, и он был снова влюблен. Над его прибрежным рыбачьим домиком, на крутом склоне стояла еще не достроенная, но уже белевшая колоннами дача известного писателя Евгения Чирикова. Там жили в те годы вместе с писателем две его прелестные дочери – Новелла и Людмила. Красивая Людмила с пятнадцатилетнего возраста брала уроки живописи у Кардовского, участвовала в художественных кружках, а с 1918 г. в Баты-Лимане брала уроки у Билибина, который был в нее влюблен. Об этом свидетельствуют уцелевшие письма, стихи и рисунки Билибина. Их чуть не три четверти века спустя, из мирного пенсионерского штата Флорида прислала в московский журнал «Наше наследие» 94-летняя Людмила Чирикова. Вот как она вспоминала о батылиманской жизни Билибина:
«Наши дачи соединялись не очень долгой, но очень крутой тропой по обрывам с виноградниками, которые спускались к берегу моря. Мой отец был связан большой дружбой с художником, и много веселых и интересных бесед за стаканом вина происходило на нашем балконе с белыми колоннами и затягивались эти беседы иногда до полуночи. Я помню, как раз Билибин выпил немного лишнего, и мы с балкона смотрели с тревогой, когда он с фонарем, в темноте, возвращался домой по этой крутой тропинке. Огонек его фонаря тревожно колыхался и вдруг, проделав петлю в воздухе, круто спустился вниз и погас. Мы все ринулись его спасать…»
Билибин писал тогда портреты Людмилы Чириковой и ее сестры Новеллы. В 1919 г. в Ялте, где собралось к тому времени немало русских художников, устроили большую художественную выставку, и Билибин повез туда написанные им в Баты-Лимане портреты, а также работы своей ученицы Люды, которой она так сообщил в письме об их успехе на выставкоме, где «жюрировали очень строго, почти по Мир-Искусственному масштабу»:
«Ваши вещи вполне понравились и, главным образом, «Натюрморт с чайником»… Судейкин и Сорин вполне одобряют мой портрет Новеллы Евгеньевны. Мне это очень приятно. Ведь это мой первый портрет, и он, по мнению Милиотти и Судейкина, лучше соринских… Вчера на выставке мне очень понравилось суждение о нем Марии Павловны Чеховой, сестры А. П. Чехова. Она мягкий человек, хорошая русская душа, которая была и будет в нашем народе, несмотря на Совдепию. Меня она знает мало, но то, что она сказала, меня тронуло. Она мне сказала, что ей все равно, что за дамы нарисованы у Сорина, а молодую женщину, нарисованную мною, ей хотелось бы видеть и услышать ее голос. Теперь я буду рисовать Вас. Я вложу в эту работу всю мою жизнь и мое умение, а так как я Вас очень люблю, то это будет хорошо сделано. Простите меня и не сердитесь, если я Вам скажу, что я здесь очень скучаю по моей новой графической ученице…
… Если бы Вы знали, какое я переживаю хорошее время. Не выставка, а нечто совершенно иное превратило все мои нервы в струны какого-то инструмента, и на душе у меня сплошная музыка. Возраста нет…
… внутри есть скрипка, и скрипка эта поет только о моей возлюбленной, а кто она – знаете Вы!
Вчера мы шуточно спорили с Судейкиным, кто из нас знаменитее? Он сказал, что он целый оркестр, а я только скрипка, и он попал в точку. Да, я скрипка, ренессансная, такая, знаете, с изогнутым луком смычком, но которым играют ангелы.
Не сердитесь за это послание и при встрече со мной нацепите на себя какой-нибудь зеленый листик, а если листка не будет, то значит, мои сны останутся только снами…»
94-летняя Людмила сообщает читателю в двух словах, со всей деликатностью и застенчивостью русской барышни о том, что она осталась глуха к исступленному зову любви:
«Листик я все-таки не нацепила, я была вольная душа тогда».
Это сообщение она подкрепляет двумя стихотворениями Билибина. Но это был еще далеко не конец романа и не конец злоключений его героев. Родители Людмилы уехали на север на поиски сыновей, а позднее уплыли из Севастополя в Константинополь. Людмила же и ее сестра поехали вместе с Билибиным в Ростов-на-Дону, где он работал в Осведомительном агентстве деникинской армии, так что успел побыть и «добровольцем» и «белогвардейцем». Потом они были все вместе в Новороссийске, где сестры Чириковы перенесли тиф, лежали обритые наголо в больнице, и, наконец, в феврале 1920 г., вместе с Билибиным отплыли в эмиграцию на корабле «Саратов». Тиф царил и на корабле. Ни в одном порту их не принимали из-за отсутствия тифозного карантина. Только в марте они добрались, наконец, в Египет, где их поместили в изоляторы карантина. Теперь Билибин писал Людмиле в женский изолятор письма с восточной цветистостью:
«О, звезда моего сердца!» «О, гранатовое дерево в полном цвету», «О, источник жизни в пустыне моего сердца!»…
Наконец, они все вместе добрались до окрестностей Каира.
«… именно тогда, – вспоминает Людмила, – Билибин потерял равновесие и запил. Для меня это была первая и трагическая встреча вплотную с его алкоголизмом».
Вопреки опасениям, запой вдруг кончился. Билибин считал, что в борьбе с пьянством ему помогут усилия воли и труд:
«Ведь пьянство – это забвение, это вера в то, чего нет. Это утешение, это надстройка над жизнью…
… Власть карандаша и бумаги твердая, трезвая власть. Как у больного апатией, так и у меня возрождается интерес к моему восхитительному и любимому делу».
Пытаясь утешить вконец отчаявшуюся Людмилу, Билибин присылает ей «философские «Рассуждения о счастье»:
«Вот я люблю пить вино. Это порок и очень скверный. Это, может быть, окончательная преграда для других людей, у которых есть гостиная, столовая, детская и все. Но для людей искусства это очень больная, обидная, словом, неприятная помеха, но не преграда. Ведь мы, имея крылья, можем перелететь через нее на зеленый луг с цветами!»
Другими словами, «Нам нет преград…»
Людмила, семьдесят лет спустя, сопровождала эту попытку философии грустными подробностями:
«А ведь жизнь его выбивалась всякий раз в такие периоды на добрые две недели, и я всегда очень это переживала».
Может, и окончательный разрыв произошел между ними именно из-за этих повторяющихся запоев…
Ну, а пока, в Каире все более или менее обошлось. Общими силами оборудовали мастерскую, нашлись помощники – некий Есаул. А также былая ученица Билибина Ольга Сандер. А главное, нашлись заказчики. Кто-то (то ли бывший русский консул, то ли «очень предприимчивый итальянец») свел Билибина с богатыми людьми из греческой колонии Каира, давшими ему заказы. Закипела работа.
В своем мемуарном очерке Людмила Чирикова ностальгически описывает новую студию, оборудованную общими усилиями, и веселые минуты работы, дружбы и, наверное, любви тоже:
«В мастерской было уже весело и уютно. У стены стояло начатое большое декоративное панно в пять с половиной метров длины и два с половиной метра ширины. Византийский стиль VI века эпохи Юстиниана. На нем было все: император, императрица, шествие придворных и богатейшие орнаменты, над которыми трудилась помощница Ольга Сандер. На мольберте стояло начатое панно «Борис и Глеб на корабле», которое я очень любила и над которым я работала. И уже подвигались иконы для маленькой греческой церкви при госпитале. Третий помощник, по прозвищу Есаул, трудился над ними, накладывая листовое золото. Наш маэстро выбрал старый стиль икон XV в., и заказчики, которые были не очень образованные люди, хотя они все же заплатили, но как говорил Билибин в свое оправдание, «довели меня до точки», в оправдание он хорошенька запил, нанял верблюда и стал разъезжать на нем по мусульманскому Каиру и по близлежащей пустыне. Работа остановилась на две недели.
Я сидела огорченная и сердитая в моем английском пансионе, когда появился у меня наверху наш араб-слуга в белом халате с красным кушаком и в красной феске, и торжественно принес на подносе карточку посетителя, на которой было написано:
«Иван Яковлевич Билибин стоит внизу
Очень огорченный тем, что случилось,
Но сердце его любвеобильно и вопрошающе:
… Солнце, солнце! Выгляни в оконце!»
И наша дружба была восстановлена, и работа пошла дальше.
Мусульманский, арабский Египет… вдохновлял на творчество нашего маэстро… Все свободное от работы время мы осматривали город и знаменитые мечети. Тогда он сделал несколько очаровательных акварелей…»
В начале 1922 г. Людмила Чирикова уехала в Берлин встречать своих родителей и братьев. Билибин еще и в конце 1922 г. посылал ей отчаянные призывы – в Берлин, а потом и в Прагу, утверждая, «что такая любовь бывает, вероятно, лишь один раз в жизни»:
«Может быть, готовность отдать за человека последнюю каплю крови (это не слова только) – чего-нибудь да стоит!
Я бы оберегал каждый шаг Ваш, и мы работали бы, и, что меня касается, я сделал бы замечательные вещи…
… Может быть, теперь издалека Вы лучше увидите Вашего горюющего друга и, может быть, когда-то что-то созреет. О, Людмилица, как я досадую, если вместо меня Вы увидите только эту слабую, исписанную мною бумажку. Если бы она умела кричать, то Вы бы оглохли от ее крика».
Впрочем, к тому времени новая невеста любвеобильного Билибина уже была на пути из Питера в Египет…
Что касается молодой художницы Людмилы Чириковой, то ей работать в Европе пришлось не слишком много. Она нарисовала обложки для книг Цветаевой и Сергея Маковского, для отцовской книги «Зверь из бездны». Уже в конце 20-х г. Людмила Чирикова-Шнитникова (если помните, Шнитников был тоже одним из баты-лиманцев) оказалась за океаном, в Нью-Йорке. В Америке ей приходилось работать чертежницей, выполнять заказы театральных мастерских и текстильной фабрики, а в глубокой старости художница жила в жаркой Флориде, в тихом городке, который назывался точь-в-точь, как ее родной город: Санкт-Петербург. Письмо из московского журнала «Наше наследие» растревожило полвека спустя ее крымские, ростовские, новороссийские и каирские воспоминания. Оказалось, что все так ясно ей помнилось, помнилось даже за год до смерти, в 1989 г. Она написала трогательные слова:
«В 1920 г., еще в России, в день моих именин, Иван Яковлевич принес мне в подарок маленькую акварельную миниатюру в старинном стиле, где на ярко-синем фоне были изображены две белые розы и красное сердце с буквами И. Б., пронзенное стрелой. И хотя это было так давно, и миниатюра эта каталась со мной по разным странам много лет – она и по сей день излучает все то же тепло и радость…»
Что касается Билибина, то он к концу того самого 1922 г. воспрянул для новой любви. Он давно уже отправлял письма и телеграммы в Петроград бывшей своей ученице, овдовевшей супруге красавца Потоцкого – Александре Щекатихиной, предлагая ей приехать вместе с сыном к нему в Каир и выйти за него замуж. Может, писал уже с самого 1920 г., когда бывшая ученица его овдовела…
На пути к новому, последнему и решающему для его судьбы браку Билибина надо непременно напомнить, что с той поры, как милая и талантливая девушка из старообрядческой запорожской семьи Александра Щекатихина начала учиться у Рериха, Ционглинского, Щуко и Билибина в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, а потом еще и у Чехонина на фарфоровом заводе, и до той поры, когда она второй раз в жизни пересекла границу и взошла на борт корабля, шедшего к египетскому берегу, утекло немало воды.
В 1910 г. способная ученица Билибина получила малую серебряную медаль, в 1911 г. – большую, а перед Великой войной она получила пенсию для заграничной поездки, побывала в Италии и Греции, надолго застряла в Париже и занималась там в академии Рансона, где учителями ее были знаменитый глава «набийцев» Морис Дени, а также не менее знаменитые Серюзье и Валлотон. Уже в первые годы работы в училище с ее знаменитым учителем Рерихом выпало молодой художнице помогать Рериху оформлять балет Стравинского «Весна священная» для антрепризы Дягилева и расписывать храм Святого Духа в имении у Тенишевой. Искусствоведы даже находят, что эскизы костюмов, выполненные молодой художницей для знаменитого балета, превосходят своим динамизмом и выразительностью те, что придумал ее учитель.
В 1916 – 20 гг. Щекатихина (а точнее уже Щекатихина-Потоцкая, ибо в 1915 г. она вышла замуж за юриста Николая Потоцкого и родила в этом браке сына, которого назвала Мстиславом) время от времени работает в театре, создает эскизы костюмов для оперы «Снегурочка» и для оперы «Демон», участвует в нескольких художественных выставках, в том числе, и в выставке общества «Мир искусства». Искусствоведы Г. и С. Голынец, изучавшие творчество А. Щекатихиной писали, что уже и ее ранние эскизы театральных костюмов отличались от костюмов ее учителя сценографии (Н. К. Рериха) большей «подвижностью мазка и динамикой форм», несколько сближающих ее театральные работы с работами знаменитой Натальи Гончаровой. Впрочем, в театре Щекатихина работала не часто, а по-настоящему она нашла себя в 1918 г., когда ее взяли работать на государственный фарфоровый завод в Петрограде. Существование и выживание этого завода было настоящим чудом: в годы разрухи, голода, террора, разгула всяческого хамства слон новой власти, крушивший посудную лавку культуры, прошел, не задев, мимо изысканно-хрупкой и, без сомнения, «буржуазной» отрасли производства – производства фарфора. Кому-то удалось доказать там, наверху, что производство это будет доходным и выгодным не только для разоренной казны, но и для целей большевистской пропаганды. Что, конечно, это будет наш, новый, «пролетарский фарфор», наш, самый идейный в мира «агит-фарфор», почти не уступающий по накалу своей пролетарской сознательности шедеврам «монументальной пропаганды», а может, даже и «Окнам РОСТа». Конечно, должны быть выработаны новые формы воздействия, да и старые можно будет приспособить для новых, высочайших «пролетарских» целей. И конечно, возглавить такое производство должен истинный мастер. Гениальный художник, знающий вдобавок промыслы и производство, умеющий улавливать дух времени, новый запах в ветре эпохи (а пахло по большей части угрозой смерти и трупами), угадывать направление ветра…
И такой художник отыскался. Отыскался, как ни странно, в новом поколении мирискусников: он сам вышел на ловца и сам встал во главе нового дела, прославив и «пролетарский фарфор», и свое имя, которое теперь с гордостью произносят не только в узком кругу коллекционеров и не только на зарубежных торгах, на каком-нибудь Сотебис, где расписанные им тарелки идут на вес золота, но и на родине, в валдайском Лыкошине (ныне снова Тверской, а не Калининской области), и в гордом Петрограде-Ленинграде (ныне снова ставшем Петербургом). Звали этого художника Сергей Васильевич Чехонин. Бенуа в своих мемуарах мельком упоминает его имя наряду с двумя другими книжными графиками нового поколения мирискусников – Митрохиным и верным учеником Билибина Нарбутом. А между тем, и до Октябрьского переворота, и, в особенности, после большевистского путча, до самого конца 20-х г. он был не последний человек в российской художественной жизни, так что, не рассказать о нем, подойдя в нашей истории вплотную и к «пролетарскому фарфору», и к новому поколению мирискусников, было бы совершенно недопустимо.
Великий мастер советского барокко
«Серп и молот на окружностях…»
Как я уже упомянул, Сергей Чехонин был из поздних мирискусников, но даже и среди поздних он стоял на особицу. Начать с того, что он не только не вышел из кругов петербургской интеллигенции, не только не учился в гимназии доброго Карла Мая, не только не кончал юрфак университета, но и вообще родился в семье машиниста и неизвестно, чему успел научиться в детстве у себя в Чудове. С пятнадцати лет он работал конторщиком, чертежником, еще кем-то, а потом приехал в Петербург, чтобы поступить на Рисовальные курсы Общества поощрения художеств. Там он проучился два года у знаменитого Ционглинского, потом еще три года занимался в Тенишевке у Репина (два из этих трех – одновременно с Билибиным). После окончания школы Чехонин уже рисовал виньетки и обложки для журналов, сотрудничал в солидных издательствах, вроде «Брокгауза» и Шиповника». Первая русская революция застала Чехонина уже довольно умелым карикатуристом. Он, правда, не сотрудничал в «Жупеле», как другие мирискусники, но зато рисовал для «Зрителя», тоже вполне сатирического журнала, рисовал для «Сатирикона» и «Нового Сатирикона», а в 1906 г. некоторое время даже сам издавал сатирический журнал «Маски». Два номера его журнала были конфискованы цензурой, и в середине 1906 г. Чехонину пришлось бежать в Париж. Один из биографов Чехонина смутно намекает в этой связи на некую близость Чехонина к сыну Г. Успенского и революционному подполью, но мне думается, не следует преувеличивать политическую заангажированность художника. Чехонин (как и Билибин, и другие) попользовался свободами 1905 г., порезвился, а чуть позднее включился в достойное оформление торжеств по случаю 300-летия Романовых. Работа есть работа…
По возвращении из Парижа в Петербург Чехонин оформляет книги Тэффи, Аверченко, Бальмонта, «Историю живописи» А. Бенуа, собрания сочинений Достоевского, Толстого, Гюго, Вальтер Скотта. Он становится одним из самых знаменитых книжных графиков столицы. Вдобавок, он блестяще осваивает другие области прикладного искусства – майолику, финифть, роспись фарфора, продолжает работать в керамических мастерских Абрамцева и Талашкина, участвует в создании майоликовых панно для московской гостиницы «Метрополь» (вместе с А. Головиным и М. Врубелем), для церкви на Большом Сампсониевском пр. в Петербурге и для собора на Полтавской улице (панно «Родословное древо Дома Роановых»). Он декорирует комнаты Юсуповского дворца на Мойке, руководит мастерскими финифти в Ростове Ярославском, золотошвейным промыслом в Торжке, производством художественной мебели в тульском Кологриве, занимает должность консультанта по кустарным промыслам в Министерстве земледелия. Он вознесся уже высоко, и он все умеет, на все руки мастер. Об удивительном искусстве Чехонина много писали и Э. Голлербах, и А. Эфрос, и Милашевский, а позднее Л. Андреева, С. Голынец, Ю. Герчук, Э. Кузнецов и др. По словам Абрама Эфроса, довоенный Чехонин был «очарователь и дамский кумир… изготовитель самых очаровательных и драгоценных безделиц, самых хрупких и самых бесцельных вещей, которые в состоянии был произвести российский императорский декаданс».
Итак, он был мастер «императорского декаданса», мастер позднего ампира…
Называя графика Чехонина художником с «комариным взглядом», Милашевский отмечал механическую четкость его книжной графики:
«К слегка намеченной горизонтальной линии он на глаз восстанавливал перпендикуляр – можно было не проверять угольником. Безупречно проводил наклонную под углом в сорок пять градусов. Делил без инструмента линию пополам, на четыре, восемь и т. д. частей. Все буквы его шрифта были нарисованы и никогда не вычерчены».
Искусствоведы замечают, как свободно варьирует Чехонин в своей графике классические темы, как легко совмещает стили, любой из которых был для него, по словам Ю. Герчука, «лишь мотивом, поводом для виртуозной интеллектуально-эстетической игры». Об этой игре стилями, об усвоении и переработке всех «измов» эпохи Чехониным так написал современный искусствовед Эраст Кузнецов:
«Чехонинский стиль – блистательная эклектика, приведенная к формальному единству холодным умом и твердой рукой художника, но сохраняющая противоречивую разнородность ее слагающих. Демонстративная вычурная ретроспективность здесь оттеняется самыми свежими приемами, выхваченными из практики живописного авангарда – кубизма, супрематизма. Отточенная стильность – почти натуралистической дотошностью изображения растительных форм соперничающая с дотошностью ботанического атласа. Суховатая тщательность – пышной чрезмерностью. Энергичность – жеманностью. Чехонин все время рискованно балансировал на грани не допускаемого высоким вкусом – на грани пошлости, безвкусности, даже безобразности, никогда не переступая эту грань…»
Но вот разразилась катастрофа, «и тот пленительный упадочный мир полетел в тартарары», но как отмечает Э. Кузнецов, Чехонин не погиб:
«В 1915 г. он еще отделывал особняк Юсуповых на Мойке, а в 1918-м – чуть не прямиком из будуара, где по сусальному серебру в красивом беспорядке разбрасывал свои вазоны с цветами, – он уже заседал в художественной комиссии при отделе изобразительного искусства Народного комиссариата просвещения вместе с «левыми».
Итак, Чехонин стал работать с «левыми» и даже нашел с ними общий язык. Вот как пишет об этом Ю. Герчук:
«Он внимательно всматривался в диковинные произведения новых коллег, умея извлекать из них нечто приемлемое. Ему для этого не пришлось становиться ни супрематистом, ни конструктивистом, он остался прежним Чехониным, хотя в его виньетках появились кубистические сдвиги формы, а в роспись фарфора вошла динамика супрематических композиций».
Искусствовед отмечает чехонинскую «игру в левизну» и в его книжной графике:
«Он как бы хвастается своей эклектичностью, способностью вместить и совместить несовместимое и противоположное: не могу по-всякому, и все у меня станет моим, чехонинским, артистически-капризно-личным, мирискуснически стилизованным, графичным, ритмичным, изящным…»
Это смешение и смещение отмечал еще А. Эфрос:
«В мистическом опьянении Чехонин сместил прошлое и будущее в настоящее. Эмблема РСФСР сплеталась у него из цветочных гирлянд отошедшего столетия, из сдвигов и разрывов футуристической эстетики 18 – 19 г. и из строгих очерков на некоем законченном фронтоне советской государственности».
Оставляя на совести Эфроса «мистическое опьянение» очень трезвого Чехонина, напомню только, что художник не только придумал в ту пору герб РСФСР, но и нарисовал советские бумажные деньги, печати, штампы и прочие важные документы «советской государственности». Он нарисовал также Ленина, Зиновьева и других начальников. В общем, чехонинский эклектизм пришелся ко двору советам. У него нашлось множество подражателей, и все дерзкие «измы» революционных бунтарей он приспособил к делу, о чем убедительно пишет Ю. Герчук:
«Препарированные Чехониным «измы» теряли свою суровость, переставали устрашать. Более того, они обретали способность украшать, проникались декоративностью чехонинского «ампира», по существу оставаясь все тем же, ничуть не «левым» чехонинским искусством. И столь же декоративными становились под его виртуозной кистью надписи лаконичных лозунгов революции, эмблемы орудий труда: Чехонин заплетал нежнейшими цветочными гирляндами серп и молот на белоснежных округлостях императорского старого фарфора. Художник примирял непримиримое».
Русские искусствоведы, старые и новые, пишут о необычайной динамичности чехонинской графики, о богатстве его графических фактур, о своеобразии его декоративного стиля – «энергичного и подвижного, изящного и броского, глубоко укорененного в художественной традиции и открытого для новаторских поисков».
Его индивидуальный изысканно-артистичный почерк, по наблюдению искусствоведов, «становился универсальным декоративным языком революционного времени».
Художник был вознагражден за эту ловкость не только лавиной заказов и гонораров, но и высокими постами, популярностью, славой, вереницей подражателей, чьи не вполне самостоятельные творения (однако попроще, чем у самого Мастера, подоступнее) со всех обшарпанных стен России глядели тогда на замордованных трудящихся.
Чехонин теперь задавал тон и, как сообщили Александру Бенуа, на одном из заседаний, заявил, что «рассчитывает насаждать вкус, как он его понимает, не посредством творчества и живого примера, а посредством запретных циркуляров, направленных против плохих образцов».
Надо признать, основатель «Мира искусства» А. Бенуа без восторга принял восхождение этой новой звезды их объединения и в своем дневнике называл Чехонина то «лилипутом», то «гномом»:
«Чехонин… снова впечатление, что через густо пропитанную одеколоном (притом дешевым) атмосферу слышишь приторный и тошнотворный запах мертвеца. Недаром он так любит цветы, но не живые прелестные цветы на полях, а те цветы, что даются напрокат из «бюро» и уже провоняли от всех гробов, вокруг которых они «дежурили»… кошмарное жало его (Чехонина – Б. Н.) не грубело, муравьиное усердие не иссякло, но зато окончательно вылезла его суть – провинциализм, жалкое, беспомощное, близкое ко всему, что есть гадкого в разных наших «Огоньках»… в гогочущем смехе гимназистов, в жеманности гризеток со Среднего проспекта. И этот человек хочет реформировать кустарное дело, учить кустарей, насаждать вкус! Это ведь преступление!»
Многие были согласны с Бенуа, однако тем временем знаменитый Абрам Эфрос все же объявил чехонинский стиль «советским ампиром». Впрочем, как отмечают более поздние наблюдатели, в частности, Э. Кузнецов, Эфрос поспешил со своим приговором:
«… едва только грезы о раздувании мирового пожара рассеялись, и империя начала застывать на одной шестой земного шара, чехонинский стиль сделался анахронизмом».
Э. Кузнецов относит этот спад чехонинского первенства к 1925 г., а к 1928 г. «застывание империи», видимо, стало казаться талантливому певцу империи угрожающим, и он попросился в Париж, на выставку, с которой, вероятно, не намерен был возвращаться, хотя и не спешил объявлять о своих намереньях.
Об эмигрантских годах чуть не всех художников, обретших славу еще на родине, принято писать в тоне драматическом или даже трагическом. Но насколько известно, ничего трагического до самого 1936 г. с Чехонином не случалось. В год приезда в Париж он выставлялся в Осеннем салоне, в салоне ювелира А. Маршака на роскошной рю де ла Пеэ (соединяющей площадь Оперы с плас де ла Конкорд), в галерее Ль’Ирондель (вместе с Р. Фальком, Н. Альтманом и своим пасынком Петром Вычегжаниным, позднее избравшим псевдоним Пьер Ино), на русской выставке в Брюсселе. Выставки его в Париже, в Копенгагене, в Берлине и в Белграде проходили и в последующие годы. Чехонин оформлял спектакли для балетной труппы Веры Немчиновой, для «Летучей мыши» Балиева. К тому же он был умелый мастеровой, а в Париже, вдобавок ко всем своим навыкам, освоил еще эмаль.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.