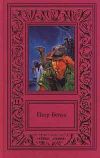Текст книги "С Невского на Монпарнас. Русские художники за рубежом"

Автор книги: Борис Носик
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
Вставная главка о преуспевшем художнике, о влюбленной поэтессе и совсем коротко – о навязчивой теме – «ехать или не ехать»…
Петербургские фон Анрепы вели свой род от шведских воинов Карла XII, взятых в плен Петром Великим и с тех пор служивших при русском дворе. Военную семейную традицию нарушил только отец Бориса Анрепа, ставший профессором медицины, получивший пост попечителя учебного округа в Харькове, а потом и пост в Петербурге, где Анрепы купили дом. Было у них также имение близ Ярославля (что позволило Ахматовой называть англомана Бориса «ярославцем»).
Харьковский друг Бориса Николай Недоброво пристрастил Анрепа к стихам, а Стеллецкий, с которым его познакомил тот же Недоброво, поддержал увлечение юноши живописью. С 1908 г. Борис учился в академии Жюлиана в Париже. Во Франции он и женился впервые – на Юнии Хитрово. Позднее, с 1911 г. он жил в Шотландии, где учился в Эдинбургском колледже искусств, а потом переехал в Лондон. Здесь Борис Анреп завел много знакомств в довольно высоких кругах, завоевал симпатии знаменитых английских художников и литераторов, провел первую персональную выставку, получил первые заказы на оформление вилл.
Больше всего он увлекался мозаикой и в Париже, одновременно с занятиями живописью у Жюлиана, Борис Анреп работал на парижской фабрике Эбеля, где изготовляли мозаики. Работал он упорно и уже перед войной смог провести в Челси персональную выставку, не оставшуюся незамеченной.
«Борис Анреп – это русский художник, который работает в Париже, – писал в связи с выставкой видный лондонский критик Роджер Фрай, – с востока он несет нам осознание своей духовной жизни, выраженное гораздо ярче и точнее, чем принято у людей западной цивилизации. По темпераменту и склонностям он символист. Но если бы он был замечателен только этим, вряд ли бы его творчество произвело на нас впечатление. Его знакомство с жизнью и искусством Запада научило его делать символ выразительным, независимо от того, что этот символ означает. Для него это символ, для других – выразительная форма. Символизм Анрепа есть ядро, вокруг которого, как кристаллы, вырастают художественные образы, ядро, являющееся символом его творческих усилий. Начинает он с идей, которые могут быть выражены словами (что часто и случается, потому что Анреп – поэт, пишущий по-английски и по-русски), но когда он берется за художественное изображение, то переходит от идей в ту область, где их точный смысл оказывается неважным. По своей сути – Анреп – художник…»
У Анрепа появляется много друзей и поклонников среди английских знаменитостей. Не меньше, чем искусством, Борис Анреп увлекался женщинами, у которых имел неизменный успех. Уже в 1911 г. он ввел в свою семью (где уже была к тому времени жена Юния) богатую певицу Элен Мейтленд, которая подарила ему дочь и сына, а также дом в Хэмстеде для ателье. Юния до времени мирилась с таким семейным устройством и уехала в Россию только перед войной.
В 1913 г. Борис Анреп напечатал свою английскую поэму «Предпсловие к Книге Анрепа», навеянную космогоническими видениями Блейка и получившую (благодаря Недоброво) отклики в России. А в 1914 г. Борис Анреп впервые получил заказ на фрески для Вестминстерского собора. С началом войны Борис с братом устремились на родину, и Борис был прикомандирован к русской армии в Архангельске. Потом он воевал в Галиции и Закарпатье, время от времени, удаляясь по каким-то делам в Англию, где у него появились высокие связи в военной верхушке. Он был удачливым, храбрым и неуязвимым…
С 1915 г. он работал в Лондоне в Русском правительственном комитете по снабжению русской армии. Британских друзей-пацифистов из Блумсбери он шокировал своим боевым патриотизмом, военной выправкой, звоном шпор, капитанскими погонами и сокрушительным успехом у женщин. Все это навеяло ревнивому писателю Олдосу Хаксли (у которого Анреп однажды увел невесту) сатирический образ художника Гомбо в его новом романе «Желтый Кром».
Борис Анреп иногда наезжал в Петроград и регулярно переписывался со старым другом Н. Недоброво, который неоднократно рассказывал ему в письмах о поэтессе Анне Ахматовой, в которую Недоброво был влюблен. В одном из своих писем (от 27 апреля 1914 г.) Недоброво советовал Анрепу сделать с Ахматовой «леонардовский рисунок, гейнсборовский портрет маслом и икону темперой, а пуще всего, поместить ее в самом значащем месте мозаики, изображающий мир поэзии». Самое поразительное, что именно так и поступил позднее Борис Анреп, притом дважды. Впрочем, к тому времени это были лишь символические портреты, даже и не символы мира поэзии, а лишь символы человеческой муки и сострадания к ним. В те поздние годы, после долгих лет разлуки с Россией Анреп сумел понять, сколь глубокого сострадания заслуживают его былые друзья и возлюбленные, оставшиеся в так хорошо ему знакомом родном Петербурге, уже носившем в ту пору подпольную кликуху Вождя.
Мозаики эти были созданы через много лет после великой войны, но мы вернемся в военный 1915 г. Если верить рассказам Анны Ахматовой, именно в тот год, на Великий Пост, в Царском Селе, в гостях у Н. Недоброво хозяин дома представил Анну Андреевну Ахматову (в ту пору, впрочем, еще Гумилеву) своему другу Борису Анрепу, и верный своему обычаю неотразимый Анреп сразу увел любимую женщину друга (не слишком, впрочем, его, этого друга, любившую). Анна влюбилась в Анрепа, но виделись они всего несколько раз, во время его нечастых приездов в Петроград: по ее собственным словам, «семь дней любви и вечная разлука». Отметим, что такая разлука бывает очень плодотворной для чувства, для фантазии, для поэтизации, для творчества (и мифотворчества). Если у Анрепа в двух его поздних мозаиках отражен облик Анны, то у Ахматовой в сборнике «Белая стая» (к которому и автограф взят из поэмы Анрепа) и в сборнике «Подорожник» знатоки поэзии насчитывают больше тридцати стихотворений, обращенных к Борису Анрепу, а ведь позднее она написала и еще…
Вернувшись в Петроград с австрийского фронта, Борис привез в подарок Анне Ахматовой деревянный крестильный крест, который он нашел в какой-то разрушенной церкви в Карпатских горах. Она хранила его до самой смерти: он и сейчас в музее в Фонтанном доме. Подарок свой Борис сопроводил четверостишием:
Я позабыл слова, я не сказал заклятья,
По немощной я только руки стлал.
Чтоб уберечь ее от мук и чар распятья,
Которые я ей в знак нашей встречи дал.
13 февраля 1916 г. Ахматова и Борис Анреп вместе слушали поэму Недоброво «Юдифь». В тот вечер Ахматова передала Анрепу «залог любви» – черный перстень.
Февральская революция застала Анрепа в Петрограде. В мемуарном очерке, написанном перед смертью, он вспоминал:
«Революция Керенского. Улицы Петрограда полны народа. Кое-где слышны редкие выстрелы. Железнодорожное сообщение остановлено. Я мало думаю про революцию. Одна мысль, одно желание: увидеться с А. А. Она в это время жила в квартире проф. Срезневского, известного психиатра, с женой которого она была очень дружна. Квартира была за Невой… Я перешел Неву по льду, чтобы избежать баррикад около мостов… Добрел до дома Срезневского, звоню, дверь открывает А. А. «Как, вы? В такой день? Офицеров хватают на улицах».
«… Она волновалась и говорила, что надо ждать больших перемен в жизни. «Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции, будет, может быть, хуже».
Это была их последняя встреча перед полувековой разлукой. Как только кончилась забастовка, Анреп первым же поездом двинулся в Англию – через Финляндию, через Норвегию…
Вспоминают, что Анреп и раньше признавался друзьям, что предпочитает «английскую цивилизацию разума» российскому тогдашнему «религиозному политическому бреду». Стихи Ахматовой, ему посвященные, как будто подтверждают эти слова:
Ты говоришь, что вера наша – сон
И марево – столица эта.
Ты говоришь – страна моя грешна,
А я скажу – твоя страна безбожна.
Пускай на нас еще лежит вина, —
Все искупить и все исправить можно.
Анреп никогда больше не возвращался в Петроград. В 1918 г. он радушно принимал в Лондоне Гумилева, о чем пишет английский биограф Анрепа: «… Николай Гумилев, будучи в Лондоне и работая с Борисом в шифровальном отделе… читал свои стихи в гостиной дома на Понд-стрит. После чего леди Констанс Ричардсон танцевала в обнаженном виде, а русские офицеры смотрели на нее, открыв рот. В тот раз Борис дал Гумилеву отрез шелка, чтобы он передал его Анне Ахматовой», которой Гумилев и рассказал о Борисе по возвращении: «Семья его в деревне, а он или на службе, или в кафе».
В знаменитых своих стихах, посвященных Анрепу, Ахматова писала, что он напрасно звал ее за границу и что сам он «загляделся на рыжих красавиц». Но к тому времени она уже знала наверняка о первой «рыжей красавице» из новой серии разлучниц. Это была никакая не англичанка (и не рыжеволосая, а черноволосая и черноглазая, восемнадцатилетняя красавица и вдобавок свояченица Бориса Маруся Волкова, сестра братниной жены). Анреп плыл с ней на пароходе, возвращаясь в Англию, и еще в пути стал ее возлюбленным. Сойдя на берег, он привел ее в свой семейный дом, ко второй жене Элен и двум детям, как некогда привел саму Элен в дом Юнии. Оно может показаться странным, это вполне магометанское стремление селить всех своих жен и любовниц под одной крышей, но оно не так редко наблюдалось у тогдашних героев-любовников. В конце концов, ведь именно так поступил и третий муж Ахматовой Николай Пунин. Благожелательные биографы объясняют это российским жилищным кризисом, но на Англию в ту пору подобный кризис еще не обрушился…
Маруся Волкова и удалой денщик Анрепа стали со временем первыми ассистентами мозаичиста…
С отъездом Анрепа в Англию его образ занимал все большее место в стихах Ахматовой. И чем дальше, тем горше звучали ее обвинения беглецу, изменнику, отступнику. Сперва это были стихи о простой любовной измене, но мало-помалу они переросли в стихи религиозно-патриотические, обличающие «безбожную» Европу, а заодно и всех «отступников»-эмигрантов, «предавших» родину, революцию, молитвы и грядущие русские страдания… Очень знамениты стали эти патриотические стихи:
Ты – отступник: за остров зеленый
Отдал, отдал родную страну.
Ниши песни и наши иконы,
И над озером тихим сосну.
Фантазия поэтессы разыгрывалась, плач эмигранта чудился ей под собственным окном:
… Для чего ж ты приходишь и стонешь
Под окошком высоким моим?
Дальше – больше. В апреле 1918 г. в «Воле России» было напечатано с посвящением Аанрепу еще одно знаменитое ахматовское стихотворение, впрочем, пока еще без последних четырех строк (добавленные поэтессой позднее): эти две отчаянные строфы были напечатаны впервые лишь в 1967 г., да и то в Мюнхене):
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и покойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
Придуманный поэтессой «голос», который звал Ахматову оставить Россию, это, по верному наблюдению историка О. Казниной, «внутреннее сомнение и соблазн, который она отвергла как временную слабость». И ни в чем (кроме очередных любовных увлечение – Б. Н.) не повинный Анреп «был символом этого соблазна».
Остается с печалью добавить, что «внутреннее сомнение», «временная слабость» и «соблазн», вероятно, не раз возвращались в тяжкие минуты жизни. Скончался Блок, которого не выпустили за границу для лечения, расстреляли ни в чем не повинного Гумилева, и раз, и два арестовали их сына, потом гноили в лагерях… Очень скоро Ахматову запрещено было печатать: на вершине славы она замолчала… Боже, сколько боли, муки и страхов. Пытаясь вызволить сына из-за колючей проволоки, она писала какие-то письма тирану, какие-то гимны, была на время прощена, приобщена к мощному патриотическому хору (таких голосов не хватало). Может, и сына б ей отдали, но однажды, через двадцать лет осторожности и страха, некий человек из «безбожного» Лондона (да еще из британского консульства в Питере) вдруг явился к ней домой и показался ей Гостем из Будущего. Его визит и их единственная светская беседа дорого обошлись бедной женщине: на весь мир прозвучавший полицейский окрик Жданова и еще чуть не десять лет унизительного смертельного страха…
Еще позднее, в ахматовской «Поэме без героя» лирическая героиня пытается напомнить этому Гостю из Будущего (ставшему одним из персонажей поэмы) о том самом «голосе» из прославленной строки («Мне голос был…»), но Гость в ответ лишь укоряет бедную женщину вполне цинично: «У тебя мнимые воспоминания».
Нет, не было голоса, и никогда не плакал Анреп под ее окнами… А чем же он был занят, «отступник» и изменщик Анреп?
У него полвека была мастерская на бульваре Араго в Париже, которой больше тридцати лет (с 1931 г.) заправлял его помощник, уроженец Николаева, русский грек Леонидас Инглези, который учился когда-то в московской школе живописи и в мастерской Юона, был гласным городской Думы в родном Николаеве, радел о создании в этом городе художественного музея, был изгнан из родного дома, но не убит – сумел выехать в Париж в 1928 г. Анреп работал в этой своей мастерской еще с 1926 г., но главные его заказчики были в Англии и главным трудом жизни были полсотни мозаичных напольных картин для лондонской Национальной галереи. Былой друг Стеллецкого, Борис Анреп продолжал традиции монументальной византийской мозаики. В символических фигурах его аллегорий («Труды жизни», «Современные добродетели», «Пробуждение муз» и др.) можно узнать У. Черчилля, Э. Резерфорда, Т. С. Элиота, в аллегории «Сострадание» – Анну Ахматову, а в мозаике «Я здесь лежу» увидеть даже будущую могилу самого художника.
Знаменитыми стали и напольные мозаики Анрепа для Английского банка в Лондоне, его мозаичное панно для лондонской греческой церкви, мозаики для собора в ирландском Маллингере, для Вестминстерского собора… Много десятилетий напряженной творческой, светской, писательской, мужской жизни… Может быть, не вполне безмятежной, не лишенной сомнений и угрызений совести… Недаром же, в 1965 г., когда стало известно, что пережившая все лишения, муки и страхи его мимолетная любовь, великая Анна Ахматова приезжает в Англию по приглашению Оксфордского университета, Борис Анреп сбежал в Париж под тем хлипким предлогом, что пора было там ликвидировать старую добрую парижскую мастерскую на бульваре Араго. Художнику ведь и самому было уже за восемьдесят… Но 76-летняя Ахматова проявила упорство в своих поисках прошлого, разыскала его номер в парижской телефонной книге и добилась свидания – первого их свидания за полвека. Он был одним из тех немногих, кто уцелел в их кругу…
Они встретились, два очень немолодых человека, ничего. Впрочем, не забывших…
Беседа не клеилась. Она пыталась напомнить ему о 13-м февраля !916 г., когда она передала ему перстень, который где-то давно пропал. Пыталась оживить чувства. (Может, в интересах безжалостной своей повелительницы – музы… А может, этого требовала былая любовь и былая женская обида…)
Анреп покрылся холодным потом: ну да, она намекает на кольцо… Но что там могло уцелеть – в суете жизни, в тысяче встреч, сотне любовей… В разбомбленном Хэмпстеде, в разбомбленном Лондоне, в нетронутом среди чужих бед и страданий, легкомысленном и чужом для них многолюдном Париже…
Позднее Анреп написал воспоминания об Анне, которые он просил напечатать после его смерти (она не заставила себя ждать). В них он кается, говорит о своей подлости и трусости, но все же не решается говорить о главном – говорить о жизненной неудаче или грехе. Он цепляется за щадящее мелочные проступки этой жизни, вспоминает о пропавшем кольце:
«Трусость, подлость. Мой долг был сказать ей о потере кольца. Боялся нанести ей удар? Глупости, я нанес ей еще бо́льший удар тем, что третировал ее лишь как литературный феномен… Я ищу себе оправдания… я его не нахожу.
5 марта 1966 г. А. А. скончалась в Москве. Мне бесконечно грустно и стыдно».
Он подписал свою рукопись, а ниже приписал другими чернилами ее стихи 1917 г., – точно отыскав у нее самой оправдание для своей небрежности:
Это просто, это ясно,
Это всякому понятно –
Ты меня совсем не любишь,
Не полюбишь никогда…
Через три года после их последней встречи, известный в Англии русский художник-мозаичист отправился на последний суд и сам стал «литературным феноменом», может, даже в большей степени, чем феноменом искусства. Связанные с ним три с лишним десятка стихов самой знаменитой русской поэтессы XX века и одни роман известного английского романиста могли бы обессмертить любого художника, если б за спиной у него не было вдобавок столь знаменитых собственных мозаичных панно…
Магия красок и вкус допетровской Руси
Если вы считаете, что бюсты художника-поэта Бориса Анрепа и членов его семьи увели нас слишком далеко от их автора Дмитрия Стеллецкого, мы напомним, что по наблюдению Бенуа, Стеллецкий был «в собственном представлении … именно скульптор». Бенуа объясняет эту самооценку молодого Стеллецкого решительно ошибочной, ибо уже в ранней «скульптуре Стеллецкого стал сказываться живописец. Началось это в тот момент, когда он принялся раскрашивать свои фигуры или прислонять их к стене».
Колористом-живописцем в первую очередь считает Стеллецкого и пристально наблюдавший его стенопись, его книжную графику, и главное его знаменитые листы к «Слову о полку Игореве» искусствовед Сергей Маковский:
«Тут «магия» – и от цвета. Техника, которая применялась Стеллецким, – ярко-красочная гуашь – побуждала его к «цветному мышлению».
Это последнее относится к рисункам Стеллецкого, иллюстрирующим знаменитейшее произведение древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», но дать подробное описание этих листов (которые многие считают шедевром Стеллецкого) Маковский не берется:
«Нельзя описать графику, столь насыщенную цветом, символикой цвета: она еще иррациональнее, чем графика blanc et noir».
Маковский признает, что смысл изображения на листах только намечен, а главное здесь – «декоративное заполнение бумажного листа», которое «доведено местами почти до орнамента».
Но откуда эта вязь старинных узоров, что они воспроизводят? И в точности ли воспроизводят?
Маковский не отрицает великой учености Стеллецкого, но отмечает в его графике прежде всего «живое чутье художника». Вот как он пишет об этом:
«Стеллецкий не претендует на точность, он берет у старины все, что отвечает по духу одиннадцатому-двенадцатому векам… Он черпает из «обширной» древности, ему близкой, любимой, свободно выбирая то, что нужно для художественного целого, скрепленного скорее единством его собственного вкуса, чем исторической справкой… Вот почему впечатление непосредственности, свежести дают эти иллюстрации к «Слову», хоть и напоминают столько древней красоты: «звериные» буквы Остромирова Евагнелия: лицевое «Житие Бориса и Глеба» и более ранние, византийские книги; Кенигсбергскую летопись; «Хождение св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова» по рукописям XV и XVI вв. (изд. Н. П. Лихачева); соборы в Юрьеве-Польском и Владимире-на-Клязьме; народные узоры великорусского севера; фрески IX века в знаменитом аббатстве св. Савена в Пуату и романские ткани в Байе, изображающие поход… в ту отдаленную эпоху, когда искусство европейского Запада и Востока еще дышало единой сутью византийского наследства.
Где только ни был Стеллецкий, из каких музеев и библиотек не извлекал частицы того декоративного единства, что вызывает в нас тем меньше сомнений, чем больше мы ценим оригинальность «чудом жившего среди нас» русского мастера».
«… Надо ли повторять, что не в документальной точности прелесть этих столь русских иллюстраций, а в духе таланта, веющем «где хочет».
К тому же выводу привели иллюстрации к «Слову о полку Игореве» и самого, так долго упрекавшего Стеллецкого в «этнографичности» и подражательности Александра Бенуа. Увидев эти купленные Третьяковской галереей листы, Бенуа написал, что Стеллецкий творил «не подражание древним монахам-миниатюристам, а нечто совсем-совсем им родственное по духу»:
«Эти иллюстрации к «Слову» тем и изумительны, что в них вовсе не сказалось наше современное понимание древней поэзии, а сказалось подлинно древнее отношение к ней. Без всякой позы, свободно, широко, гибко Стеллецкий сочинял свой узорчатый припев, и самое замечательное здесь, помимо красоты красок и линий, это именно свобода, естественность, непосредственность плетения. Когда-то творчество Стеллецкого я готов был клеймить словом пастиччио. Ныне я вижу его свободную основу, и о «подделке» не может быть речи».
Так писал «западник» Бенуа о яром антизападнике и ненавистнике всякого европеизма Стеллецком. «Мирискусники не чуждались его, – отмечал С. Маковский, – признавали талантливость его византийствующих композиций – в качестве индивидуалистов-эклектиков они соглашались и на этот прием художественного самоутверждения. Но Стеллецкий думал не о художественном приеме, не о стилизации, он грезил о Реформе (с большой буквы), а новой эре искусства, отказавшегося от Ренессанса, об искусстве, верном древнему канону; плоскостному, двухмерному изображению, обратной перспективе, анатомической отвлеченности, красочной символике… Притом верность далекому прошлому представлялось ему как свободное вдохновение… отнюдь не слепое подражание…»
Признавая несомненное и немалое дарование Стеллецкого, Маковский (как, впрочем, и Бенуа) считал, что «роль художественного реформатора была Стеллецкому не по плечу». Впрочем, те идеи, которые вдохновляли Стеллецкого, разделяли в ту пору многие. Переход от Московской Руси к императорской России многим казался слишком резким. И при последних русских императорах были сделаны попытки возврата к допетровскому искусству – «к декоративной восточности церковных куполов и узорчатых деталей».
Это была плохо понятая «русскость». Однако тогда же вырос интерес к подлинным достижениям русского искусства XI – XVI вв. Все творчество Стеллецкого и было «попыткой восстановить художественный вкус допетровской Руси».
Бенуа считал, что, несмотря на отдельные удачи (особенно в области сценографии), такие попытки, вполне многочисленные в ту пору, ни к каким большим достижениям привести не могли. В середине 30-х г. XX в. Бенуа рассказывал в одном из своих писем:
«В среде самого Мира Искусства… производились всякие опыты создания или возрождения какого-то русского декоративного стиля (художники, которые уплатили дань так называемому «национальному романтизму», претворяя в своем творчестве мотивы народного прикладного и декоративного, а также древнерусского искусства (вспомним о деятельности Поленовой, Якунчиковой, Ап. Васнецова, Врубеля, Стеллецкого, Малютина, Коровина, Головина, Рериха, Билибина)… но эти опыты носили скорее характер эстетического прихотливого дилетанизма, и во всяком случае они (несмотря на поощрение двора и некоторых представителей высших кругов) ни к чему серьезному не привели».
С еще большим скептицизмом рассматривает Бенуа в том же письме 1934 г. тогдашние русские опыты в области религиозной живописи:
«Спорить о том, какую роль сыграло вообще в культурном развитии России христианство, не приходится – даже в наши дни, когда… мысли, высказанные Достоевским об особенной призванности и святости России, скорее представляются поэтическим визионерством, нежели подходят под понятие «установленного реального знания». Самая идея “La Sainte Russie” в дни Сталина должна казаться призрачной, ирреальной и даже слегка иронической. И особенно она может казаться такой, если мы обратимся к русскому искусству. Именно для укрепления этой идеи, для придачи государству Российскому ореола «национальной святости» было, накануне революции, сделано еще больше усилий со стороны правительства и высших кругов, нежели для возрождении исконных форм русского декоративного стиля. И однако все эти усилия и все достижения их относились к настоящему религиозному художественному творчеству, как мистика всяких салонных «дилетантов религиозности» относилась к подлинной религиозной мистике…
Но и свободнее от всякой правительственной опеки искусство религиозного характера – Врубеля, Стеллецкого, Петрова-Водкина – было, в сущности, милым, талантливым, но по существу поверхностным дилетантством – разновидностью той же пассеистической игры, какой были все другие «художественные эвокации» (заклинания – Б. Н.). По существу, это все не было серьезно. Религиозное творчество Иванова было глубоко и серьезно, не менее серьезно, нежели творчество Беато Анжелико. Хотя оно было обречено на неудачу в смысле своего применения к церкви (ибо канонически оно не было приемлемо), оно все же означало великое трепетание, полное поглощение души – и если хотите, то именно души «русской» (если вообще все еще верить в исключительную религиозную призванность русских людей).
… Но творчество упомянутых выше художников, бравшихся в дни Николая II за религиозные темы… не было серьезным – не говоря уже о том, что оно ни в коей мере не приоткрыло завесы в потустороннее, оно не было отмечено и малейшим отблеском высшего порядка».
По мнению Бенуа, «кое-что обещал… Врубель», но и Врубель не служит «подтверждением того, что Русь была отмечена особой благодатью (следы ее в живописи уже теряются к концу XVII в.), что Россия есть преимущественно страна христианской культуры».
В написанной за четверть века о процитированного мной письма статье о Стеллецком Бенуа связывает успех религиозной живописи Стеллецкого с ее декоративностью, напоминая замечание Маковского о том, что Стеллецкий «игнорирует человеческий лик»:
«Лиц у Стеллецкого даже нет совершенно, – пишет Бенуа, – То, что он выдает за лица, это – иконописные схемы. Но Стеллецкий в своем аскетическом презрении к человеческому лицу, к человеческой жизни, идет еще дальше, нежели Рерих, и в нем оно выражается в какой-то полной чуждости ко всему, что живет, что играет, любит и страдает. Вот, пожалуй, почему искусство Стеллецкого в высшей степени декоративно. Я бы даже сказал, что основная стихия Стеллецкого: декоративность – в этом преимущественно смысл его искусства, точно так же, как преимущественный смысл традиционной Церкви – та же декоративность, то есть литургические чары. Не соблазны мысли, не тревоги душевных сомнений, не радость сознательного экстаза – а погружение в какие-то дремотные глубины, плетения каких-то форм с выдохшимся смыслом и лишенных силы первоначального воздействия. Причитание плачем – уже не заклинание для нас, а баюканье: образы Стеллецкого не предметы молитвы, не откровения мысли, а баюканье, песни с непонятными словами и скорее совсем без слов».
И далее Бенуа высказывает пожелание, которое оказалось пророческим, которое осуществилось, и притом в обстановке, которую и сам Бенуа, и Стеллецкий вряд ли могли бы вообразить в те мирные годы в милом их сердцу Петербурге:
«Мне бы хотелось видеть целые соборы, расписанные Стеллецким. Не думаю, чтобы в них было хорошо молиться, и едва ли покидали мы их с тем «трагическим» чувством, которое вселяют в нас религиозные образы Врубеля. Но чисто художественное наслаждение от таких целостностей было бы большим, и мне (по опыту кажется – неисчерпаемым. Возродились бы подлинные древнии гармонии, возродилась бы вся чудесная внешняя, эстетическая сторона древних действ. Хороводы темных теней по стенам давали бы иллюзию какого-то печального неподвижного праздника, гармонии коричневых, желтых, синих и пурпурных красок услаждали бы глаз, не утомляя его и не приедаясь. В таких храмах казалось бы, что все еще жива Византия и подлинна вся показная сторона ее искусства, ее одежда была бы налицо. А что вообще осталось от Византии, кроме риз ее?»
Пожелание Бенуа сбылось через полтора десятка лет. Но каких лет! За эти годы исчезли с лица земли и «Аполлон» и «Речь», в которых сотрудничал Бенуа, пала монархия, был позорно переименован истерзанный Петербург, крушили его храмы, разочаровался в большевистских миротворцах и строителях сам бедный Бенуа и, бросив налаженный быт и все нажитое, осел в Париже. Но зато, каким это ни покажется странным, «безбожный» Париж устоял, и именно в Париже осуществилось давнее пожелание главного мирискусника Бенуа о храме Стеллецкого и осуществился давний замысел самого Стеллецкого. Жив еще был в ту пору и бывший редактор «Аполлона», давний поклонник творчества Стеллецкого искусствовед Сергей Маковский, который и написал позднее, что «из всего, что за сорок лет эмиграции создано было в художественной области эта роспись (роспись Стеллецкого в новом храме – Б. Н.) – значительнейшее явление».
Что же до чувств, испытываемых во время службы в знаменитом храме, расписанном Стеллецким, читатель сам может их проверить, побывав на воскресной службе. К этому и призывал Маковский полвека назад:
«Нужно присутствовать на одной из … торжественных монастырских служб, чтоб почувствовать, насколько умным, вдохновенным является этот художнический подвиг как свидетельство о возрождении нашего христианского сознания».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.