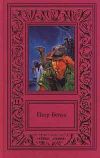Текст книги "С Невского на Монпарнас. Русские художники за рубежом"

Автор книги: Борис Носик
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
Улыбка египетской царицы, глаза великого учителя и бедная принцесса серебряного века
На петербургской выставке «Мира искусства», а потом и в рамках парижского Осеннего сезона, на устроенной Дягилевым в том же 1906 г. русской экспозиции выставлялась молодая русская художница, чьи не слишком многочисленные портреты и картины, а также поздние религиозные росписи в храмах немецкого религиозного движения «Христианская общине» могли бы ныне принести известность любой коллекции, не грозя разореньем при покупке, но суля обеспечить и радость поиска и дальнейшее обладание раритетом…
Что до автора этих строк, то легкий, призрачный силуэт этой загадочной, взбалмошной художницы впервые замаячил в мире моих «избранных призраков» каких-нибудь лет тридцать тому назад в тогдашнем полуреальном, полупридуманном нами Коктебеле… Я тогда впервые поселился с хрупким своим семилетним сыночком в «писательском» парке близ Дома Волошина, подружился со смотрителем Дома Володей Купченко и стал время от времени, в свободную от отцовских обязанностей минуту – то утром, то в полдень, а то и в полночь, в полнолунье – навещать волошинский кабинет, где по-прежнему, как в те золотые времена, до потопа, не взирая ни на пуганых писателей (совпис), ни на их милых жен (жопис), ни на вдову бедного Макса Марью Степановну, все так же загадочно улыбалась каким-то своим тайным мыслям египетская царевна Таиах из парижского музея Гимэ…
Тихо, грустно и безгневно
Ты взглянула. Надо ль слов?
Час настал. Прощай, царевна!
Я устал от лунных снов.
Эти стихи Волошин написал (и тут же подарил их своей невесте) в Париже, в самом начале века. Невесту звали просто Маргарита (Маргарита Васильевна Сабашникова), но он звал ее, конечно, загадочней – Маргоря, Аморя, и я по молодости лет еще и не знал в тот первый коктебельский год, как надо опасаться всего этого амурного аморно-маргорного морока. Мы все балдели тогда от волошинских или ивановских стихов, от коктебельских чужих романов, от былых принцесс Серебряного века, не предвидя от этого для себя никакой беды: да что там может случиться, думали мы, – век уже на дворе не Серебряный, а вполне Оловянный, хотя залив все еще трепещет дымкой серебряной фольги, на дальних пляжах таятся лунные камни – сердолики, а с лунно-бледных, еще не загорелых женщин так легко спадают в Коктебеле одежды…
Помню, как потом, в то же лето, беда грянула в моем собственном доме, как я, едва выжив, спасался от нее писанием романной прозы, и первый мой роман был, конечно, о Коктебеле. В роман попали и равнодушная улыбка древней египетской царицы, и былые неотвязные коктебельские призраки, и, конечно, Аморя…(1)
(1) См. Б. Носик. Свет в конце аллеи, Коктебель. Изд-во «Текст», Москва, 2006
Крымская подруга Волошина и Амори (Евгения Герцык) написала когда-то о ней вполне элегантно, хотя и вполне безжалостно:
«… не запомню другой современницы своей, в которой так полно бы выразилась и утонченность старой расы, и отрыв от всякого быта, и томление по необычно-прекрасному. На этом-то узле и цветет цветок декадентства.
Старость ее крови с востока: отец из семьи сибирских золотопромышленников, породнившихся со старейшиной бурятского племени. Разрез глаз, линии немножко странного лица Маргаритиного будто размечены кисточкой старого китайского мастера. Кичилась прадедовым шаманским бубном».
Как видите, подруга Герцык ищет корни пресыщенности, декаданса, тонкости и таланта «тоненькой девушки с древним лицом» не на обживаемом россиянами (самой Аморей в первую очередь) предвоенном Западе, а на древнем Востоке. Сабашниковы и вправду пришли с востока, из пограничной Кяхты. Отец Маргариты, Василий Михайлович, был потомок золотопромышленников, и в «египетском» вестибюле его московского особняка на скрещенье Большой и Малой Никитской лежал в напоминанье об истоках семейного богатства мешок с золотоносным песком. Отец и сам торговал, не слишком, впрочем, успешно, но вот братья его и Михаил, и Сергей, и Федор (подобно потомкам других русских богачей-предпринимателей) ушли в культуру и искусства. Михаил с Сергеем создали в Москве прекрасное книжное издательство, в котором вышли первым изданием совершенно замечательные, всем нынче известные русские книги – шесть сотен книг. Издательство это прославило имя братьев Сабашниковых и Михаила, и Сергея. Меньше известны были подвиги старшего из братьев, Федора, который был поначалу крупным золотопромышленником, а позднее стал искусствоведом, великим знатоком и «Кодекса» и, вероятно» «кода» Леонардо да Винчи. После смерти итальянского библиофила графа Мандзони и распродажи его коллекции страстный поклонник Леонардо да Винчи Федор Васильевич Сабашников купил рукописную тетрадочку, оригинал таинственного «Кодекса о полете птиц».
В 1893 г. именно Федор Сабашников напечатал в Париже первые 300 экземпляров «Кодекса», приложив к каждому экземпляру копию манускрипта. А в 1900 г. Федор Сабашников купил и выпустил в свет еще один манускрипт да Винчи… В какой-то связи с этими издательскими подвигами Федора стояло таинственное убийство его брата-издателя Сергея – через год после смерти Федора…
В такой вот «восточной» семье родилась будущая художница и писательница Маргарита Сабашникова.
Детство ее прошло в Москве, а с двенадцати лет она уже странствовала с родителями по всей Европе – не спеша переезжали из страну в страну, с одного курорта на другой, добрых три года.
В конце 1890 г. молоденькая москвичка приехала в Петербург и поступила в Рисовальную школу княгини Тенишевой, где занималась у Репина. Примерно в эту пору и увидел ее впервые будущий собрат по антропософскому обществу поэт Андрей Белый, который так описал ее в своей книге:
«Сидела протонченная семнадцатилетняя бледно-снежная девушка, млеющая от собственной тонкости: золотые кудри, перловое лицо, голубые, расширенные от изумления перед всем, что ни есть (не то перед собой), глаза – вызывали впечатление, что это не барышня, а вздох, веющий в ухо: «Как странно!»
Вот такая «млеющая от собственной тонкости» девушка желала «совершенствоваться в искусстве», чтобы потом «воздействовать искусством» на людей и способствовать улучшению жизни. И конечно, она должна была получить ответ на проклятый вопрос – о смысле жизни. За ответом она отправилась в Москве к великому учителю Льву Толстому, но великий старик сильно ее разочаровал и озадачил. Он сказал, что она должна прежде всего отказаться от своего образа жизни состоятельной девушки, должна отказаться от денег, жить с народом и жить не по лжи. И еще Толстой обругал искусство вообще, и обругал, в частности, картину ее любимого художника Врубеля «Хождение по водам». В заключение великий старец велел Маргарите бросить всякие чудеса и суеверия, а читать рекомендовал пересказанное им самим Евангелие, «очищенное от всякого мистического вздора».
«Я не поверила своим ушам, – вспоминала Маргарита каких-нибудь сорок лет спустя, – … как следует понимать чудеса в Евангелии, я не знала. Но я знала одно: именно в мистическом и таинственном этого сочинения кроется суть христианства, а не в моральных нравоучениях».
Девушка отправилась в имение, там в роскошном цветущем яблоневом саду она читала Бхагаватгиту, и мир «был мечтой, майей».
Позднее она продолжала занятия живописью в мастерских у Валентина Серова, а также у Константина Коровина. Ей запомнилось, как жгучий красавец и говорун, талантливый Коровин подходил к ней, чтобы исправить ее работы:
«он останавливался около меня и шептал мне на ухо что-то о красоте красок, которыми были написаны модель и фон.. Он шептал: «Когда я вижу Вашу манеру рисовать, я могу представить, что Вы могли бы написать картину…» И он описывал ее приблизительно так: «Снег за окнами с голубыми тенями – а на переднем плане кто-то в белом легком платье с маленькими фиолетовыми цветочками и т. д.». Шепот его действительно вдохновлял – я делала тогда большие успехи».
В 1903 г. в знаменитой галерее Щукина в Москве Маргарита повстречала русского поэта, который тоже учился живописи. Он уже был парижский завсегдатай, был свой в русском салоне художницы Кругликовой, которая так вспоминала о первом его появлении:
«Стремительно появляется толстый юноша с львиной шевелюрой, в пенсне на широкой ленте, и заявляет с изысканно-вежливым поклоном, что он имеет рекомендации со всех концов мира… «Садитесь»… «А можно мне тоже порисовать? Я никогда не пробовал». Даем ему мольберт и бумагу…»
Сам Волошин в предисловии к каталогу своей выставки 1930 г. развивает эту легенду, рассказывая, как назавтра после визита к Кругликовой он купил краски, лист бумаги «энгр», взял в ресторане кусок мякоти непропеченного хлеба «и стал художником».
Конечно, в обоих рассказах – и в этом «я никогда не «пробовал», и в этом «стал художником» можно без труда распознать невинное кокетство: кто же тогда из грамотных людей, из тех, кто получил мало-мальское образование, не учился рисовать и «никогда не пробовал». Что тут правда, так это то, что Волошин и впрямь очень долго оставался любителем-художником. Ну а что до выставки 1930 г., для которой он написал эту байку, то она так и не состоялась. Впору было не выставки готовить в том 1930 г., а искать надежное убежище в глухом углу Сибири, искать, где можно укрыться от грядущего ужаса. Волошин ушел от него вовремя, скончавшись в 1935 г., до первого допроса…
Возвращаясь в мирный парижский салон Кругликовой, в идиллическое начало страшного XXв., надо отметить, что молоденький Волошин, симпатичный толстяк с львиной шевелюрой, очень скоро стал душою этого художественного кружка и вообще фигурой вполне заметной в кругах тогдашней русской эмиграции (той Первой русской эмиграции, которая была действительно первой, потому что и революция случилась тогда в России «Первая»). И о Кругликовой, и о молодом Волошине, и о молодой волошинской супруге забавно написал в своих мемуарах Александр Бенуа – в главе, посвященной его последним бретонским каникулам 1905 – 1906 гг.:
«… мы как раз тогда очень сошлись с Елизаветой Сергеевной (Кругликовой – Б. Н. ), и это несмотря на то, что ее искусство (и особенно присущий ему несколько любительский оттенок) не могло нам импонировать… Вовсе не импонировало нам и старание Кругликовой идти вместе с веком, быть передовой, ā la page ( в ногу со временем – Б. Н.). Все это, однако, не мешало этой некрасивой и стареющей девице обладать большой «притягательной» силой. Она отличалась исключительной силой темперамента, страстно всем интересовалась, что и позволило ей устроить у себя в Париже, на улице Буассонад, что-то вроде русского художественного центра, усердно посещаемого не только русскими. Была она и очень отзывчива, разные бедняки и неудачники нередко прибегали к ее кошельку… непременным гостем Кругликовой бывал добродушный Макс Волошин, дружба у меня с которым тогда и завязалась. Жил он где-то по соседству на бульваре Эдгара Кине, снимая мастерскую скульптора au rez-de chaussèt (на первом этаже – Б. Н.). Несмотря на молодость, лицо его было украшено густой рыжей бородой, а на плечи падали такие же рыжие вьющиеся волосы, что придавало ему какое-то сходство с древнегреческим Юпитером. При этом он был очень близорук, и благодаря этому было в его взгляде нечто «отсутствующее», а в сложении этого коренастого, довольно полного человека не было ничего величественного. Не совсем было понятно, почему ему понадобилась мастерская художника, раз он тогда живописью не занимался, но возможно, что он уже тогда в интиме что-то пробовал, что пригодилось ему впоследствии – когда он вместе с молодой, прелестный и талантливой женой М. В. Сабашниковой расписывал, собственными руками построенный «храм теософов», и тогда, когда он, поселившись безвыездно в Крыму, в Коктебеле создал длинную серию очаровательных акварельных пейзажей…»
Итак, вскоре после их московского знакомства Волошин и Маргарита снова встречаются, уже в Париже, и там, как вспоминает она, «по галереям Лувра, в садах Версаля медленно зрел их роман – не столько роман, сколько рука об руку вживание в тайну искусства». Волошин щедро делился с ней своими восторгами и знаниями.
«Изумление, шок…» – записывает она, впрочем, без особой уверенности, а в следующий приезд даже воображает «страшный, замкнутый в себе самом, ослепленный мир, безудержно несущийся к пропасти…»
Подруга Маргариты и Макса Евгения Герцык верно поняла, что и на вершине их общего «вживания в тайну искусства» томящейся и пылкой девушке бывало с ним скучновато:
«…он жадно глотает все самое несовместимое, насыщая свою эстетическую прожорливость, не ища синтеза и смысла, – вспоминает мемуаристка, – Пышноволосый, задыхающийся в речи от спешки все рассказать, все показать, все воспринять. А рядом с ним тоненькая девушка с древним лицом брезгливо отмечает и одно, и другое, сквозь все ищет единого пути и ожидающим и требующим взглядом смотрит на него. Он уставал от нее, уходил».
И все же они много бывали вместе – то в Лувре, то в парижских парках, то в музее Трокадеро, то в старинных католических храмах. Вот запись Волошина, помеченная 7 июня 1904 г.
«Мы утром поехали в музей Гимэ. Я сказал на конке: «Мне кажется, что эти три стиха, которые я написал на книге, очень определяют ее содержание. «О, если б нам пройти через жизнь одной дорогой»…
Мне показалось, что она сделала радостное движение.
В музее…
– Королева Таиах. Она похожа на Вас.
Я подходил близко. И когда лицо мое приблизилось, мне показалось, что губы ее шевелились. Я ощутил губами холодный мрамор и глубокое потрясение. Сходство громадно».
Через год Волошин остановился у царевны Таиах уже с Анной Рудольфовной Минцловой, и эта великая теософка изрекла:
«У нее серые близорукие глаза, которые видели видения… и губы чувственные и жестокие».
Анна Рудольфовна открывала тогда Волошину тайный Париж. Она ощутила тяжкий и враждебный дух в его мастерской:
«Кому принадлежат эти вещи? Кто был здесь в последний раз? Пойдемте в Люксембургский сад…
Я не вижу лиц людей, но вижу с ними рядом сияние. Астральное…»
Она находила в Париже следы тамплиеров:
«… их реликвии хранятся в Париже. Во многих церквах есть их знаки. В Notre Dame есть. Notre Dame раньше была их церковью. Немудрено, потому что на ее месте был раньше храм Изиды. И в тех местах, где были оставленные ими знаки, там во время революции проносился вихрь безумия. Там все начиналось…»
Египетская царица Таиах (Тайа) была женой Аменхотепа III и матерью Эхнатона. В музее Гимэ выставлена была копия скульптуры, а оригинал хранился в Каире. Волошин заказал копию для своей мастерской и написал стихи о царице, которые подарил Маргарите:
… Много дней с тобою рядом
Я глядел в твое стекло.
Много грез под нашим взглядом
Расцвело и отцвело.
Все, во что мы в жизни верим,
Претворялось в твой кристалл.
Душен стал мне узкий терем,
Сны увяли, я устал…
Я устал от лунной сказки.
Я устал не видеть дня,
Мне нужны земные ласки,
Пламя алого огня.
… Тот, кто раз сошел с вершины,
С ледяных просторов гор,
Тот из облачной долины
Не вернется на простор.
Мы друг друга не забудем.
И, целуя дольний прах,
Отнесу я сказку людям
О царевне Таиах.
Стихи рассердили Маргариту. Она не была влюблена в Волошина, но ждала развития событий. Однако, ничего не случалось. Волошин, не оправдав ожиданий Маргариты, не придумал ничего лучшего, как жениться на ней. А она, хоть и далеко не была уверена в том, что его любит, согласилась на брак: брак всегда интересен, разве не этого ждут девушки? Нет, конечно, не только этого… Но с тем другим, чего они ждут, у Волошина были трудности. Сестре Евгении Герцык, поэтессе Аделаиде Волошин признавался:
«… женщины? У них опускаются руки со мной, самая моя сущность надоедает очень скоро, и остается одно только раздражение. У меня же трагическое раздвоение: когда меня влечет женщина, когда духом близок ей – я не могу ее коснуться, это кажется мне кощунством…»
Эта странность мучила Волошина в Париже. Он рассказывает в дневнике о том, как он мирно бодрствует в постели рядом с влюбленной в него прелестной нагой ирландкой Айолет… и «этого» не происходит…
Волошин умел внимательно слушать женщин. Он умел гадать им по руке. Предсказывать будущее. Что же до его сексуальных трудностей, то он в конце концов находил выход из положения. Все его терзания шли в стихи. А сам он служил женщинам, дружил с ними. Е. Герцык вспоминает о множестве «девушек, женщин, которые дружили с Волошиным и в судьбы которых он с такой щедростью врывался, распутывая застарелые психологические узлы, напророчивал им жизненную удачу, лелеял самые малые ростки творчества…»
Ведь и второй брак Волошина был продиктован поисками такого служения: если б не было М. С. Заболоцкой, он женился бы на Ребиковой. Ей тоже надо было помочь… А любовь к Дмитриевой, из которой он сотворил Черубину де Габриак? Главной жизнью хроменькой учительницы стала эта короткая, Волошиным придуманная жизнь в мифе. Защищая ее честь, он даже дрался на дуэли с Гумилевым…
Ну, а что же метущаяся Маргарита, Маргоря, Аморя? Под влиянием Волошина растет ее увлечение мистикой. Писатель Василий Амфитеатров так вспоминал о симпатичном Максе Волошине:
«Кем только не перебывал чудодей в своих поисках проникновения в сверхчувственный мир? Масон Великого Востока, спирит, теософ, антропософ, возился с магами белыми и черными, присутствовал при сатанических мессах, просвещался у иезуита Пирлинга… Отношение ко всем этим кругам, в которые он, ненасытно любопытный, нырял со своим «Это очень интересно», было зыбкое: иной раз не разобрать, то ли он преклоняется, то ли издевается. И в связи в этой зыбкостью огромное знакомство чудодея кишело живыми «монстрами». Отнюдь не менее, а иной раз даже более удивительными, чем его загробные дружбы и интимности».
Еще два десятилетия спустя Волошин и сам описал эти «блуждания души» в своей автобиографии: «буддизм, масонство, католицизм, теософия, антропософия и православие, магия и оккультизм». Как тут было устоять склонной к мистике Маргарите-Аморе?
В Париже Волошины, поженившись, обставили, по воспоминаниям Маргариты, «маленькую солнечную квартиру в Пасси – несколько кушеток покрыто коврами, множество полок служит вместилищем для библиотеки Макса. Лучшее украшение нашего жилища – копия – в натуральную величину – гигантской, высеченной из песчаника головы египетской царевны Таиах с ее вечной загадочной улыбкой,.
И конечно, оба учились живописи. Маргарита посещала академию Коларосси, училась также у художника Люсьена Симона. Волошин пристально изучал историю искусства, со страстью учился и стихам, и живописи, писал статьи об искусстве.
Учился живописи по большей части сам, занимался, как он говорил, «самовоспитанием», То есть, был самоучкой, как, кстати, и сам Бенуа.
Волошин писал стихи и картины, а также писал об искусстве и вскоре составил себе имя в искусствоведении. Александра Васильевна Гольштейн, в чей весьма популярный среди русских салон был вхож и Волошин, свела его со знаменитым художником-символистом Одилоном Редоном, и Волошин первым напечатал о нем в России статью. А еще лет десять спустя Александр Бенуа, все еще почитавший Волошина дилетантом, прочитал в Петербурге волошинские статьи и записал в своем дневнике восхищенно:
«Среда, 2 ноября, 1916 г.
… Читали статьи Макса Волошина для моей монографии. Поражен тем, что, при некоторой литературной фразеологии, столько действительного понимания, столько верного и меткого. Милый Макс!»
Милый Макс стал с годами и замечательным поэтом, и прекрасным акварелистом. Еще шестнадцать лет спустя, в Париже, стареющий эмигрант А. Н. Бенуа напечатал очерк «О Максимилиане Волошине», в котором он с удивлением написал о былом друге и былом «дилетанте»:
«Не так уж много в истории живописи, посвященной только «настоящим» художникам, найдется произведений, способных вызывать мысли и грезы, подобные тем, которые возбуждают импровизации этого «дилетанта».
На сей раз слово «дилетант» Бенуа берет в кавычки, как бы вспоминая о былых опрометчивых своих суждениях по поводу милого Макса. Думается, к 1932 г. Бенуа успел увидеть в частных парижских собраниях немало акварелей увидеть в частных парижских собраниях немало акварелей Волошина, увезенных эмигрантами, былыми гостями коктебельского Дома поэта. Еще полвека спустя (в 1983 г.) автор этих строк попал в гости к одной из былых обитательниц коктебельского дома Волошина. Звали ее Наталья Кедрова, она была певица, сестра актрисы Лили Кедровой и дочь одного из братьев Кедровых (из тех, что составляли знаменитый квартет Кедровых). У нее было замечательное меццо-сопрано, она пела в Париже то в опере, то в ресторане «Распутин» вместе со своим голосистым мужем Малининым, русским инженером, русским певцом и русским таксистом. Жили они в тесной квартирке в Медоне. Она рассказывала мне, какой успех у них в ресторане имели русские песни («Даже Интернационал пели!») после освобождения Франции союзниками, а я слушал ее и с любопытством смотрел на стену. Потом я спросил, кивнув на акварель:
– Коктебель? Волошинская?
– А вы там бывали? Так вы, наверно, знаете смотрителя Купченко? – обрадовалась она. – У меня было два десятка акварелей Волошина – и недавно я их все отправила в подарок дому-музею Волошина в Коктебель.
Такой вот царственный подарок из нищенской квартирки в Медоне. «Где они теперь гуляют, эти акварели?» – подумалось мне, а она вдруг взглянула на меня недоверчиво и спросила:
– А вы что, ничего не хотите купить?
– Нет, ничего, – удивился я, – Никогда и ничего. А почему вы спрашиваете?
– Когда у нас бывает Еврей Иваныч, он всегда просит продать.
Я понял, что речь идет об известном парижском антикваре, но хозяйка сочла своим долгом мне объяснить, что это не имя, а прозвище, изобретенное для русских евреев.
– Еврей Иваныч – это мы так шутим.
– Я так и понял…
Я уже был наслышан, ибо не вполне невинные эти шутки вывезли с собой за рубеж и многие славные люди эмиграции – сам Прокофьев, и сам даже Бенуа, не говоря уж бравых младороссах, монархистах, молодогвардейцах или русских фашистах…
Позднее я встречал Наталью Кедрову и ее мужа Малинина в церкви на бульваре Экзельманс, где они пели в прекрасном церковном хоре у регента Юрия Киселева. Они меня познакомили со стареньким князем Голицыным, который удивился, что мне доводилось жить в голицынском Доме творчества, что я ходил пешком в Малые Вяземы и что станция близ Дома творчества до сих пор называется Голицыно… Впрочем, чету Малининых, как и меня самого, больше интересовала тогда судьба коктебельского Дома поэта. Как сам Коктебель, этот любимый дом претерпел немало перипетий, но выжил.
Еще до Великой войны благодаря Волошину успел стать Коктебель русской художественной и культурной Меккой, русским Барбизоном, прошли через него и Шаляпин, и Скрябин, и Мандельштам, и Андрей Белый, и Гумилев, и В. Иванов, и Цветаева – да кто там только не жил? Тени Серебряного века (самого Волошина в первую очередь) и до, и после сталинщины влекли русскую интеллигенцию в Коктебель. Уже и подаренный Украине, вместе со всей Новороссией, тянул к себе Коктебель и русских, и литовцев, и грузин, и киргизов, и белорусов, и армян… Тянули общие наши воспоминания (не о виденном – о читанном и пережитом), тянула живописная тень бородатого хозяина и могила его на холме… Поразительной оказалась судьба этого места, где жил дух.
Конечно, распространилась, пришла мода, которая все может затоптать, так что теперь там – толпа, многолюдье… лет десять тому назад я слышал песню барда Александра Городницкого, побывавшего тогда в волошинском прославленном доме, на прославленных пляжах:
Акварели Волошина в темной висящей спальной,
Выгорают со временем – синее стало зеленым.
Я с трудом опознаю, вослед за поэтом опальным,
Этот мыс, что не зря называется Хамелеоном.
Там гуляет орда у морщинистых гор Карадага,
Где в окрестные скалы впечатался профиль поэта…
О коктебельском анахорете Волошине, успевшем уже к 20-му году написать все свои астральные циклы, все космологические циклы, написать удивительные пророческие стихи и с каждым годом писавшем все лучше, в 20-е годы слагали легенды. Позднее марксистская и пролетарская критика объяснила читающей публике, что Волошин был представитель «бонапартистски-буржуазной контрреволюции, облеченной в архаически-славянофильские одеяния». Поэта престали печатать и мало-помалу забыли. В ожидании худшего он мирно почил в 1935 г. в милой его сердцу Киммерии, поскольку не уехал вовремя в милый его сердцу Париж.
А потом стало понемногу теплеть в России – и в Москве, и в Крыму – и тогда слава Волошина начала возрождаться. Любопытно, что толчок к этому возрождению дала выставка волошинских акварелей в 1960 г. Широкая публика увидела его акварели, которые сам он – в поисках жанра – называл даже не пейзажами, а «красочными композициями на тему киммерийского пейзажа». У доброго мистика Волошина, как и у коварного мистика Рериха, пейзаж – придуманный, он пришел из глубины тысячелетий, но пророчит не завтрашнюю беду, а незыблемость разумного мира. Так казалось мне и многочисленным поклонникам Волошина, все еще искавшим на пляжах сердолики…
В 60-е г. Волошин стал возвращаться из отчужденного Крыма в Россию. Снова стали печатать его стихи, даже статьи о волошинских стихах, о его очерках и акварелях. Сперва, конечно, вспомнили о поэзии, но потом в Мюнхене вышла диссертация о поэтике киммерийского пейзажа, о криптограммах и криптофигурах на волошинских картинах. Вспомнили, что Сергей Маковский писал когда-то об «универсализме художественных и умозрительных пристрастий Волошина», что уже собрат-антропософ Андрей Белый отмечал своеобразие Макса, который «проходил через строй чужих мнений собою самим, не толкаясь…»
В общем, рукотворные памятники первому мужу беспокойной Маргариты Сабашниковой воздвигают и здесь, и там. Что же до поклонников чудного Коктебеля, то они знают, что сама природа заранее заготовила ему памятник, придав одной из карадагских скал волошинский профиль…
Свои «киммерийские» акварели Волошин начал писать перед началом Великой войны и написал их много. Одна из последних выставок волошинских акварелей открылась в Москве в конце 2006 г.: 28 акварелей, присланных в подарок московскому музею из Нью-Йорка знаменитым русским танцовщиком Михаилом Барышниковым. Перед открытием выставки в Музее изобразительных искусств ученая кураторша выставки объяснила публике, что Волошин не писал с натуры, что, работая, он даже садился спиной к окну:
– Все, что вы видите на этих акварелях, – это на самом деле не Крым, а воображаемая Волошиным древняя земля, которую он называл Киммерией… Ни один из пейзажей не повторяет реальный. Хотя на Крым похоже очень…
Однако не пора ли нам от очередного триумфа Волошина вернуться на столетие назад, в Париж, где мы оставили молодых супругов Макса и Маргариту. Причем оставили в очень опасный момент их жизни – в первые месяцы брака. Что же уготовил им Гименей?
В этом браке было немало хорошего, однако он не дал покоя смятенной душе Маргариты. Но вот по возвращении в Россию она попадает как раз туда, куда было нужно (или, напротив не нужно). Попадает туда, увы, не без содействия самого Макса…
Волошин близко сходится в ту пору в Петербурге со «златокудрым магом», поэтом Вячеславом Ивановым и снимает квартиру рядом со знаменитой Ивановской «башней», над Таврическим садом. По средам в салоне Ивановых на «башне» регулярно бывают Блок, Белый, Сологуб, Кузмин, Ремизов, Чулков, Сомов, Нувель, Лансере, Гржебин… На «башне» сидят ночами и говорят об Эросе. Причем, высокоумный и гостеприимный хозяин «башни» не только великий теоретик, но похоже, и практик эротики. Как выражаются некоторые авторы, «на башне» пахнет серой. Е. Герцык, говоря в этой связи о молодоженах Волошиных и их отношениях с Ивановым, выражается еще более изысканно:
«Оба сразу поддались его обаянию, оба вовлечены в заверть духа, оба – ранены этой встречей».
Конечно, «башня» Ивановых была далеко не единственных (хотя и очень знаменитым) петербургским средоточием соблазнов. Люди солидные много понаписали о духе времени, о декадансе и упадке нравов и сопутствующем расцвете искусств. «Искали экстазов, – свидетельствует философ Н. Бердяев, – Эрос решительно преобладал над Логосом. Было что-то двоящееся: была экстатическая размягченность: в петербургском воздухе того времени были ядовитые испарения…»
Итак, герои нашей истории мастер Макс и Маргарита, попали «на башню»… О том, что случилось с ними, до смерти вспоминала завороженная и тамошней атмосферой, и самим хозяином «башни», и даже оригинальной ее хозяйкой «египетская царевна» Маргарита Сабашникова, вдохновенно описавшая всю эту историю в своей книге «Зеленая змея».
Поселившись близ «башни» («в одном доме – дух захватывает!,,), супруги решают не ехать в Мюнхен (чтоб быть ближе к Учителю Штейнеру), а остаться в Петербурге ( ближе к Учителю Иванову):
«Мы с Максом шли по жизни, держась за руки, как дети…».
Маргарита дает в своей книге собственное объяснение тому «интимному», что затем последовало:
«Все, что произошло, все мои переживания я нахожу симптоматичными для предреволюционной России, характерными для той «люциферической» культуры, что, по моему мнению, достигла в России наивысшего расцвета…»
Конечно, как дитя предреволюционной эпохи Маргарита винит в своей лени (а может, и распущенности) проклятый царский режим:
«Косный самодержавный режим, бюрократизм закрывал пути к малейшим переменам для всех, кроме революционеров… Оторванные от практической деятельности, погруженные в свой внутренний, отделенный от реальной жизни мир, что неминуемо вело к переоценке собственной личности, российские интеллигенты пускались в разного рода чудачества, красочные и характерные. Такой была и я… Гипертрофированные душевные переживания дурно влияют на мое здоровье. Макс, добрый и самоотверженный, ничему не может меня научить…»
Итак, в какие же «красочные чудачества» пустилась Маргарита и чему смог научить ее хозяин «башни»?
В этой до крайности подробно описанной Аморей истории выделим лишь отдельные, ключевые моменты.
Маргарита-Аморя, которая восторгается стихами Вяч. Иванова, сообщает ему об этом:
«Иванов так и впился в мое лицо широко раскрытыми маленькими глазами… Комната Вячеслава – узка, огненно красна, в нее вступаешь как в жерло раскаленной печи… Я чувствую себя зайчонком в львином логове».
В логове, впрочем, есть и львица, жена Иванова Лидия Зиновьева-Ганнибал, но и она небезопасна:
«Оригинальность и сила переживаний Лидии удивительны, она ни в чем не уступает мужу. Необычен ее интерес ко мне…»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.