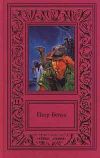Текст книги "С Невского на Монпарнас. Русские художники за рубежом"

Автор книги: Борис Носик
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Можно было бы, конечно, обратиться к более цивилизованным эпохам, от которых уцелели на Руси великолепные памятники архитектуры, живописи, народного искусства. До начала новой эпохи национализма, до начала XX в., зачастую эти памятники оставались в пренебрежении и даже разрушались. Художники «Мира искусства» и щедрые русские меценаты – покровители искусств обратили к ним взгляд на рубеже веков. Началась великая эпоха изучения и спасения русской старины: Рериху довелось принять в ее делах активное участие. К сожалению, не все его тогдашние подвиги были отмечены высоким вкусом, но вкус – дело наживное.
К сожалению, новые войны, бунты и революции очень скоро оборвали эту охранительную деятельность – чуть не в самом ее начале, принесли немыслимую разруху, но пока…
В 1903 г. Николай Рерих отправился с молодой женой в долгое летнее путешествие – по двадцати семи городам России – от «злого города» Казани до ганзейской Риги. На всех остановках Рерих делал маслом этюды архитектурных памятников – церкви Святого Иоанна-Богослова в Ростове-Ярославском, Дмитриевского собора во Владимире, церкви Спасителя в Боголюбове и еще, и еще… В начале 1904 г. выставку этюдов Рериха посетил Государь и пожелал, чтобы все этюды были куплены Русским музеем (в ту пору еще Музеем Александра III). Семь десятков этюдов были отправлены для продажи на выставку в американском городе Сент-Луи (более известном русским любителям джаза, чем ценителям живописи). В этих этюдах Рерих не стремился к документальной точности рисунка (как делал это во время подобной поездки Билибин), а скорее хотел передать общий «портретный облик» каждого строения. Критика отмечала, что в этих этюдах Рерих, как никто, «остро почувствовал и запечатлел национальный лад, какое-то задумчиво-грузное, почвенное своеобразие древней архитектуры нашей».
Доктрина, бывшая тайной
С годами «историческим» сюжетам Рерих начинает предпочитать сюжеты чисто легендарные и религиозные, почерпнутые из разнообразных апокрифических преданий, а к 1905 г. в его творчестве начинает звучать тема Индии. Сам Рерих намекает в своих рассказах на какие-то не слишком убедительные детские воспоминания. Скажем, на рисунок гималайской вершины в былом воронцовском имении, в дачной Изваре на санскритское происхождение названия Извара, на соседа-раджу или на дальнего родственника, которого он и в глаза не видел. Естественнее предположить, что Индия пришла к Рерихам через теософические писания Елены Блаватской, которая еще в 1879 г. перенесла штаб-квартиру своего Теософического общества в Индию. Супруги Рерихи увлекались учением Блаватской, включавшим в себя немало существенных положений индийской философии, а Елена Рерих даже перевела позднее на русский язык труд Блаватской «Тайная доктрина, синтез науки, религии и философии».
Как кратко формулирует французский автор, «теософия добавила к новоязычеству набор восточных верований и индуистскую терминологию. А скорее, открыла путь на Запад определенным видам восточной дьявольщины. В конце концов, именно под именем «теософия» стали обозначать широчайшую волну возрождения магии, сбившей с пути немало интеллигентов в начале века» (Луи Повельс «Утро магов»).
Известный русский философ Владимир Соловьев считал применение слова теософия (мистическое богопознание) к доктрине Блаватской неправомерным. «Одно учение, – писал Соловьев, – не может быть зараз и буддизмом и теософией, т. к. буддизм атеистичен».
Старая добрая энциклопедия Брокгауза и Ефрона видит в теософии «причудливое сочетание крайней фантастичности содержания» с попыткой создать некую систему и находит в ней богатый «материал для изучения «мистического воображения».
Признаем, что такая доктрина не могла не увлечь художника, тем более, что она обещала создание некого ядра человеческого братства (объединяющего членов общества «более равных, чем другие», как горько шутил полвека спустя другой разочарованный сектант) и развитие некой сверхувственной силы человека. Вероятно, в случае Рериха обещания эти в какой-то степени были исполнены.
Учение ссылалось также на множество чудес и волшебных фокусов, но требовало от своих адептов абсолютной веры и детской доверчивости. Правдолюбцу и реалисту пришлось бы в компании теософов и спиритов тяжко. Брат философа Владимира Соловьева Всеволод (довольно известный в свое время беллетрист) попал на сеансы самой Блаватской и был страшно разочарован. Обнаружив мошенство. Он даже посвятил страстному разоблачению этого жульничества целую книгу («Жрица Изиды»). Почтенная русская энциклопедия сообщила о том же без излишней страстности:
«В сочинениях, как и в жизни Блаватской, трудно провести границу, где кончается сознательный или бессознательный обман и самообман и начинается искреннее увлечение мистикой или простое шарлатанство».
Последнее это неуважительное словечко проскальзывало иногда и в разговорах мирискусников о Рерихе, но очень скоро положение его и авторитет в разнообразных, в том числе и в художественных кругах, укрепились настолько, что никому бы не пришло в голову «озвучить» эту опасную мысль. Конечно, ни увлечение художника и его супруги «тайной доктриной» (даже, может, ведущая роль супруги в этой деятельности), ни сама доктрина не были абсолютной тайной в столичном Петербурге. И все же слухи о столоверчении и спиритических сеансах были настолько смутными, что письменно упоминать об этом принято было лишь между прочим (в сноске) или иронически. Довольно известный журналист и состоятельный литератор Владимир Крымов, в лондонской квартире которого Рерихи устраивали сеансы после бегства из России, вспоминал об этом иронически-смущенно:
«Жена Рериха и его два сына, живя в Лондоне в 1919 г., чтобы развлечь впавшего в меланхолию отца, стали морочить его на спиритических сеансах…»
Крымов сообщает об этом как о странном курьезе, с которым он раньше не встречался. Между тем, не только в столичном Петербурге, но и в провинциальной Москве были наслышаны обо всем этом интеллигентные женщины (в первую очередь – женщины), скажем, актрисы знаменитого Художественного театра (МХТ), где Рерих оформлял спектакль «Пер Гюнт» по Ибсену. На упоминание об этом я наткнулся однажды, листая мемуары известной актрисы Марии Германовой, которая так пишет о своей позднейшей встрече с Рерихом в эмигрантских кругах Нью-Йорка:
«В Нью-Йорке встретила я нашего русского художника Н. К. Рериха. Я смолоду была его рьяной поклонницей. Его картины были всегда такие содержательные… уносили далеко за свои рамки. Что-то в них было необыкновенное, беспокоящее самую душу.
В России я познакомилась с ним, только когда он писал декорации «Пер Гюнта» для Театра…
Я ужасно обрадовалась, когда узнала, что он в Нью-Йорке… С первых же наших встреч он поразил меня рассказами об Индии, об ее мудрецах и знании, о своем опыте там. Он так проникновенно, увлекательно и так по-новому говорил о том, что интересовало меня больше всего, – о духовных путях души…
… Собственно, идеи Рериха не были новостью для меня: когда-то я читала и знала обо всем этом по теософическим книгам и разговорам. Но Рерих с его громадным талантом так умело, цельно, по-своему представлял все, что убеждал и заражал своим горением».
Итак, Николай Рерих слыл в Петербурге и его окрестностях великим мистиком, «убеждал и заражал своим горением» и, вполне возможно, что отчасти этим объясняется его влияние при дворе. В эпохи, предшествующие великим катастрофам, все виды мистики (в том числе, и мистика теософии) обретают особую популярность. Общеизвестна придворная популярность французского жулика Филиппа и мужика Распутина, да и нам, жившим вдали от петербургского двора (в драных московских дворах), помнится, как в семидесятые годы истекшего века (еще задолго до того, как провинциальные телепаты, мистики и мистификаторы наводнили телеэкраны) девушки из хороших семей до предела заполняли университетский зал на лекциях моего друга-буддолога и буддиста А. М. Пятигорского. Да и на лекциях С. Аверинцева о ранних христианских мистиках место найти было трудно, а уж «блюдечко крутили» во многих «хороших домах», не исключая и писательских «Домов творчества»… Любопытно, что в те же годы, но в совершенно иных («высших») кругах – и с совершенно иными потребностями и целями – возрождается интерес к нечуждой тем, прежним теософам и придворным тяге к новоязычеству, к великой эпохе и великой культуре, существовавшей на Руси еще и до прихода «иудео-христианства», еще и до крещения. Да и само слово «Русь» как название одного из скандинавских племен, откуда и «были призваны» наши рюрики, потребовало дополнительных околонаучных усилий для углубления в истинно-древние, а может, и в доисторические эпохи. Я прочел недавно у нового российского членкора, что и слово «Русь» (позднее репатриированное) скандинавские воины занесли домой из исконной Руси, которой начало теряется в кромешной тьме пещер. Так вот, перед «концом великой эпохи» социализма новоязыческие идеи получают поддержку в не слабой верхушке ВЛКСМ, располагавшей своими многочисленными изданиями… Эта «молодая гвардия» патриотов-новоязычников, вероятно, не была ни забыта, ни обделена при денационализации всего, что уцелело на родине ко времени Перестройки…
Поскольку в начале прошлого века кое-какие доктрины все же оставались, по выражению самой Блаватской, «тайными», честный А. Н. Бенуа отважился лишь мельчайшим петитом (да и то в сноске) сообщить в своих мемуарах, что Н. Рерих занимался в каких-то собраниях «столоверчением». Легко предположить, что это происходило в высоких собраниях, с участием принцесс и княгинь, может, даже великих княгинь…
Так или иначе, служебные успехи Н. Рериха были в ту пору головокружительными. В 1906 г. он стал директором крупнейшего художественного училища – Рисовальных курсов Общества Поощрения Художеств. Конечно, при назначении пришлось преодолеть отчаянное сопротивление весьма почтенных конкурентов, но был произведен нажим с самого верху. Рериха поддержала президент Общества принцесса Евгения Ольденбургская (рожденная Лейхтенбергская).
Возвышение Рериха было стремительным: он стал членом-учредителем Общества Куинджи, членом-учредителем, а позднее и председателем Общества «Мир искусства», членом совета Общества возрождения художественной Руси, действительным членом парижского Осеннего салона и венского «Сецессиона», академиком искусства, кавалером французского ордена Почетного легиона и шведского – Полярной звезды… Не знаю, что думают об этом познавшие «мудрость владык», но, по мне, попахивает это суетой и потом жизнеустройства…
Работоспособность и плодовитость Рериха были поразительными, безумными. Если он участвовал в престижной выставке, то корабль выставки, по наблюдению А. Н. Бенуа, начинал крениться на один борт (на тот, где десятками развешаны были многочисленные новые полотна Н. Рериха).
Суждения о картинах Рериха бывали противоречивыми. Все сходились на том, что это все же слишком «литературно», что это «не убеждает». Надо признать, что большинство русских художников (и передвижники, и мирискусники) писали «литературно», а заодно и пробовали себя в литературе. Замечательно, к примеру, писали прозу А. Н. Бенуа, Коровин, Добужинский, Милашевский… Рерих написал много беллетристики, религиозно-заклинательной, публицистической, очерковой прозы, которую, вероятно, одолеют любители восточной мистики. Он написал также много стихов, целую поэму о Чингиз-хане. Сдается все же, что Бенуа, Коровин, Добужинский или Миклашевский писали и пограмотнее, и поинтереснее.
Что же до тогдашнего рериховского художественного модерна, то на его картины, вероятно, надо смотреть из той, вековой дали. Попробуем воспроизвести тот взгляд, тем более, что не сгорели ни тогдашние рукописи, ни газеты, ни книги.
Довольно много писал когда-то о Рерихе редактор модного журнала «Аполлон», художественный критик и поэт Сергей Маковский. Одно из первых своих суждений о полотнах знаменитого Николая Рериха Сергей Маковский повторил позднее в своей эмигрантской книге:
«Он пишет, точно колдует, ворожит. Точно замкнулся в чародейном круге, где все необычайно, как в недобром сне. Темное крыло темного бога над ним. Жутко. Нерадостны эти тусклые, почти бескрасочные пейзажи в тонах тяжелых, как свинец, – мертвые, сказочные просторы, будто воспоминания о берегах, над которыми не восходят зори».
Маковский вспоминает, что Рериха «влекло к эзотерическому мятежу Врубеля, к великолепному бреду врубелевского безумия», но «сердце ледяное» Рериха «предохраняет его от многих искушений…»
О сюжетах и «исторической» реальности Рериха Маковский судит вполне здраво, о форме, пожалуй, тоже:
«Образы мира для него не самоценность, а только пластическое средство поведать людям некую тайну духа, сопричастившегося мирам иным… У Рериха живописная форма кажется подчас косноязычной (какой-то тяжко-искусственной или грубо-скороспелой), зато как поэт… он в картинах своих неиссякаемо-изобретателен: в них живопись и поэзия дополняют друг друга, символы вызваны словом и вызывают слово… многое в произведениях Рериха… и впрямь иллюстративно, просится в книжку, выигрывает в репродукции. Это, если угодно, его недостаток, что неоднократно и отмечалось критикой. Недостаток, вытекающий однако из сущности его творческого credo: писать «из головы»… пренебрегая натурой».
В эти годы Рерих, одним из первых, берется за реставрацию старинных церковных росписей, византийских икон и фресок новыми художественными средствами и за написание новых икон и фресок, иначе говоря, становится религиозным художником. Престижные заказы поступают к нему со всех сторон, он исполняет их профессионально, интересно и быстро. Религиозная, точнее, православная живопись Рериха вызывает, пожалуй, даже больше восторгов и больше нареканий, чем его «историческая» живопись. Такое можно было бы предвидеть, даже просто проглядев список любимых героев и учителей Рериха, вроде Рамакришны и Вивекананды, Гессер-хана, Чингиз-хана, Елены Блаватской, дерзко отвергавшей библейские догматы, и т. п.
Сомнение в уместности этой новой (вполне активной) деятельности Рериха высказывал даже осторожный и деликатный Сергей Маковский, который так написал в главе о весьма им хвалимом живописце:
«Отдавая должное его археологическим познаниям, декоративному вкусу и «национальному» чутью, – все это бесспорно есть и в иконах, – я не нахожу в нем призвания религиозного живописца. Рерих все что угодно: фантаст, прозорливец, кудесник, шаман, йог, но не смиренный слуга православия. Далеким, до-христианкским, до-европейским язычеством веет от его образов, нечеловеческих, жутких своей нечеловечностью, нетронутых ни мыслью, ни чувством горения личного. Не потому ли даже никогда не пытался он написать портрета? Не потому ли так тянет его к каменному веку, к варварскому пантеизму, или вернее – пандемонизму безликого «строителя пещер»? Тайна Рериха – по ту сторону культурного сознания, в «подземных недрах» души, в бытийном сумраке, где равно связаны идолы и люди, и звери, и скалы, и волны…»
Маковский отваживается признать, что для воссоздания лика Божия Рериху не хватает средств. И верно ведь, в знаменитом Нерукотворном Спасе из фленовской церкви (в имении Тенишевой) художник подавляет нас размерами площади и суровостью лика, но разве пугать был намерен человеков страдающий за них Спаситель?
Здесь любопытно было бы после красноречивых рассуждений эстета из «Аполлона» услышать голос одной из былых восторженных поклонниц Рериха, той самой актрисы Марии Германовой, что встретив однажды в Нью-Йорке, на распутье эмигрантских путей былого российского кумира-мистика, вновь увлеклась его пылкой проповедью. Продолжу начатый мною выше простодушный («по моему неумному суждению», – скромно оговаривается актриса), но вполне созвучный евангельской истории о фарисее и мытаре мемуарный рассказ Германовой, где, кстати, как и в вышеприведенном суждении Маковского, присутствует мысль о христианском смирении и гордыне:
«Эти встречи в ним (с Рерихом – Б. Н. ), разговоры, этот опыт был очень ярок, очень всколыхнул мою душу. Теперь, когда вспоминаю то время в Америке, мне кажется, что я тогда будто переступила заколдованную черту, проникла сквозь какую-то невидимую стену, поднялась на какую-то внутреннюю ступеньку, и что-то новое, неведомое доселе открылось и окружило меня. Я ходила как будто в светло-голубом, искрящемся тумане, особо от людей, в каком-то другом плане.
Необычность для меня Америки… обстановки там, людей – все помогло этому, может быть, искусственному и нарочитому подъему, и я отдалась целиком этому течению…
Но когда вернулась в Париж, к своим… то понемногу, постепенно рассеялась и мечта, как светлый сон.
Как ни возвышенны, ни велики образы, которые прельщали и манили, но все же они чужие… да и не время теперь уж бросаться из стороны в сторону, искать…
Хотя и очень он интересен. Но отошла я от этого пути. Не по мне он. Теперь даже совестно как-то вспомнить, что обольщала себя мыслью, что могу стать чуть ли не йогом или святой что ли, своими собственными потугами, претензиями на совершенство, сама, без помощи Божией.
В этом самообольщении гордости, по моему неумному суждению, самый большой соблазн и неистинность всех этих учений.
Холь себя – ешь то и не ешь того, носи только шелк и полотно, «мой скамейки и чашки», «отцеживай комара», выбирай строго друзей, чуждайся больше людей, «не пируй с грешниками», одним словом – думай только о себе, вот что грешно и высокомерно. После таких приемов понемногу бес гордыни заставляет думать, что ты чище и лучше других: кажется, что все, что совершается кругом, совершается нарочито для тебя, что все какие-то знаки посылаются тебе. И до того напряжено это внимание и ожидание, что действительно начинаешь, как будто видеть видения, слышать голоса. Сны снятся особенные, встают вдруг образы-символы, и все так красиво, поэтично, значительно, «прелестно», слишком прелестно, чтобы быть истинным…
В этом светлом затмении пути широки, и по ним легко пойти на какие-то компромиссы, согласиться с тем, что потом при протрезвлении оказывается не только неправдой, но просто смешным. (Думаю, нынешнему читателю рериховской «святительской» прозы смешным покажется многое, а к компромиссам этого широкого пути мы обратимся далее – Б. Н.).
Я делилась моим у влечением этими идеями с покойным отцом Г. Спасским. Он терпеливо слушал меня, но когда я, спустя несколько месяцев, пришла к нему и сказала, как я разочаровалась, то он радостно воскликнул, встав перед иконами: «Слава Тебе, Господи!»
Не перестану и я повторять: «Спасибо Тебе, Господи, что уберег меня от этого пути».
Наиболее известными образцами религиозной живописи Рериха остались его иконы и фрески, сделанные в имении княгини Тенишевой в Талашкине и Фленове. Красивая, энергичная, небесталанная, а главное – щедрая и богатая меценатка Мария Клавдиевна Тенишева за несколько лет до знакомства с Рерихом в 1903 г. облагодетельствовала молодого Шуру Бенуа, положив ему оклад жалованья, поручив ему разобраться в ее личной коллекции и пополнить ее новыми покупками – чистая синекура. Она отправила Бенуа в долгосрочную командировку во Францию, а чтоб ему не одиноко было на чужбине, оплатила и поездку его молодой жены с детишками. Но видимо, высокоученый, но не проученный жизнью А. Бенуа не сумел скрыть своего высокомерного отношения к вкусам благодетельницы и к ее коллекционерской деятельности. Кончилось все обидами и полным разрывом. Иначе повел себя загадочный, но, по точному наблюдению Маковского, «житейски-приспособленный» Николай Рерих: он поддерживал все «национально-русские» начинания благодетельницы, преподавал у нее в Талашкине, делал росписи и проектировал тамошнюю тяжелую мебель «петушкового» и даже «конного» стиля. Очень скоро Рерих стал одним из наиболее высоко ценимых Тенишевой сотрудников, и она так написала о нем в своих поздних воспоминаниях: «Из всех русских художников… кроме Врубеля, это единственный… культурный, очень образованный, настоящий европеец, не узкий, не односторонний, благовоспитанный и приятный в обращении, незаменимый собеседник, широко понимающий искусство и глубоко им интересующийся».
Из этого можно понять, что ни Репин, ни Бенуа, ни прочие (их было много у М. К.) не смогли проявить такой тактичной незаменимости в беседе (а в каких эзотерических беседах был собеседник Рерих «незаменим», догадаться уже не трудно).
Случилось так, что именно это новое увлечение знаменитой меценатки отчасти и ускорило кончину знаменитого журнала «Мир искусства». Журнал основан был, если помните, на деньги Тенишевой и Мамонтова. Дягилев почти с самого начала повел себя очень независимо и Тенишеву к линии журнала близко не подпускал. Позднее финансовую помощь журналу оказал (по просьбе Валентина Серова) Государь император. Но к 1904 г. Мамонтов был разорен, а Государю стало не до журналов. М. К. Тенишева предложила Дягилеву деньги, но потребовала, чтобы Бенуа был исключен из членов редакции, и чтобы на его место Дягилев взял Рериха. Рерих к тому времени уже не раз участвовал в выставках журнала, но к предложенному Тенишевой переходу под руку нового «кондотьера» основатели журнала еще не созрели (они дозреют лет через шесть). «… это совершенно не нравилось никому из нас, – вспоминал Бенуа позднее, – так как, при всем уважении к таланту Рериха, как художника, мы «не вполне доверяли ему» как человеку и товарищу, не верили в его искренность и в самое его расположение к нам». С. Маковский вспоминал, что дягилевцы Рериху долго не верили, и в талант Рериха не верили:
«Опасались и повествовательной тяжести, и доисторического его археологизма, и жухлости тона: а ну, как этот символист из мастерской Куинджи – передвижник наизнанку? Что если он притворяется новатором, а на самом деле всего лишь изобретательный эпигон?»
Надо сказать, что в письменных отзывах Бенуа о Рерихе есть и более резкие словечки, чем «кондотьер». В очерке об издании «Художественных сокровищ России», написанном в 1931 г. вдали от Петербурга и северного Пенджаба, Бенуа уже без всяких дипломатических экивоков сообщает о роли, которую сыграл «кондотьер» Рерих в отстранении его, Бенуа, в 1903 г. от всех дел редактирования издания:
«Игра, которую этот кондотьер играл против меня не без известного плана, кончилась моей отставкой… и посему он – черный Лепорелло, всегда такой низкопоклонственный и по-украински ласковый… выразил одно лишь досадное смущение».
Комментируя переписку Рериха с Бенуа. Современный искусствовед (И. Выдрин) высказывается не менее резко:
«Посылая Бенуа любезные письма, Рерих, верный своему обыкновению подлаживаться к ходу текущих событий, вел двойную игру».
Видимо, и в судьбе журнала «Мир искусства» двойная игра Рериха сыграла свою роль. При переговорах с Тенишевой в 1904 г. хитрый Дягилев кивал и соглашался, а потом оставил фамилию Бенуа в перечне членов редакции. Тогда Тенишева написала в газеты письмо о нарушении договора и о своем отказе субсидировать журнал. Денег у Дягилева не было, и он решил, что с журналом пора покончить. Так что, победоносное восхождение Рериха не осталось незамеченным и в истории русского журнального дела.
В 1905 г. прошла персональная выставка Николая Рериха в Праге (позднее те же картины были показаны в Вене, Берлине, Мюнхене и Дюссельдорфе). А в 1906 г., забыв о старых обидах и распрях, практичный Дягилев пригласил Рериха на выставку русской живописи в рамках парижского Осеннего салона. Выставка прошла с большим успехом, и в том же году Рерих был награжден орденом Почетного легиона. Понятно, что импровизации Рериха на экзотические древне-славянские и «истинно-русские» темы были для французов интереснее, чем вариации на темы их собственной истории.
В том же 1906 г. Рерих отказался от масляной краски и стал писать только темперой. Темперой были написаны Рерихом и все его театральные декорации.
Оформлять театральные спектакли Рерих начал с 1907 г. – сперва в Петербурге, в новом Старинном театре Евреинова и фон Дризена, позднее – в московском камерном театре и в МХТ. В 1908 г. Рерих оформил «Снегурочку» для парижской Опера-Комик и позднее не раз возвращался к этой опере и к этой истории, в которой ему хотелось передать языческий дух берендеева племени, пришедшего, по его соображениям, откуда-то с Древнего Востока. Благодарного зрителя и настоящий успех рериховские фантазии по поводу этой оперы нашли только в пору третьей ее постановки, четверть века спустя – в чувствительном Чикаго, однако еще задолго до чикагской «Снегурочки» развитие этих идей и этой темы принесло Рериху успех в театре и как декоратору, и как автору – тот подлинный успех, который называют «успехом скандала». Об этом я рассажу позже, а пока надо хоть в нескольких словах упомянуть о театральном успехе, который выпал на долю Рериха в том же Париже весной 1909 г. – во время первого балетного сезона Дягилева. Рерих написал тогда декорацию к поставленным Михаилом Фокиным «Половецким пляскам» на музыку оперы Бородина «Князь Игорь». Когда в первые открылся занавес театра Шатле на этом спектакле и парижане увидели декорацию Рериха, они поняли, что именно такого они давно ждали от русских…
Сила и уместность написанного Рерихом пейзажа признана была тогда всеми. Ее признал (пусть даже нехотя, с оговоркой, напоминая, что главное очарование от половецкого стана следует главным образом приписывать музыке) – признал даже тогдашний соперник Рериха, чьей работой («Павильон Армиды») начался сезон, – Александр Бенуа. Позднее Бенуа так рассказывал о рериховских «Половецких плясках» в своих мемуарах:
«… декорация производила громадное впечатление. Созданный Рерихом по «принципу панорамы», лишенной боковых кулис, этот фон с его золотисто-алым небом над бесконечной далью степей. С его дымами, столбами поднимающимися из пестрых приземистых кочевых юрт, – это было то самое, чему здесь надлежало быть!»
Что до парижской публики, не имевшей (в отличие от Бенуа) никаких счетов с Рерихом, – она была просто в экстазе. Ей, наконец, показали настоящую Русь, настоящую степь, настоящую страсть, настоящую дикость…
Оглядываясь назад четверть века спустя, Бенуа написал однажды об их общем успехе и о сути их направления – со здравой жесткостью, не пощадив даже любимого своего «Петрушку»:
«… когда Дягилев… показал русское искусство Парижу, то значительная часть успеха этой «манифестации» пришлась на долю как раз все того же пассеизма.
И Мусоргский, и Бородин, и Петрушка»… показались «особенно пленительными», оказались особенно доступными. Они «дошли до сердца» в значительной степени благодаря тому, что «гурманам до всего экзотичного» был показан в убедительной наглядной форме целый неведомый мир. Этот ансамбль был сочтен за нечто чисто русское, тогда как это были только «фантазии на русские темы» художников, влюбленных в прошлое своей страны и любивших углубляться в него, отворачиваясь от действительности…»
В довоенные годы Рериху довелось оформлять не раз спектакли в МХТ и в московском Свободном театре, а также в петербургском Театре музыкальной драмы, однако по-настоящему большой театральный успех он снова познал в Париже.
В 1910 г. Рериха представили молодому композитору Игорю Стравинскому, и художник предложил композитору идею все того же весеннего языческого обряда, который волновал его при работе над «Снегурочкой»: торопя приход весны, язычники-славяне приносят богу солнца Яриле человеческую жертву…
Летом 1911 г. Рерих и Стравинский уехали в тенишевское Талашкино и там, в окружении неподдельной красоты среднерусской природы и более или менее убедительных подделок под красоты народного искусства сели вдвоем сочинять либретто того авангардного, опередившего свое время балета, который получил название «Весна священная». Там были, конечно, и ритуальные танцы загадочного славянского племени, и трехсотлетняя сказительница (согласитесь, что меньше жить в тот золотой век просто не стоило), и старейшины в медвежьих шкурах, и человеческое жертвоприношение, которому предшествует исступленный танец смерти. Работая вместе, композитор и художник с гордостью назвали это новое произведение своим «детищем», а, увидев впервые эскизы костюмов, Стравинский воскликнул: «Боже, как они мне нравятся – это чудо!»
Ставил балет ведущий танцовщик труппы, тогдашний «фаворит Дягилева» (эти сладостные слова мечтательно повторял уже в те годы молоденький танцовщик из Киева Сергей Лифарь, чья мемуарная книга об учителе и кумире – воистину гимн гомосексуальной любви) – гениальный Вацлав Нижинский. Конечно, молодой Нижинский был еще не слишком опытным постановщиком, и он во всем слушался Рериха. Так сложилось, что на постановках Дягилева художники (скажем, и Бенуа, и Бакст) вообще были больше, чем просто художниками. И если маститый Рерих присутствовал на репетициях, Нижинскому легче бывало совладать со своеволием исполнителей, старших его по возрасту и без особого энтузиазма воспринявших и эту странную музыку, и эту непривычную хореографию.
Вообще-то у Рериха не было привычки пропадать день и ночь в театре: он обычно просто отдавал другим художникам для увеличения написанную им на мольберте пейзажную картину, но на сей раз речь шла об их необычном «детище».
Музыка Стравинского была полиритмичной, диссонирующей, атональной, конвульсивной, в общем, вполне авангардной, угловатые движения танцоров казались странными, а вместо привычных «маленьких лебедей», на сцене неистовствовали какие-то старики в медвежьих шкурах, намекая на что-то темное, загадочно-мистическое…
Премьеры этой в театре Елисейских полей ждали не без тревоги и ожидания (или опасения) оправдались в полной мере. «Весна священная» с ее, как выразились вконец шокированные критики, «ритуально-эротическим беснованием» имела успех скандала. Театральный зал содрогался в тот жаркий вечер парижского мая от свиста и криков. Потом в древнеславянских декорациях на сцене вдруг появился в цилиндре и с тростью сам Дягилев и крикнул парижским зрителям, что они невежды, не понимающие гениального творения века. Похоже, что и тогда уже Париж радостно согласился с этой оценкой…
Скандалы в театральной зале случались в Париже и раньше. Скандал на «Эрнани» Гюго возвестил некогда приход Романтизма в театр. Но на сей раз скандал и беснование зрителей превзошли, похоже, ожидания самого главного искателя скандалов Дягилева. Рерих, вспоминая позднее этот вечер 29 мая 1913 г., намекал на умение создателей балета пробудить в толпе зрителей дремавшие в их душах первобытные чувства:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.