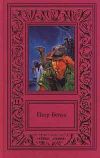Текст книги "С Невского на Монпарнас. Русские художники за рубежом"

Автор книги: Борис Носик
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
Магический холм на рю Криме
В свои последние русские годы Стеллецкий занимался мелкой пластикой и художественным фарфором, писал картины и фрески. В частности, писал он фрески для церкви, поставленной близ города Ровно в память о Куликовской битве. Как и большинство мирискусников, работал он также для театра. Ему не очень везло с постановками, которые чаще всего откладывались по тем или иным причинам, но то, что он сделал для театра, не прошло незамеченным. Две его театральные работы с восхищением и будто бы даже не без страха описал в своей статье Александр Бенуа:
«Вот Стеллецкий сочиняет постановку к очаровательной сказке о «русской любви» – к «Снегурочке»… перед ним тема русской идиллии, возможность повести нас по милым лесам, погреться на солнышке, побывать в гостях у доброго Берендея, насладиться лунными ночами, снегом. Вся пестрота и яркость, и звон жизни – в его распоряжении. Иди, пляши, пой, а взгрустнется к концу, так и грусть сладкая. Почему же Стеллецкий дает совсем иное и почему этому иному, этим пейзажам из Апокалипсиса, этим пророчествам о каких-то «последних днях» веришь больше, нежели собственным мечтам, мало того – подчиняешься им. Отдаешься их мертвящей прелести? Красивые пейзажи эти, и небывалой красоты могла быть вся постановка «Снегурочки», но красота эта особая, одного Стеллецкого, и в то же время эта красота могущественная, властно навязывающая, вытесняющая всякую иную красоту. И Островский рядом с этим наваждением кажется слишком простодушным и прямо слабым».
Выходит, что и как все прочие мирискусники в театре, Стеллецкий указывает путь и режиссеру, и автору, и актерам (а они этого все не любят), Как и прочие мирискусники Стеллецкий оказался замечательным сценографом. И хотя с постановками ему не повезло, что в них толку, в постановках?
С изумлением пишет Бенуа и о другой театральной работе Стеллецкого – об оформлении драмы из русской истории:
«Досталось еще Стеллецкому сделать постановку к вялой, устарелой… трагедии Алексея Толстого «Царь Федор». И опять он сочинил, – нет, наворожил – что-то совсем неожиданное, совершенно свое, совершенно порабощающее, вытесняющее драму и становящееся на ее место. Исторического царя Федора нет и в помине, царя Федора по Толстому подавно, но вместо того – точно с закоптелых древних стен сошли суровые образы святителей или колдунов, и эти бредовые фигуры зачали какой-то странный литургический хоровод, в котором неминуемо (если бы все удалось на сцене) должна потонуть была бы и самая фабула, и все душевные переживания действующих лиц. Остались бы только чудесные, несколько монотонные, но чарующие, ворожащие узоры и плетения Стеллецкого».
А все же довелось поработать и в театре Стеллецкому, довести кое-что до постановки, скажем, участвовал он в 1909 г. в оформлении оперы «Псковитянка» для дягилевского «Русского сезона» в Париже.
Участвовал он также во многих выставках – выставлял и живопись, и скульптуры на выставках Нового общества, «Мира искусства», Союза русских художников, в «Салоне» Маковского, в парижском Осеннем салоне…
Начало Первой мировой войны застало Стеллецкого во Франции, где он изучал романское искусство. В Россию он так больше и не вернулся. В 1920 г. он построил себе мастерскую на Лазурном берегу Франции близ Канн, расписывал чьи-то виллы, рисовал чьи-то портреты, участвовал в выставках, был в 1925 г. одним из учредителей общества «Икона». Осенью того же 1925 г. Стеллецкий начал трудиться над росписью православного храма на Сергиевском Подворье в Париже. На внутренней стороне северных врат иконостаса до сих пор можно прочитать надпись: «Начал расписывать церковь 6 ноября 1925 г. пятницу. Кончил 1 декабря 1927 г. четверг Д. С. Стеллецкий».
Это был великий труд его жизни, и труд этот, а равно и история этого парижского храма, этой, как сам художник выразился, им «опровославленной» протестантской кирхи, заслуживает хотя бы краткого упоминания. Историю эту можно найти в замечательной книге митрополита Евлогия «Путь моей жизни», откуда я ее и позаимствую. Вот что рассказывает владыка Евлогий о тех первых годах «эмигрантского православного ренессанса», когда пережившие столько мук и страха, разоренные, лишившиеся родины и дома русские люди с новым рвением дружно устремились за утешением к церкви:
«Александро-Невская церковь всех молящихся не вмещала. Я с болью наблюдал, что многие богомольцы, стремившиеся попасть в храм, оставались за дверями…
… у нас возникла мысль купить… какое-нибудь секвестированное здание (т. е., реквизированное французами в войну у недругов немецкой национальности – Б. Н. ).
М. М. Осоргин нашел подходящую усадьбу под № 93 по рю де Кримэ (улица названа Крымской. В честь французской военной победы в Крыму, каковая победа многократно отражена в парижской топонимике – Б. Н.), бывшее немецкое учреждение, созданное пастором Фридрихом фон Бодельшвингом: немецкое общество попечения о духовных нуждах проживающих в Париже немцев евангелического исповедания устроило там детскую школу-интернат… А в верхнем этаже была устроена кирха. (В кирху эту ходили по большей части работяги-немцы с близлежащего кирпичного завода – Б. Н.).
… Я осмотрел усадьбу. Она мне очень понравилась.
В глубине двора высокий холм с ветвистыми деревьями и цветочными клумбами. Дорожка вьется на его вершину к крыльцу большого деревянного здания школы, над его крышей виднеется маленькая колокольня кирки… Настоящая «пустынь» среди шумного, суетного Парижа. «вот бы где хорошо нам устроиться, вслух подумал я…»
На торгах дело было решено в пользу русских покупателей. К 18 августа надо было внести 35 тысяч, остальную сумму, еще 270 000, внести до декабря.
Создан был комитет по изысканию средств: кн. Б. Васильчиков, кн. Г. Трубецкой, гр. Хрептович-Бутенев, Шидловский, Аметистов, Ковалевский и другие небогатые эмигранты… Сбор пожертвований начался – и деньги потекли… – вспоминает митрополит, – Э. Нобель пожертвовал 40 000 франков, А. Ушаков – 100 фунтов… Посыпались и мелкие пожертвования… бедные рабочие, шоферы несли свои скромные трогательные лепты. Много было пожертвований от «неизвестного». Стал нарастать подъем. Дамы приносили серьги, кольца… А тем временем срок платежа приближался…»
Собранных денег было совершенно недостаточно, и митрополит был в отчаянии. Однако все вдруг разрешилось, вполне экуменическим эмигрантским способом.
«В эти тревожные дни, – продолжает свой рассказ владыка Евлогий, – пришел ко мне один приятель и говорит:
«Вот вы, владыка, так мучаетесь, а я видел на днях еврея-благотворителя Моисея Акимовича Гинзбурга, он прослышал, что вам деньги нужны. Что же, говорит, митрополит не обращается ко мне? Я бы ему помог. Или он еврейскими деньгами брезгует?» Недолго думая, я надел клобук и поехал к М. А. Гинзбургу. Я знал, что он человек широкого, доброго сердца и искренне любит Россию. На мою просьбу дать нам ссуду, которую мы понемногу будем ему выплачивать, он отозвался с редким душевным благородством. Ссуда в 100 000 его не испугала (а эта сумма нас выручала). Он дал нам ее без процентов и бессрочно. «Я верю вам на слово. Когда сможете, тогда и выплатите…» – сказал он. Благодаря этой денежной поддержке, купчая была подписана…»
В конце концов, еврейская благотворительность мало кого удивляла в той волне русской эмиграции: меценаты-евреи, уехавшие из России еще до революции, щедро жертвовали на обнищавших русских литераторов и актеров, на детские учреждения, на медицину. Усадьба в Бургундии, где размещается ныне женская православная обитель Покрова Богородицы, тоже была завещана монахиням крещеными супругами-евреями.
Однако на этом экуменические чудеса подворья Святого Сергия не кончаются. Во время Второй мировой войны немцы почти без боя вошли в Париж и вполне могли потребовать, чтоб им вернули так беспощадно отобранное школьное и церковное имущество. Но случилось иначе. Вот как рассказывает о случившемся парижская журналистка Н. Смирнова:
«… во время оккупации… усадьбу, ставшую с тех пор русской собственностью, посетил немецкий офицер, сын прежнего владельца пастора фон Бодельшвинга. Осмотрев помещения и увидев в бывшем кабинете пастора висевшую на прежнем месте фотографию отца, он заверил нынешних владельцев, имевших все основания опасаться возвращения когда-то принадлежавшей его семье собственности, что им не стоит беспокоиться».
Итак, храм был освящен 1 марта 1925 г., но как рассказывает владыка, «Храм имел еще довольно убогий вид и все еще напоминал кирху…»
Привести немецкую кирху в божеский (точнее, конечно, в «опровославленный») вид и должен был художник-иконописец.
Дмитрий Стеллецкий с готовностью и вполне бескорыстно вызвался выполнить эту сложную работу, но были у него и конкуренты на престижный этот заказ, и если Стеллецкий прислал Комитету лишь «эскиз, сделанный отдельными широкими мазками», то его конкурент, князь М. С. Путятин представил подробнейший проект иконостаса, который понравился Комитету. Стеллецкий же считал, что его имени Комитету будет достаточно в качестве гарантии качества. Как сообщает «Церковный Вестник Западно-Европейской Епархии» (N 6 за 1947 г.), выручила кандидатуру Стеллецкого поддержка великой княгини Марии Павловны. А поддержке великой княгини, кроме ее великокняжеского титула, придали вес благоприятные слухи о том, «что у Вел. Кн. Марии Павловны хранится ценный изумруд, данный ей покойной теткой Вел. Кн. Елизаветой Федоровной с пожеланием, чтобы этот камень был использован на украшение какого-нибудь храма».
При этом великая княгиня Мария Павловна на просьбу пожертвовать камень «ответила, что готова это сделать, но ставит непременным условием, чтобы храм расписывал Стеллецкий и никто другой…»
Работа была быстрой и вдохновенной. Как обычно, Стеллецкий не обращал внимания на лики. Как сообщает тот же «Вестник», «верная сотрудница Д. С. по росписи храма кн. Е. Е. Львова со свойственным ей талантом выписывала все лики святых на всех иконах, которые сам Стеллецкий иногда не дописывал, всецело доверяя эту работу ей».
Росписи на Сергиевом подворье напоминают поклоннику Стеллецкого Сергею Маковскому то византийские века православия, то клейма Ферапонтова монастыря, то северные русские узоры и русские терема, то московский период с его «палатным письмом».
Особенно большое впечатление произвело на Маковского огромное Знамение в алтарной апсиде:
«… Из всего, что создано Стеллецким в храме, это монументальное апсидное Знамение (образцом послужили лучшие иконы «золотого века» новгородского) – всего убедительнее. Тут художник действительно проникся мыслью просветленной, от веков народного благочестия, чудесной верой в чудесную запредельность…»
Историю украшения храма на Сергиевом подворье можно найти и в автобиографии митрополита Евлогия, которую владыка надиктовал Татьяне Манухиной:
«Благодаря жертвенному порыву добрых людей храм весьма скоро приобрел благолепный вид…
Великая княгиня Мария Павловна изъявила желание пожертвовать большую сумму (до 100 000 франков) на внутреннюю отделку Сергиевского храма, в память своей благочестивой тетушки, замученной большевиками, – Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Художественная роспись его, сооружение иконостаса и прочие работы по украшению храма были жертвенно, безвозмездно исполнены талантливым художником Дмитрием Семеновичем Стеллецким. Все преобразилось до неузнаваемости, стены и своды потолка покрыла художественная роспись. Художник вдохновлялся в своем творчестве лучшими образцами фресок древнерусских церквей и монастырей до начала XVI века (ферапонтовский монастырь и др.); в прекрасный многоярусный иконостас, в левый его придел вставили царские врата XIV в., приобретенные у какого-то антиквара за 15 000 фр. … Немецкая протестантская кирха скоро превратилась с чудный православный древнерусский храм».
Стеллецкий любил церковь Сергиева подворья. «За последние два года его жизни в русском Доме, – рассказывают о Стеллецком, – неоднократные уговоры съездить в Подворье, он отвечал решительным отказом, ссылаясь на то, что ничего не увидит из-за плохого здоровья и будет только плакать».
Умер Стеллецкий в 1947 г. Отпевал его декан богословского института, что и ныне размещается на Сергиевом подворье, протоиерей Василий Зеньковский, пел хор из храма Сергиевского Подворья, на гроб был возложен венок от Института и цветы от прихода с Подворья.
Институт этот и Подворье сыграли немалую роль в духовной жизни эмиграции. «На вавилонских реках русского рассеяния. – писал здешний профессор литургии архимандрит Киприан Керн, – дано было, по промыслу Божию, передать пламень старой русской духовной культуры в руки ее молодых продолжателей».
В стенах этого расписанного Стеллецким храма в начале Великого поста 1932 г. облаченная в простую рубаху поэтесса, философ, подвижница Елизавета Скобцева спустилась по лестнице с хоров и распростерлась крестообразно на полу. Она стала монахиней матерью Марией и еще десть лет спустя отдала свою жизнь за ближних…
Уже восемьдесят лет звучат молитвы в этих стенах, расписанных Дмитрием Стеллецким. После смерти художника в 1947 г. «Церковный Вестник Западно-Европейской Епархии» выразил надежду, что «Господь… вознаградит его за его чистую веру…»
Пепел таинственного петербуржца над долиной Северного Пенджаба
В середине декабря 1947 г. в глухом уголке долины Кулу близ Нагара, что в Пенджабе, умер известный русский художник, чьи театральные декорации потрясали Париж и Лондон еще перед Великой Войной (и в 1909 г., и в 1913 г.). Тело покойного было в соответствии с его завещанием сожжено по буддистскому обряду, а прах рассеян с горы над живописной долиной, в которой он прожил последние два десятилетия своей жизни. пользуясь репутацией великого учителя (гуру-деви) не только среди местных жителей, но и на других континентах нашей планеты. Впрочем, отголоски этой мировой славы русского художника-мирискусника, великого путешественника, мистика, писателя и неутомимого «борца за мир» лишь изредка долетали до глухого уголка Индии: электричество туда еще не провели, и радиоприемник лишь хило потрескивал на батарейках…
Все же смерть его не прошла незамеченной: по всему миру рассеяны были к тому времени его персональные музеи и ассоциации, названные его именем, да еще и живы были его собратья по «Миру искусства», его соратники и соперники, которые помнили о первых днях его славы. В Париже жив был главный его соперник, тот самый, что некогда назвал его, молодого и победоносного, кондотьером… И правда ведь был некогда седобородый обитатель индийской горной долины Кулу неукротим, загадочен и удачлив – был он истинный победитель. Звали его, как вы уже догадались, наверное, Константин Рерих.
Многие черты его жизни и творчества сближают его с коллегами и соперниками из общества «Мир искусства» (которое он и возглавил в начале 10-х г. прошлого века) – и образование, и пристрастия… Однако были и различия, при том, что был Николай Рерих всего на четыре года моложе Шуры Бенуа и на пять лет моложе Кости Сомова, стоявших у истоков общества.
В «Мир искусства» молодой Рерих пришел уже победителем и знаменитостью, хотя отец его и не занимал столь видного места в петербургском художественном мире, как отцы Бенуа или Сомова. Рерих всему был обязан лишь своей железной воле, своей работоспособности, своей сдержанности, такту, дипломатическому и многим другим талантам, а также еще чему-то таинственному, почти тайному, о чем не говорят, во всяком случае долгое время не говорили… но уж мы-то обо всем поговорим без утайки, кто нам с вами указ?
Родился Николай Рерих (или Рерих) в Петербурге осенью 1874 г. в особняке на Университетской (в ту пору еще Николаевской) набережной. Отец будущего художника Константин Федорович Рерих был преуспевающий нотариус, лютеранин, скорей всего – немец, а мать, Мария Васильевна Калашникова – родом из Пскова.
Мальчика крестили по православному обряду, умер он буддистом, и даже трудно сказать, какой веры он на самом деле придерживался на протяжении своей бурной, победоносной жизни знаменитого мистика – был скорее всего новоязычником, пантеистом, розенкрейцером, теософом, отцом некого учения Живой Этики…
Разнообразные легендарные подробности о псковских и скандинавских предках Николая Рериха (в неблагоприятную для петербургских немцев пору он даже просил именовать себя Роэриком – хотя, надо отдать ему должное, все же и не Рюриком) – о викингах, о воинах и купцах незапамятных времен и вдобавок о каком-то шведском офицере – все это можно, вероятно, оставить без внимания, памятуя о том, что знаменитый Николай Рерих был не только художник, но и фантазер-литератор, авантюрист-путешественник удачливый политик и мифотворец. Невольно приходит в голову история Миколы Миклухи, остроумно назвавшего себя бароном де Маклаем, или киевлянки Ани Горенко, взявшей чужой псевдоним Ахматова, да еще и придумавшей себе вдобавок родство с каким-то ханом Ахматом.
У Рерихов было загородное имение Извара в полсотне верст от Петербурга – не наследственное, а просто купленное петербургским нотариусом перед рождением сына. Про эту Извару Рерих, конечно, тоже много напридумывал… в Изваре проводили дети Константина Федоровича счастливые летние месяцы. Но может, и впрямь зародился именно там у юного Рериха интерес к старинным курганам и могильникам. Страсть к науке археологии.
Итак, археология, книги, охота, уроки рисования, которые давал мальчику М. Микешин, – отрадная школа усадебного самообразвоания, знакомая русским читателям по упоительной прозе Набокова…
Как и будущие собратья по «миру искусства», юный Николай Рерих кончал частную гимназию Карла фон Мая. Старый добрый Май преподавал географию, и уроки его нашли благодатный отклик в душе по меньшей мере одного из учеников: среди русских художников-путешественников Николай Рерих занимает выдающееся место.
Уже в гимназические годы Рерих получает от Императорского археологического общества разрешение на самостоятельные раскопки. Позднее он вспоминал, что при раскопках на могильнике ему чудились мертвяки Гоголя: весьма характерное для Рериха соединение науки, литературы и мистики…
Как и другие мирискусники, Рерих кончал юридический факультет университета (эту знаменитую кузницу литературных и художественных кадров Петербурга), одновременно с Академией художеств. В академии его наставником был Куинджи, и следы влияния этого живописца иные искусствоведы усматривают даже в поздних полотнах Рериха. На юридическом факультете Рерих защищает диплом по истории Древней Руси. Культура дохристианской, языческой Руси и даже пещеры доисторического человека бередят воображение молодого художника-археолога с юридическим дипломом. Его дипломная работа в Академии художеств тоже посвящена как бы древнерусскому сюжету. Картина называется «Гонец. Восстал род на род». На ней какие-то два мужика (предположительно, древние славяне) плывут в узком струге вверх по реке мимо селения, подступающего к воде и увенчанного крепостью. Селение затаилось в молчании, и в воздухе ощутима угроза. Людей (как и в более поздних работах Рериха) почти не видно, но незримое присутствие их ощутимо, и на затаившийся берег мы смотрим их глазами. Во всем же, что касается струга, прибрежных хижин, крепости на холме, пейзажа, одежды гребца и гонца – во всем мы полагаемся на образованного археолога-художника и ярого новоязычника. Все берем на веру. Ну да, это они, наверно, и есть, наши древние славяне, какие-то там высококультурные языческие племена…
Во всем, что касается ощущения угрозы и тайны, мы тоже полагаемся на молодого художника, склонного к мистике и уже этим интересного в Петербурге: мистика там была в большой моде на этом рубеже страшного XX в. Славяне были тоже в моде, тем более, древние.
Что касается уровня и техники живописи, то картина не вызывает никаких нареканий у академической комиссии 1897 г., одни только похвалы. Ученику уже отставленного к тому времени профессора Антона Куинджи Николаю Рериху присваивают за «Гонца» золотую медаль и звание художника. Более того, сам Третьяков покупает картину для своей галереи – высокая честь. Стасов же берет молодого художника к себе помощником в журнал «Искусство и художественная промышленность». Картину дипломника поднимают на щит и противника Стасова, но старик Стасов, несмотря на это, поддерживает кандидатуру Рериха на пост помощника директора в музее влиятельного императорского Общества поощрения художеств. Кто-то там его еще поддерживает, посильней Стасова, но это именно Стасов дает бесценный практический совет начинающему художнику: звание званием, медаль медалью, Третьяковка Третьяковкой, внимание знатных особ вниманием, но есть в глазах русского общества и повыше знаки признания… Сведу-ка я вас, сын мой, к самому графу Льву Толстому, великому писателю земли русской, и ежели он что скажет (уж что-нибудь да скажет), то и через сто лет не устанут повторять потомки, что этого «сам Толстой заметил» (так было уже со многими пишущими, рисующими, изобретающими, да вот славный наш путешественник Миклухо-Маклай вообще от фразы Толстого ведет всю свою славу, а не от собранных им черепов да палок).
И не обманул Стасов. Повез Рериха в Хамовники. И сказал Толстой что-то невнятное, но полезное – что-то вроде того, что мол, все мы гонцы, плывем против течения – на сто лет потомкам повторять хватит такую фразу. Блистательный акт того, что нынче называют пиаром…
С влиятельным Стасовым, своим покровителем и журнальным начальником, далеко не во всем молодой художник был согласен (а по характеру стилизации ближе он стоял к враждебному Стасову «Миру искусства»), но хватило у молодого и умения, и такта острые углы обойти, ничем не обидеть старика, так что Стасов с радостью ему помог получить, и старшими, чем он, давно вожделеемую должность, а также войти во многие петербургские салоны.
В одном из таких салонов, у сестер Шнайдер, сделал молодой Рерих запись, отвечая на вопросы модного «исповедального» альбома, и из записи этой видно, что уже сложился характер молодого художника, определились на десятилетия его черты и пристрастия. Главным из ценимых им качеств назвал Рерих неутомимость и любовь к путешествиям, а лозунг при этой неутомимости был неистово-безоглядный: «Вперед, вперед без оглядки!»
И неутомимость эта, и безоглядность немало поражали тогда современников, да и нынче страшновато вчуже на разброс его глядеть: зачем столько всего взваливать на свои неокрепшие плечи? Впрочем, многое представляется и вчуже славным, завидным: где вы, наши младые годы?
Летом 1899 г. молодой Рерих пускается в первое свое, еще довольно скромное, вполне комфортабельное, а нынче и вовсе интуристовское, путешествие, на пароходе в Новгород, по следам древнего пути «из варяг в греки». Похвастаю, что мне и самому в молодые годы, в обществе младшей моей сестренки-школьницы доводилось искать в валдайских лесах следы старых волоков на этом пути, ибо во второй половине XX в. снова пробуждался у нас, россиян, как и на рубеже того века, интерес к Древней Руси. И вот тогда, близ валдайских озер, в лыкошинской и вельевской глуши, не раз набредал я в своих странствиях и на следы молодого Рериха-археолога. Ему же удалось совершить в том валдайском озерном краю находку и посущественней черепков из кургана: близ станции Бологое, в имении славного археолога князя Путятина встретил молодой Рерих девушку с чудо-косой, племянницу княгини и правнучку фельдмаршала Кутузова Елену Ивановну Шапошникову. Самый был ему возраст кого-нибудь встретить, хотя бы и в валдайской глуши, а тут – племянница, да правнучка с русой косой, на фортепьянах играет замечательно, увлекается русской историей и имеет такое же, как сам молодой художник (а может, еще и большее, чем он), тяготение ко всяческой мистике, эзотерике. Ко всему загадочному и непонятному – родство душ, судьба, самое время вмешаться судьбе… без нее, как выбрать подругу жизни?
Вероятно, выглядело это сближение явным мезальянсом, имелись у Елены и более завидные претенденты на ее руку, но «ясный взгляд» знаменитого уже художника пришелся ей по душе. От семьи пришлось их отношения до времени таить – все же был художник лишь сыном нотариуса-немца (их, впрочем, всех тогда называли «немцами» – Немецкая слобода). Конечно, у самого художника сыскалась для подобных случаев семейная легенда, упоминавшая про какого-то якобы существовавшего в роду нотариуса Рериха шведского офицера, где-то там, в дыму далекой петровских времен войны, но ни князей, ни фельдмаршалов даже в том непроглядном легендарном дыму не маячило, а тут…
В бологовском имении князя Путятина сын нотариуса сидел в кабинете, где не раз сиживал гостивший у князя Павла Арсеньича император Александр II… Красивая аристократка Елена была на пять лет моложе Николая, в общем, было за что бороться. И еще что-то прибавлялось к этому, неуловимое и важное… В общем, все признаки любви.
В Петербурге Елена Ивановна (в дальнейшем прозываемая Рерихом «Ладой» и «другиней») стала заглядывать в мастерскую художника. Как бы смущенный таким оборотом дела, рассудительный Рерих поверяет свое смущение дневнику: «… была Е. И. в мастерской. Боюсь за себя – в ней очень много хорошего. Опять мне начинает хотеться видеть ее как можно чаще, бывать там, где она бывает».
Он как бы пытается защищаться, но разум молчит: дело идет к браку. А может, именно разум, новая вера и общность убеждений помогают ему решиться на брак. Елена учит его манерам и светской дипломатии – как надо писать ее дяде о безмерном к нему уважении, в каких словах, чтоб не переборщить… И с его стороны тут все, может быть, вполне искренне – потому что и князя-дядю, президента Археологического общества Рерих почитает, и других князей, которые у них на заседаниях общества присутствуют, тем более великих князей…
Вот, намедни, молодой Рерих сделал сообщение, а председательствовал на заседании общества великий князь Константин Константинович, и дяденька князь Павел Арсеньевич были, кажется, довольны. После втайне проведенной молодою парой подготовительной кампании Рерих делает предложение Елене, и красивая Лада из знатного дома отвечает вполне худородному петербургскому Лелю согласием. Впрочем, может быть, в их кружке, где верят в «Высшие существа» и «сверхчеловеков», в посланцев иного мира или прежних миров, там вообще несколько по иному выглядит старая табель о рангах.
Пока что приходится бракосочетание отложить: на первом месте все-таки живопись. Рерих работает с упорством и неслыханной плодовитостью, умножая картины из серии «Начало Руси. Славяне». По мнению некоторых знатоков, картины его были однообразны и похожи на увеличенные книжные иллюстрации. По мнению других, они были прекрасны. По всеобщему мнению, они были своевременными, идейно выдержанными, отвечали высоким задачам нашего величия и оттого высоко ценились в верхах. Была в них также уместная мистика, которая ценилась не меньше патриотизма.
Как раз в ту пору Николаю Рериху представилась возможность поучиться во Франции – и живописи и языкам. Ему ведь не довелось в детстве, как Косте Сомову, колесить с маменькой по всей Европе. А тут как раз скончался отец, Константин Рерих, матушка продала имение Извары, и Николай Рерих, получив свою долю, смог уехать на год в Париж. Он снял ателье на Монмартре, много работал, брал уроки у знаменитого педагога Фернана Кормона, который и сам увлекался историческими сюжетами.
Искусствоведы отмечали, что после Парижа сдержанная и несколько мрачноватая палитра Рериха стала красочней. Из французов ему по душе пришлись Гоген, Дега и, конечно, автор стилизованных росписей на темы истории Пьер Пюви де Шаванн. Следы их влияния нетрудно углядеть в послепарижских работах Рериха.
На парижскую всемирную выставку 1900 г. Рерих отдал свою картину «Сходятся старцы».
Летом 1901 г. Рерих вернулся в Петербург, а в конце октября обвенчался в церкви Императорской Академии Художеств с Еленой Ивановской Шапошниковой, ставшей по выражению Рериха, его «другиней-вдохновительницей». В целях прокормления семейства Рерих решил стать секретарем Общества поощрения художеств и смог получить этот многими собратьями вожделеемый пост. Для этого мало было поддержки Стасова, но молодой художник уже умел заручиться доброжелательной симпатией и в более высоких сферах, отчасти теперь родственных, отчасти единомышленных. Он оказался блестящим дипломатом, тактичным царедворцем и энергичным администратором. Да и художественная его репутация росла неуклонно. Одна из первых его картин, написанных по возвращении из Парижа в новой, более красочной чем прежде, манере («Заморские гости. Народная живопись.1901), была замечена на выставке в Академии художеств Государем и куплена для царского дворца. Похоже, что имя начинающего художника уже было известно во дворце через многих славных и власть имущих.
Несмотря на занятость административной и педагогической работой, Рерих пишет очень много картин. Всю жизнь он писал много и быстро, раз в двадцать быстрее, чем какой-нибудь Сомов. Он оставил после себя не сотни, а тысячи (тысяч семь, а может, и больше!) картин. Даже в среднем на каждый год его творческой жизни приходится больше сотни картин (а были ведь при этом месяцы и годы трудных путешествий).
В академической «Истории русского искусства» (выходившей под редакцией И. Грабаря) один из авторов X (же почти «оттепельного») тома (В. Петров) отмечает раннее сближение Рериха с другими мирискусниками и их дальнейшее расхождение. У Рериха «… цвет ложится яркими локальными пятнами, очерченными жесткой силуэтной линией. Стилизуя картину в духе средневековой миниатюры, художник не отступает перед деформацией и нарочитой условностью. Форма превращается в плоский силуэт, композиция строится на ритме контурных линий, образующих почти орнаментальный узор, а пространственное решение обнаруживает тенденцию к плоскостности.
Преобладание линейно-графических приемов над живописно-пространственными, а также черты стилизации характеризуют и позднейшие циклы картин Рериха, однако это сближение с методом мастеров «Мира искусства» осталось в значительной степени внешним… Мастерское владение линией может повести художника к графике, миниатюре, к искусству книги, но от тех же линейных приемов открывается и иной путь к синтетическому монументально-декоративному творчеству. Именно этот путь выбрал для себя Рерих».
Как и многие художники «Мира искусства», Рерих был художником «ретроспективным», писал картины на темы прошлого. Иногда эти картины называют «историческими», но они не в большей степени историчны, чем «исторические» романы Дюма. Пожалуй, даже в меньшей, ибо от тех времен, которые волновали воображение Рериха, не осталось ничего, кроме черепков и железок. Ведь одной из его любимых тем были жизнь доисторического человека и Каменный век, специалистом по которому слыл в Петербурге его новый родственник князь Петр Арсеньевич Путятин. Жизнь дикаря из каменного века представлялась петербургскому художнику-новоязычнику идиллической, гармонической и бесконечно длинной – в общем, существовал некий золотой век человечества, то ли дикий, то ли высококультурный. Может, наш дикий предок жил даже в гармонии с убиваемым им мамонтом или раздирающим его тигром. Жил в согласии со своими таинственными идолами… В сущности, не многим больше было известно и о психологии славянских или дославянских племен. Существуют лишь какие-то мифы и легенды, которые как раз и волнуют художника, именно своей таинственностью, ненадежностью… Тем лучше – художник сам примет участие в мифотворчестве, тем более, что подобное мифотворчество, как выяснилось, поощряется щедрой властью, которая ищет себе великих предков в смутных глубинах незапамятных времен. Тому примеры сыщутся не в одной России, но и в передовой Франции. Скажем, доподлинно известно, с кем спала длинноносая и темпераментная падчерица Бонапарта, но что от этого проку прижитому ей с кем-то императору? А вот таинственные галлы – другое дело, они всем нужны. А кто о них помнит, кто их видел? Разве что Юлий Цезарь, оставивший нам это имя в знаменитой книге. Но маловато одной книги, нужны раскопки, нужны мистические картины, скульптуры… Те же проблемы могли возникнуть и ближе по времени, скажем, с небезупречного поведении немочки, которую привыкли звать русской матушкой-государыней. Или вот еще заманчивая тема – исконные наши древние славяне и скифы, и благородные скандинавские викинги, а также идолы и вещие кудесники…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.