Текст книги "Упраздненный театр. Стихотворения"
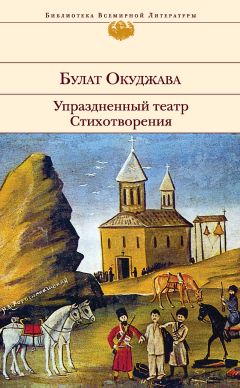
Автор книги: Булат Окуджава
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
И, уходя, в ночной тиши
без долгих слов решайте:
огонь сосны с огнем души
в печи перемешайте.
Пусть будет теплою стена
и мягкою – скамейка…
Дверям закрытым – грош цена,
замку цена – копейка!
* * *
Опустите, пожалуйста, синие шторы.
Медсестра, всяких снадобий мне не готовь.
Вот стоят у постели моей кредиторы
молчаливые: Вера, Надежда, Любовь.
Раскошелиться б сыну недолгого века,
да пусты кошельки упадают с руки…
– Не грусти, не печалуйся, о моя Вера, —
остаются еще у тебя должники!
И еще я скажу и бессильно и нежно,
две руки виновато губами ловя:
– Не грусти, не печалуйся, матерь Надежда, —
есть еще на земле у тебя сыновья!
Протяну я Любови ладони пустые,
покаянный услышу я голос ее:
– Не грусти, не печалуйся, память не стынет,
я себя раздарила во имя твое.
Но какие бы руки тебя ни ласкали,
как бы пламень тебя ни сжигал неземной,
в троекратном размере болтливость людская
за тебя расплатилась… Ты чист предо мной!
Чистый-чистый лежу я в наплывах рассветных,
белым флагом струится на пол простыня…
Три сестры, три жены, три судьи милосердных
открывают бессрочный кредит для меня.
* * *
Глаза, словно неба осеннего свод,
и нет в этом небе огня,
и давит меня это небо и гнет —
вот так она любит меня.
Прощай. Расстаемся. Пощады не жди!
Всё явственней день ото дня,
что пусто в груди, что темно впереди —
вот так она любит меня.
Ах, мне бы уйти на дорогу свою,
достоинство молча храня!
Но старый солдат, я стою, как в строю.
Вот так она любит меня.
* * *
Не пробуй этот мед: в нём ложка дегтя.
Чего не заработал – не проси.
Не плюй в колодец. Не кичись. До локтя
всего вершок – попробуй укуси.
Час утренний – делам, любви – вечерний,
раздумьям – осень, бодрости – зима…
Весь мир устроен из ограничений,
чтобы от счастья не сойти с ума.
* * *
О. Батраковой
…И когда под вечер над тобою
журавли охрипшие летят,
ситцевые женщины толпою
сходятся – затмить тебя хотят.
Молчаливы. Ко всему готовы.
Окружают, красотой соря…
Ситцевые, ситцевые, что вы!
Вы с ума сошли: она ж – своя!
Там, за поворотом Малой Бронной,
где окно распахнуто на юг,
за ее испуганные брови
десять пар непуганых дают.
Тех, которые ее любили,
навсегда связала с ней судьба.
И за голубями голубыми
больше не уходят ястреба.
Вот и мне не вырваться из плена.
Так кружиться мне, и так мне жить…
Я – алхимик.
Ты – моя проблема
вечная…
тебя не разрешить.
* * *
Эта женщина! Увижу и немею.
Потому-то, понимаешь, не гляжу.
Ни кукушкам, ни ромашкам я не верю
и к цыганкам, понимаешь, не хожу.
Напророчат: не люби ее такую,
набормочут: до рассвета заживет,
наколдуют, нагадают, накукуют…
А она на нашей улице живет!
* * *
О. Батраковой
Мне нужно на кого-нибудь молиться.
Подумайте, простому муравью
вдруг захотелось в ноженьки валиться,
поверить в очарованность свою!
И муравья тогда покой покинул,
всё показалось будничным ему,
и муравей создал себе богиню
по образу и духу своему.
И в день седьмой, в какое-то мгновенье,
она возникла из ночных огней
без всякого небесного знаменья…
Пальтишко было легкое на ней.
Всё позабыв – и радости, и муки,
он двери распахнул в свое жилье
и целовал обветренные руки
и старенькие туфельки ее.
И тени их качались на пороге,
безмолвный разговор они вели,
красивые и мудрые, как боги,
и грустные, как жители земли.
* * *
Не верь войне, мальчишка,
не верь: она грустна.
Она грустна, мальчишка,
как сапоги тесна.
Твои лихие кони
не смогут ничего:
ты весь – как на ладони,
все пули – в одного.
Песенка о бумажном солдатике
Один солдат на свете жил,
красивый и отважный,
но он игрушкой детской был,
ведь был солдат бумажный.
Он переделать мир хотел,
чтоб был счастливым каждый,
а сам на ниточке висел:
ведь был солдат бумажный.
Он был бы рад в огонь и в дым,
за вас погибнуть дважды,
но потешались вы над ним,
ведь был солдат бумажный.
Не доверяли вы ему
своих секретов важных.
А почему? А потому,
что был солдат бумажный.
А он, судьбу свою кляня,
не тихой жизни жаждал,
и все просил: «Огня, огня!» —
забыв, что он бумажный.
В огонь? Ну что ж, иди! Идешь?
И он шагнул однажды,
и там сгорел он ни за грош:
ведь был солдат бумажный.
Песенка о солдатских сапогах
Вы слышите: грохочут сапоги?
И птицы ошалелые летят.
И женщины глядят из-под руки.
Вы поняли, куда они глядят?
Вы слышите: грохочет барабан?
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней…
Уходит взвод в туман-туман-туман…
А прошлое ясней-ясней-ясней.
А где же наше мужество, солдат,
когда мы возвращаемся назад?
Его, наверно, женщины крадут
и, как птенца, за пазуху кладут.
А где же наши женщины, дружок,
когда вступаем мы на свой порог?
Они встречают нас и вводят в дом,
но в нашем доме пахнет воровством.
А мы рукой на прошлое: вранье!
А мы с надеждой в будущее: свет!
А по полям жиреет воронье,
а по пятам война грохочет вслед.
И снова переулком – сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки…
В затылки наши круглые глядят.
Дежурный по апрелю
Ах, какие удивительные ночи!
Только мама моя в грусти и тревоге:
– Что же ты гуляешь, мой сыночек,
одинокий,
одинокий? —
Из конца в конец апреля путь держу я.
Стали звезды и круглее и добрее…
– Мама, мама, это я дежурю,
я – дежурный
по апрелю!
– Мой сыночек, вспоминаю всё, что было,
стали грустными глаза твои, сыночек…
Может быть, она тебя забыла,
знать не хочет?
Знать не хочет? —
Из конца в конец апреля путь держу я.
Стали звезды и круглее и добрее…
– Что ты, мама! Просто я дежурю,
я – дежурный
по апрелю…
* * *
Г. Венгеровой
Тьмою здесь всё занавешено
И тишина, как на дне…
Ваше величество женщина,
да неужели – ко мне?
Тусклое здесь электричество,
с крыши сочится вода.
Женщина, ваше величество,
как вы решились сюда?
О, ваш приход – как пожарище.
Дымно, и трудно дышать…
Ну, заходите, пожалуйста.
Что ж на пороге стоять?
Кто вы такая? Откуда вы?!
Ах, я смешной человек…
Просто вы дверь перепутали,
улицу, город и век.
По Смоленской дороге
По Смоленской дороге – леса, леса, леса.
По Смоленской дороге – столбы, столбы, столбы.
Над Смоленской дорогою, как твои глаза, —
две вечерних звезды – голубых моей судьбы.
По Смоленской дороге – метель в лицо, в лицо,
всё нас из дому гонят дела, дела, дела.
Может, будь понадежнее рук твоих кольцо —
покороче б, наверно, дорога мне легла.
По Смоленской дороге – леса, леса, леса.
По Смоленской дороге – столбы гудят, гудят.
На дорогу Смоленскую, как твои глаза,
две холодных звезды голубых глядят, глядят.
* * *
Горит пламя, не чадит.
Надолго ли хватит?
Она меня не щадит —
тратит меня, тратит.
Быть недолго молодым,
скоро срок догонит.
Неразменным золотым
покачусь с ладони.
Потемнят меня ветра,
дождичком окатит…
А она щедра, щедра —
надолго ли хватит?
Старый пиджак
Я много лет пиджак ношу.
Давно потерся и не нов он.
И я зову к себе портного
и перешить пиджак прошу.
Я говорю ему шутя:
«Перекроите всё иначе,
сулит мне новые удачи
искусство кройки и шитья».
Я пошутил. А он пиджак
серьезно так перешивает,
а сам-то всё переживает:
вдруг что не так. Такой чудак.
Одна забота наяву
в его усердье молчаливом,
чтобы я выглядел счастливым
в том пиджаке, пока живу.
Он представляет это так:
едва лишь я пиджак примерю —
опять в твою любовь поверю…
Как бы не так. Такой чудак.
Черный кот
Со двора подъезд известный
под названьем черный ход.
В том подъезде, как в поместье,
проживает черный кот.
Он в усы усмешку прячет,
темнота ему, как щит.
Все коты поют и плачут,
этот черный кот молчит.
Он давно мышей не ловит,
усмехается в усы,
ловит нас на честном слове,
на кусочке колбасы.
Он не требует, не просит,
желтый глаз его горит,
каждый сам ему выносит
и спасибо говорит.
Он и звука не проронит,
только ест и только пьет.
Лестницу когтями тронет —
как по горлу поскребет.
Оттого-то, знать, невесел
дом, в котором мы живем…
Надо б лампочку повесить —
денег всё не соберем.
* * *
Мне в моем метро никогда не тесно,
потому что с детства оно – как песня,
где вместо припева, вместо припева:
«Стойте справа, проходите слева».
Порядок вечен, порядок свят:
Те, что справа стоят, – стоят.
А те, что идут, всегда должны
держаться левой стороны.
* * *
Это случится, случится,
этого не миновать:
вскрикнут над городом птицы,
будут оркестры играть.
Станет прозрачнее воздух,
пушек забудется гам,
и пограничное войско
с песней уйдет по домам.
Кровь и военная служба
сгинут навеки во мгле —
вот уж воистину дружба
будет царить на земле.
Это случится, случится.
В домнах расплавят броню…
Не забывайте учиться
этому нужному дню.
* * *
А. Шуб
Нева Петровна, возле вас – всё львы.
Они вас охраняют молчаливо.
Я с женщинами не бывал счастливым,
вы – первая. Я чувствую, что – вы.
Послушайте, не ускоряйте бег,
банальным славословьем вас не трону:
ведь я не экскурсант, Нева Петровна,
я просто одинокий человек.
Мы снова рядом. Как я к вам привык!
Я всматриваюсь в ваших глаз глубины.
Я знаю: вас великие любили,
да вы не выбирали, кто велик.
Бывало, вы идете на проспект,
не вслушиваясь в титулы и званья,
а мраморные львы – рысцой за вами
и ваших глаз запоминают свет.
И я, бывало, к тем глазам нагнусь
и отражусь в их океане синем
таким счастливым, молодым и сильным.
Так отчего, скажите, ваша грусть?
Пусть говорят, что прошлое не в счет.
Но волны набегают, берег точат,
и ваше платье цвета белой ночи
мне третий век забыться не дает.
* * *
На белый бал берез не соберу.
Холодный хор хвои хранит молчанье.
Кукушки крик, как камешек отчаянья,
всё катится и катится в бору.
И всё-таки я жду из тишины
(как тот актер, который знает цену
чужим словам, что он несет на сцену)
каких-то слов, которым нет цены.
Ведь у надежд всегда счастливый цвет,
надежный и таинственный немного, —
особенно, когда глядишь с порога,
особенно, когда надежды нет.
* * *
Б. Ахмадулиной
Рифмы, милые мои,
баловни мои, гордячки!
Вы – как будто соловьи
из бессонниц и горячки,
вы – как музыка за мной,
умопомраченья вроде,
вы – как будто шар земной,
вскрикнувший на повороте.
С вами я, как тот богач,
и куражусь и чудачу,
но из всяких неудач
выбираю вам удачу…
Я как всадник на коне
со склоненной головою…
Господи, легко ли мне?
Вам-то хорошо ль со мною?
Главная песенка
Наверное, самую лучшую
на этой земной стороне
хожу я и песенку слушаю —
она шевельнулась во мне.
Она еще очень неспетая.
Она зелена, как трава.
Но чудится музыка светлая,
и строго ложатся слова.
Сквозь время, что мною не пройдено,
сквозь смех наш короткий и плач
я слышу: выводит мелодию
какой-то грядущий трубач.
Легко, необычно и весело
кружит над скрещеньем дорог
та самая главная песенка,
которую спеть я не смог.
Песенка про дураков
Вот так и ведется на нашем веку:
на каждый прилив по отливу,
на каждого умного по дураку, —
всё поровну, всё справедливо.
Но принцип такой дуракам не с руки:
с любых расстояний их видно.
Кричат дуракам: «Дураки! Дураки!..»
А это им очень обидно.
И чтоб не краснеть за себя дураку,
чтоб каждый был выделен, каждый,
на каждого умного по ярлыку
повешено было однажды.
Давно в обиходе у нас ярлыки
по фунту на грошик на медный.
И умным кричат: «Дураки! Дураки!»
А вот дураки незаметны.
* * *
Плыл троллейбус по улице.
Женщина шла впереди.
И все мужчины в троллейбусе
молча смотрели ей вслед.
Троллейбус промчался мимо,
женщину он обогнал.
Но все мужчины в троллейбусе
глаз не сводили с нее.
Только водитель троллейбуса
головой не вертел:
ведь должен хотя бы кто-нибудь
все время смотреть вперед.
Песенка о пехоте
Простите пехоте,
что так неразумна бывает она:
всегда мы уходим,
когда над землею бушует весна.
И шагом неверным
по лестничке шаткой (спасения нет).
Лишь белые вербы,
как белые сестры, глядят тебе вслед.
Не верьте погоде,
когда затяжные дожди она льет.
Не верьте пехоте,
когда она бравые песни поет.
Не верьте, не верьте,
когда по садам закричат соловьи:
у жизни со смертью
еще не окончены счеты свои.
Нас время учило:
живи по-походному, дверь отворя…
Товарищ мужчина,
а всё же заманчива доля твоя:
всегда ты в походе,
и только одно отрывает от сна:
чего ж мы уходим,
когда над землею бушует весна?
Песенка о старом, больном, усталом короле, который отправился завоевывать чужую страну, и о том, что из этого получилось
В поход на чужую страну собирался король.
Ему королева мешок сухарей насушила
и старую мантию так аккуратно зашила,
дала ему пачку махорки и в тряпочке соль.
И руки свои королю положила на грудь,
сказала ему, обласкав его взором лучистым:
«Получше их бей, а не то прослывешь пацифистом,
и пряников сладких отнять у врага не забудь».
И видит король – его войско стоит средь двора.
Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор.
Сказал им король: «Не страшны нам ни пресса, ни ветер,
врага мы побьем и с победой придем, и ура!»
Но вот отгремело прощальных речей торжество.
В походе король свою армию переиначил:
веселых солдат интендантами сразу назначил,
а грустных оставил в солдатах – «Авось, ничего».
Представьте себе, наступили победные дни.
Пять грустных солдат не вернулись из схватки военной.
Ефрейтор, морально нестойкий, женился на пленной,
но пряников целый мешок захватили они.
Играйте, оркестры, звучите, и песни и смех.
Минутной печали не стоит, друзья, предаваться.
Ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться,
и пряников, кстати, всегда не хватает на всех.
Песенка веселого солдата
Возьму шинель, и вещмешок, и каску,
в защитную окрашенные краску.
Ударю шаг по улицам горбатым…
Как просто быть солдатом, солдатом.
Забуду все домашние заботы.
Не надо ни зарплаты, ни работы.
Иду себе, играю автоматом…
Как просто быть солдатом, солдатом.
А если что не так – не наше дело:
как говорится, родина велела.
Как славно быть ни в чём не виноватым
совсем простым солдатом, солдатом.
Чудесный вальс
Ю. Левитанскому
Музыкант в лесу под деревом наигрывает вальс.
Он наигрывает вальс то ласково, то страстно.
Что касается меня, то я опять гляжу на вас,
а вы глядите на него, а он глядит в пространство.
Целый век играет музыка. Затянулся наш пикник.
Тот пикник, где пьют и плачут, любят и бросают.
Музыкант приник губами к флейте. Я бы к вам приник!
Но вы, наверно, тот родник, который не спасает.
А музыкант играет вальс. И он не видит ничего.
Он стоит, к стволу березовому прислонясь плечами.
И березовые ветки вместо пальцев у него,
а глаза его березовые строги и печальны.
А перед ним стоит сосна, вся в ожидании весны.
А музыкант врастает в землю… Звуки вальса льются…
И его худые ноги как будто корни той сосны —
они в земле переплетаются, никак не расплетутся.
Целый век играет музыка. Затянулся наш роман.
Он затянулся в узелок, горит он – не сгорает…
Ну, давайте ж успокоимся! Разойдемся по домам!..
Но вы глядите на него… А музыкант играет.
Живописцы
Ю. Васильеву
Живописцы, окуните ваши кисти
в суету дворов арбатских и в зарю,
чтобы были ваши кисти словно листья,
словно листья, словно листья к ноябрю.
Окуните ваши кисти в голубое,
по традиции забытой городской,
нарисуйте и прилежно и с любовью,
как с любовью мы проходим по Тверской.
Мостовая пусть качнется, как очнется!
Пусть начнется, что еще не началось!
Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется…
Что гадать нам: удалось – не удалось?
Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы,
наше лето, нашу зиму и весну…
Ничего, что мы – чужие. Вы рисуйте!
Я потом, что непонятно, объясню.
* * *
Ах ты, шарик голубой,
грустная планета,
что ж мы делаем с тобой?
Для чего все это?
Всё мы топчемся в крови,
а ведь мы могли бы…
Реки, полные любви,
по тебе текли бы!
* * *
На мне костюмчик серый-серый,
совсем как серая шинель.
И выхожу я на эстраду
и тихим голосом пою.
А люди в зале плачут-плачут —
не потому, что я велик,
и не меня они жалеют,
а им себя, наверно, жаль.
Жалейте, милые, жалейте,
пока жалеется еще,
пока в руке моей гитара,
а не тяжелый автомат.
Жалейте, будто бы в дорогу
вы провожаете меня…
На мне костюмчик серый-серый.
Совсем как серая шинель.
Осень в Кахетии
Вдруг возник осенний ветер, и на землю он упал.
Красный ястреб в листьях красных словно в краске утопал.
Были листья странно скроены, похожие на лица, —
сумасшедшие закройщики кроили эти листья,
озорные, заводные посшивали их швеи…
Листья падали на палевые пальчики свои.
Называлось это просто: отлетевшая листва.
С ней случалось это часто по традиции по давней.
Было поровну и в меру в ней улыбки и страданья,
торжества и увяданья, колдовства и мастерства.
И у самого порога, где кончается дорога,
веселился, и кружился, и плясал хмельной немного
лист осенний, лист багряный, лист с нелепою резьбой…
В час, когда печальный ястреб вылетает на разбой.
О кузнечиках
Два кузнечика зеленых в траве, насупившись, сидят.
Над ними синие туманы во все стороны летят.
Под ними красные цветочки и золотые лопухи…
Два кузнечика зеленых пишут белые стихи.
Они перышки макают в облака и молоко,
чтобы белые их строчки было видно далеко,
и в затылках дружно чешут, каждый лапкой шевелит,
Но заглядывать в работу один другому не велит.
К ним бежит букашка божья, бедной барышней бежит,
но у них к любви и ласкам что-то сердце не лежит.
К ним и прочие соблазны подбираются, тихи,
но кузнечики не видят – пишут белые стихи.
Снег их бьет, жара их мучит, мелкий дождичек кропит,
шар земной на повороте отвратительно скрипит…
Но меж летом и зимою, между счастьем и бедой
прорастает неизменно вещий смысл работы той,
и сквозь всякие обиды пробиваются в века
хлеб (поэма), жизнь (поэма), ветка тополя (строка) …
Шарманка-шарлатанка
Е. Евтушенко
Шарманка-шарлатанка, как сладко ты поешь!
Шарманка-шарлатанка, куда меня зовешь?
Шагаю еле-еле, вершок за пять минут.
Ну как дойти до цели, когда ботинки жмут?
Работа есть работа. Работа есть всегда.
Хватило б только пота на все мои года.
Расплата за ошибки – она ведь тоже труд.
Хватило бы улыбки, когда под ребра бьют.
* * *
Оле
Он, наконец, явился в дом,
где она сто лет вздыхала о нем,
куда он сам сто лет спешил:
ведь она так решила и он решил.
Клянусь, что это любовь была.
Посмотри – ведь это ее дела.
Но, знаешь, хоть Бога к себе призови,
всё равно ничего не понять в любви.
И поздний дождь в окно стучал,
и она молчала, и он молчал,
и он повернулся, чтобы уйти,
и она не припала к его груди.
Я клянусь, что и это любовь была.
Посмотри – ведь это ее дела.
Но, знаешь, хоть Бога к себе призови,
всё равно ничего не понять в любви.
* * *
А как первая любовь – она сердце жжет.
А вторая любовь – она к первой льнет.
А как третья любовь – ключ дрожит в замке,
ключ дрожит в замке, чемодан в руке.
А как первая война – да ничья вина.
А вторая война – чья-нибудь вина.
А как третья война – лишь моя вина,
а моя вина – она всем видна.
А как первый обман – да на заре туман.
А второй обман – закачался пьян.
А как третий обман – он ночи черней,
он ночи черней, он войны страшней.
Ночной разговор
Оле
– Мой конь притомился. Стоптались мои башмаки.
Куда же мне ехать? Скажите мне, будьте добры.
– Вдоль Красной реки, моя радость, вдоль Красной реки,
до Синей горы, моя радость, до Синей горы.
– А где ж та река и гора? Притомился мой конь.
Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда?
– На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь,
езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда.
– А где же тот ясный огонь? Почему не горит?
Сто лет подпираю я небо ночное плечом…
– Фонарщик был должен зажечь, да фонарщик-то спит,
фонарщик-то спит, моя радость, а я ни при чем.
И снова он едет один без дороги во тьму.
Куда же он едет, ведь ночь подступила к глазам!..
– Ты что потерял, моя радость? – кричу я ему.
А он отвечает: – Ах, если б я знал это сам!
Песенка о Барабанном переулке
В Барабанном переулке барабанщики живут.
Поутру они как встанут, барабаны как возьмут,
как ударят в барабаны, двери настежь отворя…
Но где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?
В Барабанном переулке барабанщиц нет, хоть плачь.
Лишь грохочут барабаны ненасытные, хоть прячь.
То ли утренние зори, то ль вечерняя заря…
Но где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?
Барабанщик пестрый бантик к барабану привязал,
барабану бить побудку, как по буквам, приказал
и пошел по переулку, что-то в сердце затая…
Но где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?
А в соседнем переулке барабанщицы живут
и, конечно, в переулке очень добрыми слывут,
и за ними ведь не надо отправляться за моря…
Но где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?!
* * *
В чаду кварталов городских,
среди несметных толп людских
на полдороге к раю
звучит какая-то струна,
но чья она, о чем она,
кто музыкант – не знаю.
Кричит какой-то соловей
отличных городских кровей,
как мальчик, откровенно:
«Какое счастье – смерти нет!
Есть только тьма и только свет —
всегда попеременно».
Столетья строгого дитя,
он понимает не шутя,
в значении высоком:
вот это – дверь, а там – порог,
за ним – толпа, над ней – пророк
и слово – за пророком.
Как прост меж тьмой и светом спор!
И счастлив я, что с давних пор
всё это принимаю.
Хотя, куда ты ни взгляни,
кругом пророчества одни,
а кто пророк – не знаю.
Два великих слова
Не пугайся слова «кровь» —
кровь, она всегда прекрасна.
Кровь ярка, красна и страстна,
«кровь» рифмуется с «любовь».
Этой рифмы древний лад!
Разве ты не клялся ею,
самой малостью своею,
чем богат и не богат?
Жар ее неотвратим…
Разве ею ты не клялся
в миг, когда один остался
с вражьей пулей на один?
И когда упал в бою,
эти два великих слова,
словно красный лебедь, снова
прокричали песнь твою.
И когда пропал в краю
вечных зим, песчинка словно,
эти два великих слова
прокричали песнь твою.
Мир качнулся. Но опять
в стуже, пламени и бездне
эти две великих песни
так слились, что не разнять.
И не верь ты докторам,
что для улучшенья крови
килограмм сырой моркови
нужно кушать по утрам.
Ленинградская музыка
Пока еще звезды последние не отгорели,
вы встаньте, вы встаньте с постели, сойдите к дворам,
туда, где – дрова, где пестреют мазки акварели…
И звонкая скрипка Растрелли послышится вам.
Неправда, неправда, всё – враки, что будто бы старят
старанья и годы! Едва вы очутитесь тут,
как в колокола купола золотые ударят,
колонны горластые трубы свои задерут.
Веселую полночь люби – да на утро надейся…
Когда ни грехов и ни горестей не отмолить,
качаясь, игла опрокинется с Адмиралтейства
и в сердце ударит, чтоб старую кровь отворить.
О, вовсе не ради парада, не ради награды,
а просто для нас, выходящих с зарей из ворот,
гремят барабаны гранита, кларнеты ограды
свистят менуэты… И улица Росси поет!
Как я сидел в кресле царя
Век восемнадцатый. Актеры
играют прямо на траве.
Я – Павел Первый, тот, который
сидит России во главе.
И полонезу я внимаю,
и головою в такт верчу,
по-царски руку поднимаю,
но вот что крикнуть я хочу:
«Срывайте тесные наряды!
Презренье хрупким каблукам…
Я отменяю все парады…
Чешите все по кабакам…
Напейтесь все, переженитесь
кто с кем желает, кто нашел…
А ну, вельможи, оглянитесь!
А ну-ка денежки на стол!..»
И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя…
Но нет, нельзя. Я ж – Павел Первый.
Мне бунт устраивать нельзя.
И снова полонеза звуки.
И снова крикнуть я хочу:
«Ребята, навострите руки,
вам это дело по плечу:
смахнем царя… Такая ересь!
Жандармов всех пошлем к чертям —
мне самому они приелись…
Я сам вас поведу… Я сам…»
И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя…
Но нет, нельзя. Я ж – Павел Первый.
Мне бунт устраивать нельзя.
И снова полонеза звуки.
Мгновение – и закричу:
«За вашу боль, за ваши муки
собой пожертвовать хочу!
Не бойтесь, судей не жалейте,
иначе – всем по фонарю.
Я зрю сквозь целое столетье…
Я знаю, что я говорю!»
И золотую шпагу нервно
готовлюсь выхватить, грозя…
Да мне ж нельзя. Я – Павел Первый.
Мне бунтовать никак нельзя.
Храмули
Храмули – серая рыбка с белым брюшком.
А хвост у нее как у кильки, а нос – пирожком.
И чудится мне, будто брови ее взметены
и к сердцу ее все на свете крючки сведены.
Но если вглядеться в извилины жесткого дна —
счастливой подковкою там шевелится она.
Но если всмотреться в движение чистой струи —
она как обрывок еще не умолкшей струны.
И если внимательно вслушаться, оторопев, —
у песни бегущей воды эта рыбка – припев.
На блюде простом, пересыпана пряной травой,
лежит и кивает она голубой головой.
И нужно достойно и точно ее оценить,
как будто бы первой любовью себя осенить.
Потоньше, потоньше колите на кухне дрова,
такие же тонкие, словно признаний слова!
Представьте, она понимает призванье свое:
и громоподобные пиршества не для нее.
Ей тосты смешны, с позолотою вилки смешны,
ей чуткие пальцы и теплые губы нужны.
Ее не едят, а смакуют в вечерней тиши,
как будто беседуют с ней о спасенье души.
* * *
Человек стремится в простоту,
как небесный камень – в пустоту,
медленно сгорает
и за предпоследнюю черту
нехотя взирает.
Но во глубине его очей
будто бы – во глубине ночей
что-то назревает.
Время изменяет его внешность.
Время усмиряет его нежность.
Словно пламя спички на мосту,
гасит красоту.
Человек стремится в простоту
через высоту.
Главные его учителя —
Небо и Земля.
* * *
Оле
Ты – мальчик мой, мой белый свет,
оруженосец мой примерный.
В круговороте дней и лет
какие ждут нас перемены?
Какие примут нас века?
Какие смехом нас проводят?..
Живем как будто в половодье…
Как хочется наверняка!
Счастливчик Пушкин
Александру Сергеичу хорошо!
Ему прекрасно!
Гудит мельничное колесо,
боль угасла,
баба щурится из избы,
в небе – жаворонки,
только десять минут езды
до ближней ярмарки.
У него ремесло первый сорт
и перо остро.
Он губаст и учен как черт,
и всё ему просто:
жил в Одессе, бывал в Крыму,
ездил в карете,
деньги в долг давали ему
до самой смерти.
Очень вежливы и тихи,
делами замученные,
жандармы его стихи
на память заучивали!
Даже царь приглашал его в дом,
желая при этом
потрепаться о том о сем
с таким поэтом.
Он красивых женщин любил
любовью не чинной,
и даже убит он был
красивым мужчиной.
Он умел бумагу марать
под треск свечки!
Ему было за что умирать
у Черной речки.
* * *
Б. Слуцкому
Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше.
Март великодушный
У отворённых у ворот лесных,
откуда пахнет сыростью, где звуки
стекают по стволам, стоит лесник,
и у него – мои глаза и руки.
А лесу платья старые тесны.
Лесник качается на качкой кочке
и всё старается не прозевать весны
и первенца принять у первой почки.
Он наклоняется – помочь готов,
он вслушивается, лесник тревожный,
как надрывается среди стволов
какой-то стебелек неосторожный.
Давайте же не будем обижать
сосновых бабок и еловых внучек,
пока они друг друга учат,
как под открытым небом март рожать!
Всё снова выстроить – нелегкий срок,
как зиму выстоять, хоть и знакома…
И почве выстрелить свой стебелек,
как рамы выставить хозяйке дома…
…Лес не кончается. И под его рукой
лесник качается, как лист послушный.
Зачем отчаиваться, мой дорогой?
Март намечается великодушный!
Прощание с Польшей
Мы связаны, поляки, давно одной судьбою
в прощанье, и в прощенье, и в смехе, и в слезах.
Когда трубач над Краковом возносится с трубою,
хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах.
Потертые костюмы сидят на нас прилично,
и плачут наши сестры, как Ярославны, вслед,
когда под крик гармоник уходим мы привычно
сражаться за свободу в свои семнадцать лет.
Прошу у вас прощенья за раннее прощанье,
за долгое молчанье, за поздние слова;
нам время подарило пустые обещанья,
от них у нас, Агнешка, кружится голова.
Над Краковом убитый трубач трубит бессменно,
любовь его безмерна, сигнал тревоги чист.
Мы школьники, Агнешка. И скоро перемена.
И чья-то радиола наигрывает твист.
Прощание с новогодней ёлкой
З. Крахмальниковой
Синяя крона, малиновый ствол,
звяканье шишек зеленых.
Где-то по комнатам ветер прошел:
там поздравляли влюбленных.
Где-то он старые струны задел —
тянется их перекличка…
Вот и январь накатил-налетел
бешеный, как электричка.
Мы в пух и прах наряжали тебя,
мы тебе верно служили.
Громко в картонные трубы трубя,
словно на подвиг спешили.
Даже поверилось где-то на миг
(знать, в простодушье сердечном):
женщины той очарованный лик
слит с твоим празднеством вечным.
В миг расставания, в час платежа,
в день увяданья недели
чем это стала ты нехороша?
Что они все, одурели?!
И утонченные, как соловьи,
гордые, как гренадеры,
что же надежные руки свои
прячут твои кавалеры?
Нет бы собраться им – время унять,
нет бы им всем – расстараться…
Но начинают колеса стучать —
как тяжело расставаться!
Но начинается вновь суета.
Время по-своему судит.
И в суете тебя сняли с креста,
и воскресенья не будет.
Ель моя, ель – уходящий олень,
зря ты, наверно, старалась:
женщины той осторожная тень
в хвое твоей затерялась!
Ель моя, ель, словно Спас на Крови,
твой силуэт отдаленный,
будто бы след удивленной любви,
вспыхнувшей, неутоленной.
Песенка о ночной Москве
Б. Ахмадулиной
Когда внезапно возникает
еще неясный голос труб,
слова, как ястребы ночные,
срываются с горячих губ,
мелодия, как дождь случайный,
гремит; и бродит меж людьми
надежды маленький оркестрик
под управлением любви.
В года разлук, в года сражений,
когда свинцовые дожди
лупили так по нашим спинам,
что снисхождения не жди,
и командиры все охрипли…
тогда командовал людьми
надежды маленький оркестрик
под управлением любви.
Кларнет пробит, труба помята,
фагот, как старый посох, стерт,
на барабане швы разлезлись…
Но кларнетист красив как черт!
Флейтист, как юный князь, изящен.
И вечно в сговоре с людьми
надежды маленький оркестрик
под управлением любви.
* * *
Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем:
у каждой эпохи свои подрастают леса.
А всё-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеичем
поужинать в «Яр» заскочить хоть на четверть часа.
Теперь нам не надо по улицам мыкаться ощупью:
машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль.
А всё-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков,
хотя б одного, и не будет отныне… А жаль.
Я кланяюсь низко познания морю безбрежному,
разумный свой век, многоопытный век свой любя.
А всё-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему
и мы до сих пор всё холопами числим себя.
Победы свои мы ковали не зря и вынашивали,
мы всё обрели – и надежную пристань, и свет…
А всё-таки жаль – иногда над победами нашими
встают пьедесталы, которые выше побед.
Москва, ты не веришь слезам – это время проверило.
Железное мужество, твердость и сила во всем.
Но если бы ты в наши слезы однажды поверила,
ни нам, ни тебе не пришлось бы грустить о былом.
Былое нельзя воротить… Выхожу я на улицу.
И вдруг замечаю: у самых Арбатских ворот
извозчик стоит, Александр Сергеич прогуливается…
Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.
Оловянный солдатик моего сына
Игорю
Земля гудит под соловьями,
под майским нежится дождем,
а вот солдатик оловянный
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































