Текст книги "Упраздненный театр. Стихотворения"
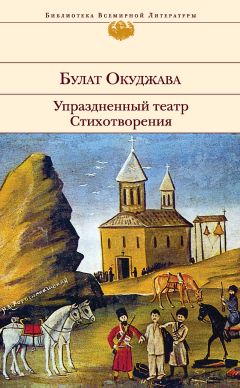
Автор книги: Булат Окуджава
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
потомки не оценят свысока.
Поэту настоящему спасибо,
руке его, безумию его
и голосу, когда, взлетев до хрипа,
он неба достигает своего.
* * *
После дождичка небеса просторны,
голубей вода, зеленее медь.
В городском саду – флейты да валторны.
Капельмейстеру хочется взлететь.
Ах как помнятся прежние оркестры,
не военные, а из мирных лет!
Расплескалася в улочках окрестных
та мелодия… А поющих нет.
С нами женщины. Все они красивы.
И черемуха – вся она в цвету.
Может, жребий нам выпадет счастливый:
снова встретимся в городском саду.
Но из прошлого, из былой печали,
как ни сетую, как там ни молю,
проливается черными ручьями
эта музыка прямо в кровь мою.
* * *
Не сольются никогда зимы долгие и лета:
у них разные привычки и совсем несхожий вид.
Не случайны на земле две дороги – та и эта,
та натруживает ноги, эта душу бередит.
Эта женщина в окне в платье розового цвета
утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез,
потому что перед ней две дороги – та и эта,
та прекрасна, но напрасна, эта, видимо, всерьез.
Хоть разбейся, хоть умри – не найти верней ответа,
и, куда бы наши страсти нас с тобой ни завели,
неизменно впереди две дороги – та и эта,
без которых невозможно, как без неба и земли.
Дунайская фантазия
Оле
Как бы мне сейчас хотелось в Вилкове вдруг очутиться!
Там – каналы, там – гондолы, гондольеры.
Очутиться, позабыться, от печалей отшутиться:
ими жизнь моя отравлена без меры.
Там побеленные стены и фундаменты цветные,
а по стенам плющ клубится для оправы.
И лежат на солнцепеке безопасные, цепные,
показные, пожилые волкодавы.
Там у пристани танцуют жок, а может быть, сиртаки:
сыновей своих в солдаты провожают.
Всё надеются: сгодятся для победы, для атаки,
а не хватит – сколько надо, нарожают.
Там опять для нас с тобою дебаркадер домом служит.
Мы гуляем вдоль Дуная, рыбу удим.
И объятья наши жарки, и над нами ангел кружит
и клянется нам, что счастливы мы будем.
Как бы мне сейчас хотелось очутиться в том, вчерашнем,
быть влюбленным и не думать о спасенье,
пить вино из черных кружек, хлебом заедать домашним,
чтоб смеялась ты и плакала со всеми.
Как бы мне сейчас хотелось ускользнуть туда, в начало,
к тем ребятам уходящим приобщиться.
И с тобою так расстаться у дунайского причала,
чтоб была еще надежда воротиться.
* * *
На полянке разминаются оркестры духовые
и играют марш известный неизвестно для чего.
Мы пока еще все целы, мы покуда все живые,
а когда нагрянет утро – там посмотрим, кто кого.
И ефрейтор одинокий шаг высокий отбивает,
у него глаза большие, у него победный вид…
Но глубоко, так глубоко, просто глубже не бывает,
он за пазухою письма треугольные хранит.
Лейтенантик моложавый (он назначен к нам комбатом)
смотрит карту полевую, верит в чудо и в успех.
А солдат со мною рядом называет меня братом:
кровь, кипящая по жилам, нынче общая на всех.
Смолкли гордые оркестры – это главная примета.
Наготове все запасы: крови, брани и свинца…
Сколько там минут осталось… три-четыре до рассвета,
три-четыре до победы… три-четыре до конца.
Арбатское вдохновение, или Воспоминания о детстве
Посвящаю Антону
Упрямо я твержу с давнишних пор:
меня воспитывал арбатский двор,
всё в нем, от подлого до золотого.
А если иногда я кружева
накручиваю на свои слова,
так это от любви. Что в том дурного?
На фоне непросохшего белья
руины человечьего жилья,
крутые плечи дворника Алима…
В Дорогомилово из тьмы Кремля,
усы прокуренные шевеля,
мой соплеменник пролетает мимо.
Он маленький, немытый и рябой
и выглядит растерянным и пьющим,
но суть его – пространство и разбой
в кровавой драке прошлого с грядущим.
Его клевреты топчутся в крови…
Так где же почва для твоей любви? —
вы спросите с сомненьем, вам присущим.
Что мне сказать? Я только лишь пророс.
Еще далече до военных гроз.
Еще загадкой манит подворотня.
Еще я жизнь сверяю по двору
и не подозреваю, что умру,
как в том не сомневаюсь я сегодня.
Что мне сказать? Еще люблю свой двор,
его убогость и его простор,
и аромат грошового обеда.
И льну душой к заветному Кремлю,
и усача кремлевского люблю,
и самого себя люблю за это.
Он там сидит, изогнутый в дугу,
и глину разминает на кругу,
и проволочку тянет для основы.
Он лепит, обстоятелен и тих,
меня, надежды, сверстников моих,
отечество… И мы на всё готовы.
Что мне сказать? На всё готов я был.
Мой страшный век меня почти добил,
но речь не обо мне – она о сыне.
И этот век не менее жесток,
а между тем насмешлив мой сынок:
его не облапошить на мякине.
Еще он, правда, тоже хил и слаб,
но он страдалец, а не гордый раб,
небезопасен и небезоружен…
А глина ведь не вечный матерьял,
и то, что я когда-то потерял,
он в воздухе арбатском обнаружил.
* * *
На Сретенке ночной надежды голос слышен.
Он слаб и одинок, но сладок и возвышен.
Уже который раз он разрывает тьму…
И хочется верить ему.
Когда пройдет нужда за жизнь свою бояться,
тогда мои друзья с прогулки возвратятся,
и расцветет Москва от погребов до крыш…
Тогда опустеет Париж.
А если все не так, а все как прежде будет,
пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит,
что зря я распахнул напрасные крыла…
Что ж делать? Надежда была.
* * *
Антону
Что-то сыночек мой уединением стал тяготиться.
Разве прекрасное в шумной компании может родиться?
Там и мыслишки, внезапно явившейся, не уберечь:
в уши разверстые только напрасная просится речь.
Папочка твой не случайно сработал надежный свой кокон.
Он состоит из дубовых дверей и зашторенных окон.
Он состоит из надменных замков и щеколд золотых…
Лица незваные с благоговением смотрят на них.
Чем же твой папочка в коконе этом прокуренном занят?
Верит ли в то, что перо не продаст, что строка не обманет?
Верит ли вновь, как всю жизнь, в обольщения вечных химер:
в гибель зловещего Зла и в победу Добра, например?
Шумные гости, не то чтобы циники – дети стихии,
ищут себе вдохновенья и радостей в годы лихие,
не замечая, как вновь во все стороны щепки летят,
черного Зла не боятся, да вот и Добра не хотят.
Всё справедливо. Там новые звуки рождаются глухо.
Это мелодия. К ней и повернуто папочки ухо.
Но неуверенно как-то склоняется вниз голова:
музыка нравится, но непонятные льются слова.
Папочка делает вид, что и нынче он истиной правит.
То ли и впрямь не устал обольщаться, а то ли лукавит,
что, мол, гармония с верою будут в одно сведены…
Только никто не дает за нее даже малой цены.
Всё справедливо. И пусть он лелеет и холит свой кокон.
Вы же ликуйте и иронизируйте шумно и скопом,
но погрустите хотя бы, увидев, как сходит на нет
серый, чужой, старомодный, сутулый его силуэт.
* * *
Вот комната эта – храни ее Бог! —
мой дом, мою крепость и волю.
Четыре стены, потолок и порог,
и тень моя с хлебом и солью.
И в комнате этой ночною порой
я к жизни иной прикасаюсь.
Но в комнате этой, отнюдь не герой,
я плачу, молюсь и спасаюсь.
В ней всё соразмерно желаньям моим —
то облик берлоги, то храма, —
в ней жизнь моя тает, густая, как дым,
короткая, как телеграмма.
Пока вы возносите небу хвалу,
пока укоряете время,
меня приглашает фортуна к столу
нести свое сладкое бремя.
Покуда по свету разносит молва,
что будто я зло низвергаю,
я просто слагаю слова и слова
и чувства свои излагаю.
Судьба и перо, по бумаге шурша,
стараются, лезут из кожи.
Растрачены силы, сгорает душа,
а там, за окошком, – всё то же.
* * *
Пишу роман. Тетрадка в клеточку.
Пишу роман. Страницы рву.
Февраль к стеклу подставил веточку,
чтоб так я жил, пока живу.
Шуршат, шуршат листы тетрадные,
чисты, как аиста крыло,
а я ищу слова нескладные
о том, что было и прошло.
А вам как бы с полета птичьего
мерещится всегда одно —
лишь то, что было возвеличено,
лишь то, что в прах обращено.
Но вам сквозь ту бумагу белую
не разглядеть, что слезы лью,
что я люблю отчизну бедную,
как маму бедную мою.
* * *
Я выдумал музу иронии
для этой суровой земли.
Я дал ей владенья огромные:
пари, усмехайся, шали.
Зевеса надменные дочери,
ценя превосходство свое,
каких бы там умниц ни корчили,
не стоят гроша без нее.
* * *
Б. Ахмадулиной
Чувство собственного достоинства – вот загадочный инструмент:
созидается он столетьями, а утрачивается в момент,
под бомбежку ли, под гармошку ли, под красивую ль болтовню
иссушается, разрушается, сокрушается на корню.
Чувство собственного достоинства – вот таинственная стезя,
на которой разбиться запросто, но с которой свернуть нельзя,
потому что без промедления, вдохновенный, чистый, живой,
растворится, в пыль превратится человеческий образ твой.
Чувство собственного достоинства – это просто портрет любви.
Я люблю вас, мои товарищи, – боль и нежность в моей крови.
Что б там тьма и зло ни пророчили, кроме этого ничего
не придумало человечество для спасения своего.
* * *
А. Кушнеру
Хочу воскресить своих предков,
хоть что-нибудь в сердце сберечь.
Они словно птицы на ветках,
и мне непонятна их речь.
Живут в небесах мои бабки
и ангелов кормят с руки.
На райское пение падки,
на доброе слово легки.
Не слышно им плача и грома,
и это уже на века.
И нет у них отчего дома,
а только одни облака.
Они в кринолины одеты.
И льется божественный свет
от бабушки Елизаветы
к прабабушке Элисабет.
* * *
Строка из старого стиха слывет ненастоящей:
она растрачена уже да и к мольбам глуха.
Мне строчка новая нужна какая-нибудь послаще,
чтоб начиналось из нее течение стиха.
Текут стихи на белый свет из темени кромешной,
из всяких горестных сует, из праздников души.
Не извратить бы вещий смысл иной строкой поспешной.
Всё остальное при тебе – мужайся и пиши.
Нисходит с неба благодать на кущи и на рощи,
струится дым из очага… И колея в снегу…
Мне строчка новая нужна какая-нибудь попроще,
а уж потом я сам ее украшу, как смогу.
Текут стихи на белый свет, и нету им замены,
и нет конца у той реки, пока есть белый свет.
Не о победе я молю: победы все надменны,
а об удаче я молю, с которой спроса нет.
Пугает тайною своей ночное бездорожье,
но избежать той черной мглы, наверно, не дано…
Мне строчка новая нужна какая-нибудь построже,
чтоб с ней предстать перед Тобой мне не было б грешно.
Текут стихи на белый свет рекою голубою
сквозь золотые берега в серебряную даль.
За каждый крик, за каждый вздох заплачено любовью —
ее всё меньше с каждым днем, и этого не жаль.
Песенка
Совесть, благородство и достоинство —
вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
за него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
но зато умрешь как человек.
* * *
Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал.
А может, это школьник меня нарисовал:
я ручками размахиваю, я ножками сучу,
и уцелеть рассчитываю, и победить хочу.
Ах, что-то мне не верится, что я, брат, убивал.
А может, просто вечером в кино я побывал?
И не хватал оружия, чужую жизнь круша,
и руки мои чистые, и праведна душа.
Ах, что-то мне не верится, что я не пал в бою.
А может быть, подстреленный, давно живу в раю,
и кущи там, и рощи там, и кудри по плечам…
А эта жизнь прекрасная лишь снится по ночам.
* * *
И. Бродскому
На странную музыку сумрак горазд,
как будто природа пристанище ищет:
то голое дерево голос подаст,
то почва вздохнет, а то ветер просвищет.
Всё злей эти звуки, чем ближе к зиме
и чем откровеннее горечь и полночь.
Там дальние кто-то страдают во тьме
за дверью глухой, призывая на помощь.
Там чьей-то слезой затуманенный взор,
которого ветви уже не упрячут…
И дверь распахну я и брошусь во двор:
а это в дому моем стонут и плачут.
* * *
Б. Чичибабину
Я вам описываю жизнь свою, и больше никакую.
Я вам описываю жизнь свою, и только лишь свою.
Каким я вижу этот свет, как я люблю и протестую,
всю подноготную живую у этой жизни на краю.
И с краюшка того бытья, с последней той ступеньки шаткой,
из позднего того окошка, и зазывая и маня,
мне представляется она такой бескрайнею и сладкой,
как будто дальняя дорога опять открылась для меня.
Как будто это для меня: березы белой лист багряный,
рябины красной лист узорный и дуба черная кора,
и по капризу моему клубится утренник туманный,
по прихоти моей счастливой стоит сентябрьская пора.
* * *
Взяться за руки не я ли призывал вас, господа?
Отчего же вы не вслушались в слова мои, когда
кто-то властный наши души друг от друга уводил?
Чем же я вам не потрафил? Чем я вам не угодил?
Ваши взоры, словно пушки, на меня наведены,
словно я вам что-то должен… Мы друг другу не должны.
Что мы есть? Всего лишь крохи в мутном море бытия.
Всё, что рядом, тем дороже, чем короче жизнь моя.
Не сужу о вас с пристрастьем, не рыдаю, не ору,
со спокойным вдохновеньем в руки тросточку беру
и на гордых тонких ножках семеню в святую даль.
Видно, всё должно распасться. Распадайся же… А жаль.
* * *
Арбата больше нет: растаял словно свеченька,
весь вытек, будто реченька; осталась только Сретенка.
Сретенка, Сретенка, ты хоть не спеши:
надо, чтоб хоть что-нибудь осталось для души!
Японская фантазия
Когда за окнами земля кружиться перестала,
тогда Япония сама глазам моим предстала,
спеша, усердствуя, молясь, и плача, и маня…
Друзья мои, себя храня, молитесь за меня.
Пойду пройдусь ночной порой на Гиндзу золотую,
костер удачи распалю, свечу обид задую.
Не зря я десять тысяч верст нащелкивал коня…
Друзья мои, себя храня, молитесь за меня.
То брызнет дождь, а то жара, а то туман, о Боже!
Судьба на всех везде одна, знакомо всё, всё то же,
как будто к дому я иду перед началом дня…
Друзья мои, себя храня, молитесь за меня.
Я так устал глядеть вперед с надеждой и опаской.
Пора уж как-нибудь остыть от трепотни арбатской.
Да, я москвич, и там мой дом, и сердце, и броня,
но между тем, себя храня, молитесь за меня.
* * *
Ты, живущий вне наших сомнений и драм,
расточающий благостный свет по утрам.
Ты, кому с придыханием мы говорим:
Тешекюр эдерим! Тешекюр эдерим![2]2
Благодарствуй! (турецк.)
[Закрыть]
Ты, кого за печали свои не корим
и дороги к кому в бездорожье торим,
и за то, что живем, и за то, что горим,
и за то, что во имя Твое мы творим,
Тешекюр эдерим! Тешекюр эдерим!
* * *
В земные страсти вовлеченный,
я знаю, что из тьмы на свет
шагнет однажды ангел черный
и крикнет, что спасенья нет.
Но, простодушный и несмелый,
прекрасный, как благая весть,
идущий следом ангел белый
прошепчет, что надежда есть.
Нянька
Акулина Ивановна, нянька моя дорогая,
в закуточке у кухни сидела, чаек попивая,
выпевая молитвы без слов золотым голоском,
словно жаворонок над зеленым еще колоском.
Акулина Ивановна, около храма Спасителя
ты меня наставляла, на тоненьких ножках просителя,
а потом я и душу сжигал, и дороги месил…
Не на то, знать, надеялся и не о том, знать, просил.
По долинам, по взгорьям толпою текло человечество.
Слева – поле и лес, справа – слезы, любовь и отечество,
посередке лежали холодные руки судьбы,
и две ножки еще не устали от долгой ходьбы.
Ах, наверно, не зря распалялся небесною властью
твой российский костер над моею грузинскою страстью,
узловатые руки сплетались теплей и добрей,
как молитва твоя над армянскою скорбью моей.
Акулина Ивановна, всё мне из бед наших помнится.
Оттого-то и совесть моя трепетанием полнится,
оттого-то и сердце мое перебои дает,
и не только когда соловей за окошком поет.
Акулина Ивановна, нянька моя дорогая,
всё, что мы потеряли, пусть вспыхнет еще, догорая,
всё, что мы натворили, и всё, что еще сотворим, —
словно утренний дым над тамбовским надгробьем твоим.
* * *
Париж для того, чтоб ходить по нему,
глазеть на него, изумляться,
грозящему бездной концу своему
не верить и жить не бояться.
Он благоуханием так умащен,
таким он мне весь достается,
как будто я понят уже и прощен,
и праздновать лишь остается.
Париж для того, чтоб, забыв хоть на час
борения крови и классов,
войти мимоходом в кафе «Монпарнас»,
где ждет меня Вика Некрасов.
* * *
Рахели
Сладкое бремя, глядишь, обернется копейкою:
кровью и порохом пахнет от близких границ.
Смуглая сабра с оружием, с тоненькой шейкою
юной хозяйкой глядит из-под черных ресниц.
Как ты стоишь… как приклада рукою касаешься!
В темно-зеленую курточку облачена…
Знать, неспроста предо мною возникли, хозяюшка,
те фронтовые, иные, мои времена.
Может быть, наша судьба, как расхожие денежки,
что на ладонях чужих обреченно дрожат…
Вот и кричу невпопад: до свидания, девочки!
Выбора нет! Постарайтесь вернуться назад!..
Подмосковная фантазия
В. Астафьеву
Ворон над Переделкином черную глотку рвет.
Он как персонаж из песни над головой кружится.
Я клювом назвать не осмеливаюсь его вдохновенный рот,
складками обрамленный скорбными, как у провидца.
И видя глаз прозорливый, и слушая речи его,
исполненные предчувствий, отчаяния и желчи,
я птицей назвать не осмеливаюсь крылатое существо —
как будто оно обвиняет, а мне оправдаться нечем.
Когда бы я был поэтом – я бы нашел слова
точные и единственные, не мучаясь, не морочась,
соответствующие склонностям этого существа
и скромным моим представлениям о силе его пророчеств.
Но я всего стихотворец: так создан и так живу,
в пристрастии к строчке и рифме, в безумии этом нелепом,
и вижу крылья, присущие этому существу,
но не пойму души его, ниспосланной ему небом.
Я выгляжу праздным и временным в застывших его глазах,
когда он белое облако рассекает крылом небрежным.
Я царствую здесь, в малиннике, он царствует в небесах,
и в этом его преимущество передо мною, грешным.
Ворон над Переделкином черную глотку рвет,
что-то он всё пророчит мне будто бы ненароком,
и, судя по интонациям, он знает всё наперед…
Но в этом мое преимущество перед лесным пророком.
Шмель в Массачусетсе
Ну надо же: шмель подмосковный
откуда куда залетел!
И свой пиджачишко посконный
для пущего форса надел.
А свой локоточек протертый
под крылышко спрятал слегка,
и лапкой как будто нетвердой
коснулся живого цветка.
Не склонный отнюдь к сантиментам,
он словно из ковшика пил
и с русским как будто акцентом
английские фразы бубнил.
Потом покачал головою,
пыльцу утирая со щек…
И вновь загудел над травою
шаляпинский чистый басок.
* * *
Памяти А. Д. Сахарова
Когда начинается речь, что пропала духовность,
что людям отныне дорога сквозь темень лежит,
в глазах удивленных и в душах святая готовность
пойти и погибнуть, как новое пламя, дрожит.
И это не есть обольщение или ошибка,
а это действительно гордое пламя костра,
и в пламени праведном этом надежды улыбка
на бледных губах проступает, и совесть остра.
Полночные их силуэты пугают загадкой.
С фортуны не спросишь – она свои тайны хранит,
и рано еще упиваться победою сладкой,
еще до рассвета далече… И сердце щемит.
Новая Англия
Оле
Новая Англия. Старая песенка. Дождь. И овсяной лепешки похрустыванье,
и по траве неизвестного хищника след.
Что-то во всем вашем, ваше величество, облике неповторимое грустное,
что-то такое, чему и названия нет.
Времечко, что ли, еще непривычное, облачко, слишком уж низко бредущее,
образ ли жизни, рожденный цветком луговым?
Или вам видится, ваше величество, непредсказуемым наше грядущее,
или минувшее видится вам роковым?
Кто его знает, что завтра отыщется. Может случиться, надежд увеличится.
Кто потеряет, а кто непременно найдет.
Новая Англия. Старая песенка. Что ж тут поделаешь, ваше величество:
что предназначено, то и стоит у ворот.
* * *
Поверь мне, Агнешка, грядут перемены…
Так я написал тебе в прежние дни.
Я знал и тогда, что они непременны,
лишь ручку свою ты до них дотяни.
А если не так, для чего ж мы сгораем?
Так, значит, свершится всё то, что хотим?
Да, всё совершится, чего мы желаем,
оно совершится, да мы улетим.
* * *
Пока он писал о России,
не мысля потрафить себе,
его два крыла возносили —
два праведных знака в судьбе.
Когда же он стал «патриотом»
и вдруг загордился собой,
он думал, что слился с народом,
а вышло: смешался с толпой.
Мнение пана Ольбрыхского
Русские принесли Польше много зла, и я презираю их язык…
(анонимная записка из зала)
«Язык не виноват, – заметил пан Ольбрыхский, —
всё создает его неповторимый лик:
базарной болтовни обсевки и огрызки,
и дружеский бубнеж, и строки вечных книг.
Сливаются в одно слова и подголоски,
и не в чем упрекать Варшаву и Москву…
Виновен не язык, а подлый дух холопский —
варшавский ли, московский – в отравленном мозгу.
Когда огонь вражды безжалостней и круче,
и нож дрожит в руке, и в прорезь смотрит глаз,
при чем же здесь язык, великий и могучий,
вместилище любви и до и после нас?»
* * *
Мне русские милы из давней прозы
и в пушкинских стихах.
Мне по сердцу их лень, и смех, и слезы,
и горечь на устах.
Когда они сидят на кухне старой
во власти странных дум,
их горький век, подзвученный гитарой,
насмешлив и угрюм.
Когда толпа внизу кричит и стонет,
что – гордый ум и честь?
Их мало так, что ничего не стоит
по пальцам перечесть.
Мне по сердцу их вера и терпенье,
неверие и раж…
Кто знал, что будет страшным пробужденье
и за окном – пейзаж?
Что ж, век иной. Развеяны все мифы.
Повержены умы.
Куда ни посмотреть – всё скифы, скифы.
Их тьмы и тьмы, и тьмы.
И с грустью озираю землю эту,
где злоба и пальба.
И кажется, что русских вовсе нету,
а вместо них толпа.
Я знаю этот мир не понаслышке:
я из него пророс,
но за его утраты и излишки
с меня сегодня спрос.
* * *
Поверившие в сны крамольные,
владельцы злата и оков,
наверно, что-то проворонили
во тьме растаявших веков.
И как узнать, что там за окнами?
Какой у времени расчет?..
Лишь дрожь в душе, и плечи согнуты,
и слезы едкие – со щек.
Но эти поздние рыдания
нас убеждают неспроста,
что вечный мир спасут страдания,
а не любовь и красота.
Свадебное фото
Памяти Ольги Окуджава и Галактиона Табидзе
Тетя Оля, ты – уже история:
нет тебя – ты только лишь была.
Вот твоя ромашка, та, которая
из твоей могилки проросла.
Вот поэт, тогда тебя любивший,
муж хмельной – небесное дитя,
сам былой, из той печали бывшей,
из того свинцового житья.
А на фото свадебном, на тусклом,
ты еще не знаешь ничего:
ни про пулю меж Орлом и Курском,
ни про слезы тайные его.
Вот и восседаешь рядом тихо
у нестрашных, у входных дверей,
словно маленькая олениха,
не слыхавшая про егерей.
Отъезд
Владимиру Спивакову
С Моцартом мы уезжаем из Зальцбурга.
Бричка вместительна. Лошади в масть.
Жизнь моя, как перезревшее яблоко,
тянется к теплой землице припасть.
Ну а попутчик мой, этот молоденький,
радостных слёз не стирает с лица.
Что ему думать про век свой коротенький?
Он лишь про музыку, чтоб до конца.
Времени не остается на проводы…
Да неужели уже не нужны
слёзы, что были недаром ведь пролиты,
крылья, что были не зря ведь даны?
Ну а попутчик мой ручкою нервною
машет и машет фортуне своей,
нотку одну лишь нащупает верную —
и заливается, как соловей.
Руки мои на коленях покоятся,
вздох безнадежный густеет в груди:
там, за спиной – «До свиданья, околица!»…
И ничего, ничего впереди.
Ну а попутчик мой, божеской выпечки,
не покладая стараний своих,
то он на флейточке, то он на скрипочке,
то на валторне поет за двоих.
* * *
Мгновенна нашей жизни повесть,
такой короткий промежуток, —
шажок, и мы уже не те…
Но совесть, совесть, совесть, совесть
в любом отрезке наших суток
должна храниться в чистоте.
За это, что ни говорите,
чтоб всё сложилось справедливо,
как суждено, от А до Я,
платите, милые, платите
без громких слов и без надрыва,
по воле страстного порыва,
ни слёз, ни сердца не тая.
* * *
Вымирает мое поколение,
собралось у двери проходной.
То ли нету уже вдохновения,
то ли нету надежд. Ни одной.
* * *
На улице моей беды стоит ненастная погода,
шумят осенние деревья, листвою блеклою соря.
На улице моих утрат зиме господствовать полгода:
всё ближе, всё неумолимей разбойный холод декабря.
На улице моей души то снег вздохнет, то дождь проплещет,
то вдруг загадочно застонет вдали последнее село…
Еще за окнами темно, но раскрывается, трепещет
похожее на парус робкий синицы легкое крыло.
На улице моей судьбы не всё возвышенно и гладко…
Но теплых стен скупая кладка? А дым колечком из трубы?
А звук неумершей трубы, хоть всё так призрачно и шатко?
А та синица, как загадка, на улице моей судьбы?..
* * *
Ехал всадник на коне.
Артиллерия орала.
Танк стрелял. Душа сгорала.
Виселица на гумне…
Иллюстрация к войне.
Я, конечно, не помру:
ты мне раны перевяжешь,
слово ласковое скажешь…
Всё затянется к утру…
Иллюстрация к добру.
Мир замешен на крови.
Это наш последний берег.
Может, кто и не поверит —
ниточку не оборви…
Иллюстрация к любви.
* * *
Вот приходит Юлик Ким и смешное напевает.
А потом вдруг как заплачет, песню выплеснув в окно.
Ничего дурного в том: в жизни всякое бывает —
то смешно, а то и грустно, то светло, а то темно.
Так за что ж его тогда не любили наши власти?
За российские ли страсти? За корейские ль глаза?
Может быть, его считали иудеем? Вот так здрасьте!
Может, чудились им в песнях диссидентов голоса?
Страхи прежние в былом. Вот он плачет и смеется,
и рассказывает людям, кто мы есть и кто он сам.
Впрочем, помнит он всегда, что веревочка-то вьется…
Это видно по усмешке, по походке, по глазам.
Песенка Льва Разгона
– Лева, как ты молодо выглядишь!
– А меня долго держали в холодильнике… (в лагере)
Я долго лежал в холодильнике,
омыт ледяною водой.
Давно в небесах собутыльники,
а я до сих пор молодой.
Преследовал Север угрозою
надежду на свет перемен,
а я пригвоздил его прозою —
пусть маленький, но феномен.
По воле судьбы или случая
я тоже растаю во мгле,
но эта надежда на лучшее
пусть светит другим на земле.
* * *
Держава!
Родина!
Страна!
Отечество и государство!
Не это в душах мы лелеем и в гроб с собою унесем,
а нежный взгляд, а поцелуй – любови сладкое коварство,
Кривоарбатский переулок и тихий треп о том, о сем.
* * *
В арбатском подъезде мне видятся дивные сцены
из давнего детства, которого мне не вернуть:
то Ленька Гаврилов ухватит ахнарик бесценный,
мусолит, мусолит и мне оставляет курнуть.
То Нинка Сочилина учит меня целоваться,
и сердце мое разрывается там, под пальто.
И счастливы мы, что не знаем, что значит прощаться,
тем более слова «навеки» не знает никто.
1996
* * *
Что было, то было. Минувшее не оживает.
Ничто ничего никуда никого не зовет.
И немец, застреленный Ленькой, в раю проживает,
и Ленька, застреленный немцем, в соседях живет.
Что было, то было. Не нужно им славы и денег.
По кущам и рощам гуляют они налегке.
То перышки белые чистят, то яблочко делят,
то сладкие речи на райском ведут языке.
Что было, то было. И я по окопам полазил.
И я пострелял по живым – все одно к одному.
Убил ли кого? Или вдруг поспешил и промазал?..
…А справиться негде. И надо решать самому.
1996
* * *
Когда петух над Марбургским собором
пророчит ночь и предрекает тьму,
его усердье не считайте вздором,
но счеты предъявляйте не ему.
Он это так заигрывает с нами,
и самоутверждается притом.
А подлинную ночь несем мы сами
себе самим, не ведая о том.
Он воспевает лишь рассвет прекрасный
или закат и праведную ночь.
А это мы, что над добром не властны,
стараемся и совесть превозмочь.
Кричи, петух, на Марбургском соборе,
насмешничай, пугай, грози поджечь.
Пока мы живы, и пока мы в горе,
но есть надежда нас предостеречь.
Итоги
В двадцать четвертом родился я,
и закружилась моя эпоха.
Верю, что прожил ее неплохо,
но пусть потомки поправят меня.
В тридцать четвертом родился мой брат,
и жизнь его вслед за моей полетела.
Во всех его бедах я не виноват,
но он меня проклял… И, может, за дело.
В сорок четвертом шумела война.
Там я в солдатиках быть пригодился.
В сорок четвертом никто не родился:
Были суровыми те времена.
В пятидесятых, в четвертом опять,
сын мой родился, печальный мой, старший,
рано уставший, бедой моей ставший,
в землю упавший… И не поднять.
В шестидесятых, тоже в четвертом,
младший родился, добрым и гордым;
время ему потрафляет пока…
лишь бы он помнил, что жизнь коротка.
Как бы хотел я, бывалый и зоркий,
вычислить странную тайну четверки:
что же над нашей кружит головой —
прихоть судьбы или знак роковой?
10 мая, Марбург, 1997 г.
* * *
Берегите нас, поэтов, берегите нас.
Остаются век, полвека, год, неделя, час,
три минуты, две минуты, вовсе ничего…
Берегите нас и чтобы – все за одного.
Берегите нас с грехами, с радостью и без.
Где-то, юный и прекрасный, ходит наш Дантес.
Он минувшие проклятья не успел забыть,
но велит ему призванье пулю в ствол забить.
Где-то плачет наш Мартынов – поминает кровь:
он уже убил однажды, он не хочет вновь,
но судьба его такая, и свинец отлит,
и двадцатое столетье так ему велит.
Берегите нас, поэтов, от дурацких рук,
от поспешных приговоров, от слепых подруг.
Берегите нас, покуда можно уберечь,
только так не берегите, чтоб костьми нам лечь,
только так не берегите, как борзых псари,
только так не берегите, как псарей цари…
Будут вам стихи и песни, и еще не раз.
Только вы нас берегите, берегите нас.
* * *
У поэта соперников нету
ни на улице и ни в судьбе.
И когда он кричит всему свету,
это он не о вас – о себе.
Руки тонкие к небу возносит,
жизнь и силы по капле губя.
Догорает, прощения просит…
Это он не за вас – за себя.
Но когда достигает предела
и душа отлетает во тьму —
поле пройдено, сделано дело…
Вам решать: для чего и кому.
То ли мед, то ли горькая чаша,
то ли адский огонь, то ли храм…
Всё, что было его, – нынче ваше.
Всё для вас. Посвящается вам.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































