Текст книги "Упраздненный театр. Стихотворения"
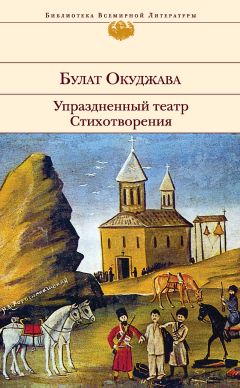
Автор книги: Булат Окуджава
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
и делай с ним что хошь!
Пока живут на свете дураки —
обманывать нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое!
Мы не поклонники разбоя.
На дурака не нужен нож:
ему с три короба наврешь —
и делай с ним что хошь!
Какое небо голубое!
Живут на свет эти трое.
Им, слава Богу, нет конца,
как говорится, зверь бежит —
и прямо на ловца!
Песенка Джузеппе
Я обошел весь белый свет:
чудес на свете больше нет.
И, как известно:
не может птицей взвиться еж,
и к богачу бедняк не вхож —
давно известно…
А без чудес, мои друзья,
никак нельзя, совсем нельзя,
неинтересно.
Все клады вырыты вокруг,
Бревно запеть не может вдруг.
И, как известно:
киту вовек не быть котом,
коту вовек не быть кротом —
давно известно…
А без чудес, мои друзья,
никак нельзя, совсем нельзя,
неинтересно.
Часы бездействуют – беда,
остановились навсегда.
И, как известно,
навек утерян их секрет.
Чудес на свете больше нет —
давно известно…
А без чудес, мои друзья
никак нельзя, совсем нельзя,
неинтересно.
* * *
Давайте придумаем деспота,
чтоб в душах царил он один
от возраста самого детского
и до благородных седин.
Усы ему вырастим пышные
и хищные вставим глаза,
сапожки натянем неслышные
и проголосуем все – за.
Давайте придумаем деспота,
придумаем, как захотим.
Потом будет спрашивать не с кого,
коль вместе его создадим.
И пусть он над нами куражится
и пальцем грозится из тьмы,
пока наконец не окажется,
что сами им созданы мы.
* * *
Чувствую: пора прощаться.
Всё решительно к тому.
Не угодно ль вам собраться
у меня, в моем дому?
Будут ужин, и гитара,
и слова под старину.
Я вам буду за швейцара —
ваши шубы отряхну.
И, за ваш уют радея,
как у нас теперь в ходу,
я вам буду за лакея
и за повара сойду.
Приходите, что вам стоит!
Путь к дверям не занесен.
Оля в холле стол накроет
на четырнадцать персон.
Ни о чем не пожалеем,
и, с бокалом на весу,
я в последний раз хореем
тост за вас произнесу.
Нет, не то чтоб перед светом
буйну голову сложу…
Просто, может, и поэтом
вам при этом послужу.
Был наш путь не слишком гладок.
Будет горек черный час…
Дух прозренья и загадок
пусть сопровождает нас.
Арбатский романс
Оле
Арбатского романса старинное шитье,
к прогулкам в одиночестве пристрастье;
из чашки запотевшей счастливое питье
и женщины рассеянное «здрасьте»…
Не мучьтесь понапрасну: она ко мне добра.
Светло иль грустно – век почти что прожит.
Поверьте, эта дама из моего ребра,
и без меня она уже не может.
Бывали дни такие – гулял я молодой,
глаза глядели в небо голубое,
еще был не разменян мой первый золотой,
пылали розы, гордые собою.
Еще моя походка мне не была смешна,
еще подошвы не поотрывались,
за каждым поворотом, где музыка слышна,
какие мне удачи открывались!
Любовь такая штука: в ней так легко пропасть,
зарыться, закружиться, затеряться…
Нам всем знакома эта мучительная страсть,
поэтому не стоит повторяться.
Не мучьтесь понапрасну: всему своя пора.
Траву взрастите – к осени сомнется.
Вы начали прогулку с арбатского двора,
к нему-то всё, как видно, и вернется.
Была бы нам удача всегда из первых рук,
и как бы там ни холило, ни било,
в один прекрасный полдень оглянетесь вокруг,
и всё при вас, целехонько, как было:
арбатского романса знакомое шитье,
к прогулкам в одиночестве пристрастье,
из чашки запотевшей счастливое питье
и женщины рассеянное «здрасьте»…
* * *
О. Чухонцеву
Я вновь повстречался с надеждой – приятная встреча.
Она проживает всё там же – то я был далече.
Всё то же на ней из поплина счастливое платье,
всё так же горящ ее взор, устремленный в века…
Ты наша сестра, мы твои молчаливые братья,
и трудно поверить, что жизнь коротка.
А разве ты нам обещала чертоги златые?
Мы сами себе их рисуем, пока молодые,
мы сами себе сочиняем и песни и судьбы,
и горе тому, кто одернет не вовремя нас…
Ты наша сестра, мы твои торопливые судьи,
нам выпало счастье, да скрылось из глаз.
Когда бы любовь и надежду связать воедино,
какая бы (трудно поверить) возникла картина!
Какие бы нас миновали напрасные муки,
и только прекрасные муки глядели б с чела…
Ты наша сестра. Что ж так долго мы были в разлуке?
Нас юность сводила, да старость свела.
Старинная солдатская песня
Отшумели песни нашего полка,
отзвенели звонкие копыта.
Пулями пробито днище котелка,
маркитантка юная убита.
Нас осталось мало: мы да наша боль.
Нас немного, и врагов немного.
Живы мы покуда – фронтовая голь,
а погибнем – райская дорога.
Руки на затворе, голова в тоске,
а душа уже взлетела вроде.
Для чего мы пишем кровью на песке?
Наши письма не нужны природе.
Спите себе, братцы, – всё придет опять:
новые родятся командиры,
новые солдаты будут получать
вечные казенные квартиры.
Спите себе, братцы, – всё начнется вновь,
всё должно в природе повториться:
и слова, и пули, и любовь, и кровь…
Времени не будет помириться.
Пожелание друзьям
Ю. Трифонову
Давайте восклицать, друг другом восхищаться.
Высокопарных слов не стоит опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты —
ведь это всё любви счастливые моменты.
Давайте горевать и плакать откровенно
то вместе, то поврозь, а то попеременно.
Не нужно придавать значения злословью —
поскольку грусть всегда соседствует с любовью.
Давайте понимать друг друга с полуслова,
чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова.
Давайте жить, во всем друг другу потакая, —
тем более что жизнь короткая такая.
* * *
В. Некрасову
Мы стоим с тобой в обнимку возле Сены,
как статисты в глубине парижской сцены,
очень скромно, натурально, без прикрас…
Что-то вечное проходит мимо нас.
Расставались мы где надо и не надо —
на вокзалах и в окопах Сталинграда
на минутку и навеки, и не раз…
Что-то вечное проходит мимо нас.
* * *
Красный снегирь на июньском суку —
шарфик на горлышке.
Перебороть соберусь на муку
хлебные зернышки.
И из муки, из крупитчатой той,
выпеку, сделаю
крендель крылатый, батон золотой,
булочку белую.
Или похвастаюсь перед тобой
долею тяжкою:
потом и болью, соленой судьбой,
горькой черняшкою.
А уж потом погляжу между строк
(так, от безделия),
как они лягут тебе на зубок,
эти изделия.
Кабинеты моих друзей
Что-то дождичек удач падает не часто.
Впрочем, жизнью и такой стоит дорожить.
Скоро все мои друзья выбьются в начальство,
и, наверно, мне тогда станет легче жить.
Робость давнюю свою я тогда осилю.
Как пойдут мои дела – можно не гадать:
зайду к Юре в кабинет, загляну к Фазилю,
и на сердце у меня будет благодать.
Зайду к Белле в кабинет, скажу: «Здравствуй, Белла!»
Скажу: «Дело у меня, помоги решить…»
Она скажет: «Ерунда, разве это дело?..»
И, конечно, сразу мне станет легче жить.
Часто снятся по ночам кабинеты эти,
не сегодняшние, нет; завтрашние, да:
самовары на столе, дама на портрете…
В общем, стыдно по пути не зайти туда.
Города моей страны все в леса одеты,
звук пилы и топора трудно заглушить:
может, это для друзей строят кабинеты —
вот построят, и тогда станет легче жить.
* * *
Солнышко сияет, музыка играет.
Отчего ж так сердце замирает?
Там, за поворотом, недурен собою,
полк гусар стоит перед толпою.
Барышни краснеют, танцы предвкушают,
кто кому достанется, решают.
Но полковник главный на гнедой кобыле
говорит: «Да что ж вы всё забыли!
Танцы были в среду; нынче воскресенье,
с четверга – война, и нет спасенья.
А на поле брани смерть гуляет всюду,
Может, не вернемся, врать не буду!..»
Барышни не верят, в кулачки смеются,
невдомек, что вправду расстаются.
Вы, мол, повоюйте, если вам охота,
да не опоздайте из похода…
Солнышко сияет, музыка играет,
отчего ж так сердце замирает?
* * *
У Спаса на Кружке забыто наше детство.
Что видится теперь в раскрытое окно?
Всё меньше мест в Москве, где можно нам погреться,
всё больше мест в Москве, где пусто и темно.
Мечтали зло унять и новый мир построить,
построить новый мир, иную жизнь начать.
Всё меньше мест в Москве, где есть о чем поспорить,
всё больше мест в Москве, где есть о чем молчать.
Куда-то всё спешит надменная столица,
с которою давно мы перешли на «вы»…
Всё меньше мест в Москве, где помнят наши лица,
всё больше мест в Москве, где и без нас правы.
* * *
Всему времечко своё: лить дождю, земле вращаться,
знать, где первое прозренье, где последняя черта…
Началася вдруг война – не успели попрощаться,
адресами обменяться, не успели ни черта.
Где встречались мы потом? Где нам выпала прописка?
Где сходились наши души, воротясь с передовой?
На поверхности ль земли? Под пятой ли обелиска?
В гастрономе ли арбатском? В черной туче ль грозовой?
Всяк неправедный урок впрок затвержен и заучен,
ибо праведных уроков не бывает. Прах и тлен.
Руку на сердце кладя, разве был я невезучим?
А вот надо ж, сердце стынет в ожиданье перемен.
Гордых гимнов, видит Бог, я не пел окопной каше.
От разлук не зарекаюсь и фортуну не кляну…
Но на мягкое плечо, на вечернее, на ваше,
если вы не возражаете, я голову склоню.
* * *
О. В. Волкову
Гомон площади Петровской,
Знаменка, Коровий вал —
драгоценные обноски…
Кто их с детства не знавал?
Кто Пречистенки не холил,
Божедомки не любил,
по Варварке слез не пролил,
Якиманку позабыл?
Сколько лет без меры длился
этот славный карнавал!
На Покровке я молился,
на Мясницкой горевал.
А Тверская, а Тверская,
сея праздник и тоску,
от себя не отпуская,
провожала сквозь Москву.
Не выходят из сознанья
(хоть иные времена)
эти древние названья,
словно дедов имена.
И живет в душе, не тая,
пусть нелепа, да своя,
эта звонкая, святая,
поредевшая семья.
И в мечте о невозможном
словно вижу наяву,
что и сам я не в Безбожном,
а в Божественном живу.
О Володе Высоцком
Марине Владимировне Поляковой
О Володе Высоцком я песню придумать решил:
вот еще одному не вернуться домой из похода.
Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил…
Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа.
Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом
отправляться и нам по следам по его по горячим.
Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон,
ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем.
О Володе Высоцком я песню придумать хотел,
но дрожала рука и мотив со стихом не сходился…
Белый аист московский на белое небо взлетел,
черный аист московский на черную землю спустился.
Еще один романс
В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной дамы.
Ее глаза в иные дни обращены.
Там хорошо, и лишних нет, и страх не властен над годами,
и все давно уже друг другом прощены.
Еще покуда в честь нее высокий хор поет хвалебно,
и музыканты все в парадных пиджаках.
Но с каждой нотой, Боже мой, иная музыка целебна…
И дирижер ломает палочку в руках.
Не оскорблю своей судьбы слезой поспешной и напрасной,
но вот о чем я сокрушаюсь иногда:
ведь что мы сами, господа, в сравненье с дамой той прекрасной,
и наша жизнь, и наши дамы, господа?
Она и нынче, может быть, ко мне, как прежде, благосклонна,
и к ней за это благосклонны небеса.
Она, конечно, пишет мне, но… постарели почтальоны,
и все давно переменились адреса.
Пиратская лирическая
В ночь перед бурею на мачте горят святого Эльма свечки,
отогревают наши души за все минувшие года.
Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки как овечки,
да только в Портленд воротиться нам не придется никогда.
Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай несет нас черный парус,
пусть будет крепок ром ямайский, всё остальное ерунда.
Когда воротимся мы в Портленд, ей-богу, я во всем покаюсь.
Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда.
Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху,
Ни Бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда.
Когда воротимся мы в Портленд, клянусь – я сам взбегу на плаху.
Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда.
Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото как братья,
поскольку денежки чужие не достаются без труда.
Когда воротимся мы в Портленд, нас примет родина в объятья.
Да только в Портленд воротиться не дай нам, Боже, никогда.
* * *
Ф. Искандеру
Быстро молодость проходит, дни счастливые крадет.
Что назначено судьбою – обязательно случится:
то ли самое прекрасное в окошко постучится,
то ли самое напрасное в объятья упадет.
Две жизни прожить не дано,
два счастья – затея пустая.
Из двух выпадает одно —
такая уж правда простая.
Кому проиграет труба
прощальные в небо мотивы,
кому улыбнется судьба,
и он улыбнется, счастливый.
Так не делайте запасов из любви и доброты
и про черный день грядущий не копите милосердье:
пропадет ни за понюшку ваше горькое усердье,
лягут ранние морщины от напрасной суеты.
Две жизни прожить не дано,
два счастья – затея пустая.
Из двух выпадает одно —
такая уж правда простая.
Кому проиграет труба
прощальные в небо мотивы,
кому улыбнется судьба,
и он улыбнется, счастливый.
Жаль, что юность пролетела, жаль, что старость коротка.
Всё теперь как на ладони: лоб в поту, душа в ушибах…
Но зато уже не будет ни загадок, ни ошибок —
только ровная дорога до последнего звонка.
Две жизни прожить не дано,
два счастья – затея пустая.
Из двух выпадает одно —
такая уж правда простая.
Кому проиграет труба
прощальные в небо мотивы,
кому улыбнется судьба,
и он улыбнется, счастливый.
* * *
Ю. Карякину
Ну что, генералиссимус прекрасный,
потомки, говоришь, к тебе пристрастны?
Их не угомонить, не упросить…
Одни тебя мордуют и поносят,
другие всё малюют, и возносят,
и молятся, и жаждут воскресить.
Ну что, генералиссимус прекрасный?
Лежишь в земле на площади на Красной…
Уж не от крови ль красная она,
которую ты пригоршнями пролил,
пока свои усы блаженно холил,
Москву обозревая из окна?
Ну что, генералиссимус прекрасный?
Твои клешни сегодня безопасны —
опасен силуэт твой с низким лбом.
Я счета не веду былым потерям,
но, пусть в своем возмездье и умерен,
я не прощаю, помня о былом.
* * *
М. Козакову
Приносит письма письмоносец
о том, что Пушкин – рогоносец.
Случилось это в девятнадцатом столетье.
Да, в девятнадцатом столетье
влетели в окна письма эти,
и наши предки в них купались, словно дети.
Еще далече до дуэли.
В догадках ближние дурели.
Всё созревало, как нарыв на теле… Словом,
еще последний час не пробил,
но скорбным был арапский профиль,
как будто создан был художником Луневым.
Я знаю предков по картинкам,
но их пристрастье к поединкам —
не просто жажда проучить и отличиться,
но в кажущейся жажде мести
преобладало чувство чести,
чему с пеленок пофартило им учиться.
Загадочным то время было:
в понятье чести что входило?
Убить соперника и распрямиться сладко?
Но если дуло грудь искало,
ведь не убийство их ласкало…
И это всё для нас еще одна загадка.
И прежде чем решать вопросы
про сплетни, козни и доносы
и расковыривать причины тайной мести,
давайте-ка отложим это
и углубимся в дух поэта,
поразмышляем о достоинстве и чести.
Парижская фантазия
Т. Кулымановой
У парижского спаниеля лик французского короля,
не погибшего на эшафоте, а достигшего славы и лени:
набекрень паричок рыжеватый, милосердие в каждом движенье,
а в глазах, голубых и счастливых, отражаются жизнь и земля.
На бульваре Распай, как обычно, господин Доминик у руля.
И в его ресторанчике тесном заправляют полдневные тени,
петербургскою ветхой салфеткой прикрывая от пятен колени,
розу красную в лацкан вонзая, скатерть белую с хрустом стеля.
Этот полдень с отливом зеленым между нами по горстке деля,
как стараются неутомимо Бог, Природа, Судьба, Провиденье,
короли, спаниели, и розы, и питейные все заведенья.
Сколько прелести в этом законе! Но и грусти порой… Voilа!
Если есть еще позднее слово, пусть замолвят его обо мне.
Я прошу не о вечном блаженстве – о минуте возвышенной пробы,
где возможны, конечно, утраты и отчаянье даже, но чтобы —
милосердие в каждом движенье и красавица в каждом окне!
Плач по Арбату
Ч. Амирэджиби
Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант.
В Безбожном переулке хиреет мой талант.
Вокруг чужие лица, враждебные места.
Хоть сауна напротив, да фауна не та.
Я выселен с Арбата и прошлого лишен,
и лик мой чужеземцам не страшен, а смешон.
Я выдворен, затерян среди чужих судеб,
и горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб.
Без паспорта и визы, лишь с розою в руке
слоняюсь вдоль незримой границы на замке
и в те, когда-то мною обжитые края
всё всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.
Там те же тротуары, деревья и дворы,
но речи несердечны и холодны пиры.
Там так же полыхают густые краски зим,
но ходят оккупанты в мой зоомагазин.
Хозяйская походка, надменные уста…
Ах, флора там всё та же, да фауна не та…
Я эмигрант с Арбата. Живу, свой крест неся.
Заледенела роза и облетела вся.
Прогулки фрайеров[1]1
В буквальном переводе с немецкого: франт, жених, а в обыденном смысле – мнение обывателя об интеллигентом человеке.
[Закрыть]
Оле
По прихоти судьбы – Разносчицы даров —
в прекрасный день мне откровенья были.
Я написал роман «Прогулки фрайеров»,
и фрайера меня благодарили.
Они сидят в кружок, как пред огнем святым,
забытое людьми и Богом племя,
каких-то горьких дум их овевает дым,
и приговор нашептывает время.
Они сидят в кружок под низким потолком.
Освистаны их речи и манеры.
Но вечные стихи затвержены тайком,
и сундучок сколочен из фанеры.
Наверно, есть резон в исписанных листах,
в затверженных местах и в горстке пепла…
О, как сидят они с улыбкой на устах,
прислушиваясь к выкрикам из пекла!
Пока не замело следы на их крыльце
и ложь не посмеялась над судьбою,
я написал роман о них, но в их лице
о нас: ведь всё, мой друг, о нас с тобою.
Когда в прекрасный день Разносчица даров
вошла в мой тесный двор, бродя дворами,
я мог бы написать, себя переборов,
«Прогулки маляров», «Прогулки поваров»…
Но по пути мне вышло с фрайерами.
* * *
Как наш двор ни обижали – он в классической поре.
С ним теперь уже не справиться, хоть он и безоружен,
А там Володя во дворе,
его струны в серебре,
его пальцы золотые, голос его нужен.
Как с гитарой ни боролись – распалялся струнный звон.
Как вино стихов ни портили – всё крепче становилось.
А кто сначала вышел вон,
а кто потом украл вагон —
всё теперь перемешалось, всё объединилось.
Может, кто и нынче снова хрипоте его не рад,
может, кто намеревается подлить в стихи елея…
А ведь и песни не горят,
они в воздухе парят,
чем им делают больнее – тем они сильнее.
Что ж печалиться напрасно: нынче слезы лей – не лей,
но запомним хорошенечко и повод, и причину.
Ведь мы воспели королей
от Таганки до Филей,
пусть они теперь поэту воздают по чину.
* * *
Антон Палыч Чехов однажды заметил,
что умный любит учиться, а дурак учить.
Скольких дураков в этой жизни я встретил!
Мне давно пора уже орден получить.
Дураки обожают собираться в стаю.
Впереди – главный во всей красе.
В детстве я верил, что однажды встану,
а дураков нету: улетели все.
Ах, детские сны мои – какая ошибка,
в каких облаках я по глупости витал!
У природы на устах коварная улыбка…
Может быть, чего-то я не рассчитал.
А умный в одиночестве гуляет кругами,
он ценит одиночество превыше всего.
И его так просто взять голыми руками…
Скоро их повыловят всех до одного.
Когда ж их всех повыловят, наступит эпоха,
которую не выдумать и не описать.
С умным хлопотно, с дураком плохо.
Нужно что-то среднее, да где ж его взять?
Дураком быть выгодно, да очень не хочется.
Умным очень хочется, да кончится битьем…
У природы на устах коварные пророчества.
Но, может быть, когда-нибудь к среднему придем.
Надпись на камне
Посвящается учащимся 33-й московской школы, придумавшим слово «арбатство»
Пускай моя любовь как мир стара, —
лишь ей одной служил и доверялся
я – дворянин с арбатского двора,
своим двором введенный во дворянство.
За праведность и преданность двору
пожалован я кровью голубою.
Когда его не станет – я умру,
пока он есть – я властен над судьбою.
Молва за гробом чище серебра
и вслед звучит музыкою прекрасной…
Но не спеши, фортуна, будь добра,
не выпускай моей руки несчастной.
Не плачь, Мария, радуйся, живи,
по-прежнему встречай гостей у входа…
Арбатство, растворенное в крови,
неистребимо, как сама природа.
* * *
Песенка короткая, как жизнь сама,
где-то в дороге услышанная,
у нее пронзительные слова,
а мелодия почти что возвышенная.
Она возникает с рассветом, вдруг,
медлить и врать не обученная,
она как надежда, из первых рук
в дар от природы полученная.
От дверей к дверям, из окна в окно
вслед за тобой она тянется.
Всё пройдет, чему суждено,
только она останется.
Песенка короткая, как жизнь сама,
где-то в дороге услышанная,
у нее пронзительные слова,
а мелодия почти что возвышенная.
Примета
А. Жигулину
Если ворон в вышине,
дело, стало быть, к войне,
если дать ему кружить,
если дать ему кружить —
значит, всем на фронт иттить.
Чтобы не было войны —
надо ворона убить,
чтобы ворона убить,
чтобы ворона убить —
надо ружья зарядить.
А как станем заряжать, —
всем захочется стрелять,
а уж как стрельба пойдет,
а уж как стрельба пойдет —
пуля дырочку найдет.
Ей не жалко никого,
ей попасть бы хоть в кого —
хоть в чужого, хоть в свого —
лишь бы всех до одного.
Во – и боле ничего.
Во – и боле ничего,
во – и боле никого,
во – и боле никого,
кроме ворона того, —
стрельнуть некому в него.
Песенка о молодом гусаре
Грозной битвы пылают пожары,
и пора уж коней под седло.
Изготовились к схватке гусары:
их счастливое время пришло.
Впереди – командир, на нем новый мундир,
а за ним – эскадрон после зимних квартир.
А молодой гусар, в Амалию влюбленный,
он всё стоит пред ней коленопреклоненный.
Все погибли в бою. Флаг приспущен.
И земные дела не для них.
И летят они в райские кущи
на конях на крылатых своих.
Впереди – командир, на нем рваный мундир,
а за ним – тот гусар покидает сей мир.
Но чудится ему: по-прежнему влюбленный
он всё стоит пред ней коленопреклоненный.
Вот иные столетья настали,
и несчетно воды утекло,
и давно уже нет той Амальи,
и в музее пылится седло.
Позабыт командир – дам уездных кумир.
Жаждет новых потех просвещенный наш мир.
А юный тот гусар, в Амалию влюбленный,
опять стоит пред ней коленопреклоненный.
Дерзость, или Разговор перед боем
– Господин лейтенант, что это вы хмуры?
Аль не по сердцу вам наше ремесло?
– Господин генерал, вспомнились амуры —
не скажу, чтобы мне с ними не везло.
– Господин лейтенант, нынче не до шашней:
скоро бой предстоит, а вы всё про баб!
– Господин генерал, перед рукопашной
золотые деньки вспомянуть хотя б.
– Господин лейтенант, не к добру всё это!
Мы ведь здесь для того, чтобы побеждать…
– Господин генерал, будет вам победа,
да придется ли мне с вами пировать?
– На полях, лейтенант, кровию политых,
расцветет, лейтенант, славы торжество…
– Господин генерал, слава для убитых,
а живому нужней женщина его.
– Черт возьми, лейтенант, да что это с вами!
Где же воинский долг, ненависть к врагу?!
– Господин генерал, посудите сами:
я и рад бы приврать, да вот не могу…
– Ну гляди, лейтенант, каяться придется!
Пускай счеты с тобой трибунал сведет…
– Видно, так, генерал: чужой промахнется,
а уж свой в своего всегда попадет.
Музыкант
И. Шварцу
Музыкант играл на скрипке – я в глаза ему глядел.
Я не то чтоб любопытствовал – я по небу летел.
Я не то чтобы от скуки – я надеялся понять,
как способны эти руки эти звуки извлекать
из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил,
из какой-то там фантазии, которой он служил?
Да еще ведь надо пальцы знать, к чему прижать когда,
чтоб во тьме не затерялась гордых звуков череда.
Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь…
А чего с ней церемониться? Чего ее беречь?
Счастлив дом, где пенье скрипки наставляет нас на путь
и вселяет в нас надежды… Остальное как-нибудь.
Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу,
по чьему благословению я по небу лечу.
Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злы, смычок остер,
музыкант, соорудивший из души моей костер.
А душа, уж это точно, ежели обожжена,
справедливей, милосерднее и праведней она.
* * *
Всё глуше музыка души,
всё звонче музыка атаки.
Но ты об этом не спеши:
не обмануться бы во мраке,
что звонче музыка атаки,
что глуше музыка души.
Чем громче музыка атак,
тем слаще мед огней домашних.
И это было только так
в моих скитаниях вчерашних:
тем слаще мед огней домашних,
чем громче музыка атак.
Из глубины ушедших лет
еще вернее, чем когда-то, —
чем звонче музыка побед,
тем горше каждая утрата,
еще вернее, чем когда-то,
из глубины ушедших лет.
И это всё у нас в крови,
хоть этому не обучали:
чем выше музыка любви,
тем громче музыка печали,
чем громче музыка печали,
тем чище музыка любви.
Считалочка для Беллы
Я сидел в апрельском сквере.
Предо мной был Божий храм,
Но не думал я о вере,
а глядел на разных дам.
И одна, едва пахнуло
с несомненностью весной,
вдруг на веточку вспорхнула
и уселась предо мной.
В модном платьице коротком,
в старомодном пальтеце,
и ладонь – под подбородком,
и загадка на лице.
В той поре, пока безвестной,
обозначенной едва:
то ли поздняя невеста,
то ли юная вдова.
Век мой короток – не жалко,
он длинней и ни к чему…
Но она петербуржанка
и бессмертна посему.
Шли столетья по России,
бил надежды барабан.
Не мечи людей косили —
слава, злато и обман.
Что ни век – все те же нравы,
ухищренья и дела…
А Она вдали от славы
на Васильевском жила.
Знала счет шипам и розам
и безгрешной не слыла.
Всяким там метаморфозам
не подвержена была…
Но когда над Летним садом
возносилася луна,
Михаилу с Александром,
верно, грезилась Она.
И в дороге, и в опале,
и крылаты, и без крыл,
знать, о Ней лишь помышляли
Александр и Михаил.
И загадочным и милым
лик Ее сиял живой
Александру с Михаилом
перед пулей роковой.
Эй вы, дней былых поэты,
старики и женихи,
признавайтесь, кем согреты
ваши перья и стихи?
Как на лавочке сиделось,
чтобы душу усладить,
как на барышень гляделось,
не стесняйтесь говорить.
Как туда вам все летелось
во всю мочь и во всю прыть…
Как оттуда не хотелось
в департамент уходить!
* * *
В день рождения подарок преподнес я сам себе.
Сын потом возьмет, озвучит и сыграет на трубе.
Сочинилось как-то так, само собою
что-то среднее меж песней и судьбою.
Я сижу перед камином, нарисованным в углу,
старый пудель растянулся под ногами на полу.
Пусть труба, сынок, мелодию сыграет…
Что из сердца вышло – быстро не сгорает.
Мы плывем ночной Москвою между небом и землей.
Кто-то балуется рядом черным пеплом и золой.
Лишь бы только в суете не заигрался…
Или зря нам этот век, сынок, достался?
Что ж, играй, мой сын кудрявый, ту мелодию в ночи,
пусть ее подхватят следом и другие трубачи.
Нам не стоит этой темени бояться,
но счастливыми не будем притворяться.
* * *
Лену Карпинскому
Шестидесятники развенчивать усатого должны,
и им для этого особые приказы не нужны:
они и сами, словно кони боевые,
и бьют копытами, пока еще живые.
Ну а кому еще рассчитывать в той драке на успех?
Не зря кровавые отметины видны на них на всех.
Они хлебнули этих бед не понаслышке.
Им всё маячило – от высылки до вышки.
Судьба велит шестидесятникам исполнить этот долг,
и в этом их предназначение, особый смысл и толк.
Ну а приказчики, влюбленные в деспота,
пусть огрызаются – такая их работа.
Шестидесятникам не кажется, что жизнь сгорела зря:
они поставили на родину, короче говоря.
Она, конечно, в суете о них забудет,
но ведь одна она. Другой уже не будет.
* * *
Собрался к маме – умерла,
к отцу хотел – а он расстрелян,
и тенью черного орла
горийского весь мир застелен.
И, измаравшись в той тени,
нажравшись выкриков победных,
вот что хочу спросить у бедных,
пока еще бедны они:
собрался к маме – умерла,
к отцу подался – застрелили…
Так что ж спросить-то позабыли,
верша великие дела:
отец и мать нужны мне были?
…В чем философия была?
Письмо к маме
Ты сидишь на нарах посреди Москвы.
Голова кружится от слепой тоски.
На окне – намордник,
воля – за стеной,
ниточка порвалась меж тобой и мной.
За железной дверью топчется солдат…
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь – он за весь народ.
Следователь юный машет кулаком.
Ему так привычно звать тебя врагом.
За свою работу рад он попотеть…
Или ему тоже в камере сидеть?
В голове убогой – трехэтажный мат…
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь – он за весь народ.
Чуть за Красноярском – твой лесоповал.
Конвоир на фронте сроду не бывал.
Он тебя прикладом, он тебя пинком,
чтоб тебе не думать больше ни о ком.
Тулуп на нем жарок, да холоден взгляд…
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь – он за весь народ.
Вождь укрылся в башне у Москвы-реки.
У него от страха паралич руки.
Он не доверяет больше никому,
словно сам построил для себя тюрьму.
Всё ему подвластно, да опять не рад…
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет —
он не за себя ведь – он за весь народ.
Мой отец
Он был худощав и насвистывал старый, давно позабытый мотив,
и к жесткому чубчику ежеминутно его пятерня прикасалась.
Он так и запомнился мне на прощанье, к порогу лицо обратив,
а жизнь быстротечна, да вот бесконечной ему почему-то казалась.
Его расстреляли на майском рассвете, и вот он уже далеко.
Всё те же леса, водопады, дороги и запах акации острый.
А кто-то ж кричал: «Не убий!» – одинокий… И в это поверить легко,
но бредили кровью и местью святою все прочие братья и сестры.
И время отца моего молодого печальный развеяло прах,
и нету надгробья, и памяти негде над прахом склониться, рыдая.
А те, что виновны в убийстве, и сами давно уже все в небесах.
И там, в вышине, их безвестная стая кружится, редея и тая.
В учебниках школьных покуда безмолвны и пули, и пламя, и плеть,
но чье-то перо уже пишет и пишет о том, что пока безымянно.
И нам остается, пока суд да дело, не грезить, а плакать и петь.
И слезы мои солоны и горючи. И голос прекрасен… Как странно!
* * *
Ю. Даниэлю
Не успел на жизнь обидеться —
вся и кончилась почти.
Стало реже детство видеться,
так – какие-то клочки.
И уже не спросишь – не с кого.
Видно, каждому – свое.
Были песни пионерские,
было всякое вранье.
И по щучьему велению,
по лесам и по морям
шло народонаселение
к магаданским лагерям.
И с фанерным чемоданчиком
мама ехала моя
удивленным неудачником
в те богатые края.
Забываются минувшие
золотые времена;
как монетки потонувшие,
не всплывут они со дна.
Память пылью позасыпало?
Постарел ли? Не пойму:
вправду ль нам такое выпало?
Для чего? И почему?
Почему нам жизнь намерила
вместо хлеба отрубей?..
Что Москва слезам не верила —
это помню. Хоть убей.
* * *
Ю. Киму
Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик?
Едва твой гимн пространства огласит,
прислушаться – он от скорбей излечит,
а вслушаться – из мертвых воскресит.
Какой струны касаешься прекрасной,
что тотчас за тобой вступает хор
таинственный, возвышенный и страстный
твоих зеленых братьев и сестер?
Какое чудо обещает скоро
слететь на нашу землю с высоты,
что так легко, в сопровожденье хора,
так звонко исповедуешься ты?
Ты тоже из когорты стихотворной,
из нашего бессмертного полка.
Кричи и плачь. Авось твой труд упорный
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































