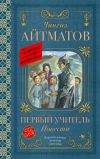Текст книги "Белый пароход (сборник)"
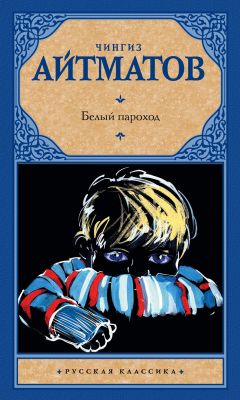
Автор книги: Чингиз Айтматов
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
И только одна оказалась исключением из правил… Но об этом позже… Вот об этом попозже бы…
Вот и пришел ты к Берегу, а дальше другая Река…
Ты маешься, ищешь любой повод, только бы отодвинуть мысли об этом, воспоминания об этом. Ну, и что же? Разве не убеждаешься ты всякий раз в нелепости, химерности попытки убежать от себя? Умереть можно, но уйти от себя нельзя. В этом смысле человек, будучи смертным, вечен.
О боже, что ты пытаешься объяснить необъяснимое, что ты кидаешься в бездну своей души, чтобы рассказать о том, что не подвластно слову, по крайней мере твоему слову?!
А ведь ты считал себя исключительно сильной личностью, и было бы странно, если бы ты не совладал с собой, когда это требовалось из соображений высшей целесообразности. Но в этот раз ты не смог преодолеть себя… А ведь ничто не предвещало того, с чем столкнулся, как комета, налетевшая на другую комету. Ведь все шло своим чередом.
Случилось это весной следующего года, когда первой группе зекинкуб уже были имплантированы эмбрионы и она находилась под соответствующим медицинским наблюдением.
Эту женщину доставили в тот день на обследование, как привозили обычно и других, в сопровождении «фельдшера» – так на старомодный лад называли мы охрану инкуб. Когда ассистент и медсестра привезли ее ко мне в кабинет, я бегло осматривал данные ее предварительных обследований. Все было в норме – общефизические показатели, гинекология, только это меня и интересовало – пригодность пациентки для вынашивания имплантированного плода, все остальное было делом спецслужб, то были их заботы. В этом смысле работа была поставлена четко, если не сказать безукоризненно, никаких проблем не возникало. Да и с чего им было возникать. Ведь в зонах и тюрьмах отбор кандидаток в инкубы производили квалифицированные сотрудники, тщательно изучавшие зечек на предмет их целевой пригодности; сами зечки, давшие согласие на вынашивание плода, были больше всех заинтересованы, чтобы только не случилось чего, чтобы не упустить такую невероятную возможность сокращения срока наказания: выносив и родив младенца, избавиться от многих лет заключения! Да такое никому и во сне не снилось! Понятно, что появлялись они у нас в клинике, трепеща от страха и надежд, умоляя небеса, чтобы ничто не помешало тому, что забрезжило на их страшном пути. Могло ведь случиться – возьмут да забракуют на последнем этапе клинической экспертизы: не годна, мол, в инкубы. Естественно, женщины волновались.
Новую зечку, препровожденную в кабинет, оставили сидеть на стуле возле двери. Коротко ответив на ее односложное «здравствуйте», я снова глянул на ее досье – на персональный номер заключенной и индекс места заключения, глянул еще раз на фамилию, которую тут же забыл, кажется, Лопатина. Фамалии обычно не запоминаются – они или очень сложные, или очень простые. Но вот имя пациентки показалось мне странным – Руна, что за имя, что-то в нем руническое, усмехнулся я и поднял голову. Первое, что бросилось в глаза, – то, что женщина была в очках. Стало быть, появилась среди инкуб и такая – в очках. У нее было интеллигентное лицо, и мне подумалось, что нелегко ей, должно быть, приходится в зоне, там, известное дело, мат-перемат, драки, таскание за волосы и прочее… А собой совсем не дурна, на воле наверняка была еще лучше, была, наверное, красавицей. Но вот смотрит как-то не так, как следовало бы в ее положении, – никакой повинной улыбчивости, предупредительности во взгляде. Карие глаза за стеклами очков выражали лишь сдерживаемое любопытство. Можно было представить, что на воле она следила за собой, подводила брови, подкрашивала ресницы, преображалась перед зеркалом. Но это на вид и к слову, а ведь на ее счету какое-то серьезное преступление, недаром ведь осуждена на десять лет, недаром зечка… И теперь вот решилась родить иксрода, чтобы скосить срок.
– Ну, так вот что, женщина, – сказал я. – Контрольные анализы полагается сделать еще раз, повторно. Тогда станет ясно, как дальше.
Она молчала.
– Какие-нибудь жалобы есть?
– Что вы имеете в виду? – сказала она.
– Состояние здоровья. Ничего другого.
– Нет, пока нет.
– Необходимо строго следовать предписаниям подготовительного периода. Об этом тебе расскажут. Если все будет в порядке, имплантацию произведут в начале следующей недели, во вторник или среду, не раньше. Так что придется подождать.
– А я и не спешу. Меня все это вообще не волнует.
Ее дерзкий ответ удивил меня. Такого здесь еще не бывало. Разглядывая очкастую повнимательней, я встал из-за стола и подошел к ней. Она тоже встала. И я строго сказал, чтобы ей неповадно было говорить со мной в такой манере:
– Если не к спеху, и тем более если тебя это вообще не волнует, то стоило ли огород городить? Ты с каким намерением сюда отправилась, ты знала, куда и зачем следуешь?
– Знала. Разумеется, знала.
– Ну и что? Я тебя спрашиваю, женщина. Зачем ты сюда ехала?
– Зачем? А затем, чтобы увидеть вас, профессор, и убедиться, что все это вовсе не детские байки!
– Только и всего!
– Поверьте – только и всего. Чтобы увидеть вас и сказать вам всю правду в глаза.
– Вон как?! – невольно вырвалось у меня. И я сказал коротко и жестко: – Ты письменное согласие давала?
– Да, давала.
– Ты понимаешь, что твое поведение будет расценено как нарушение подписки и ты схлопочешь новый срок?
– Понимаю.
– В этом есть острая необходимость?
– Есть – острая необходимость в этом разговоре. Это необходимо для вас.
– Для меня? А мы что, решаем с тобой какие-то проблемы?
– Решаем. Будут ли люди размножаться, как велено природой и Богом, или по наущению дьявола, это проблема?
Я замолчал, точно наскочил внезапно на стену. Потом сказал, едва сдерживая бешенство:
– Для этого у меня есть собственная голова на плечах, мадам. Придется нам расстаться. Жаль, что ты не сократишь себе срок, а, напротив, удлинишь его. Тут уж пеняй на себя.
– То, что я должна была сказать, я сказала.
– Не слишком ли много ты берешь на себя? Не подводит ли тебя чувство меры?
– Я зечка, Андрей Андреевич. – Она неожиданно назвала меня по имени-отчеству, и то, что слышишь механически сотни раз в день, в ее устах прозвучало странно. – Я зечка и только, – повторила она. – И я знала, на что иду. И добилась своего. Я считала это своим долгом. И выполнила его, как могла. Может быть, этот разговор что-то пробудит в вас, заставит задуматься. Вот и все.
– Ты мне здесь мораль не читай! – рассвирепел я, все лучше понимая, что произошел неожиданный, но когда-то неизбежный в работе с инкубами сбой. – На твое место найдутся десятки желающих!
– Вот это самое страшное, – проговорила она. – И это на вашей совести. Целиком и полностью на вашей совести.
– Совесть совести рознь! – отрезал я.
– А такое я впервые слышу.
– Оставим философский диспут тем, у кого на это есть время. Тебя не для того сюда доставили. Отправляйся назад. Нам с тобой говорить не о чем.
Я нажал кнопку вызова. За ней пришли.
– Прощайте, – сказала она, уходя.
Я ничего не ответил.
Дверь захлопнулась. Я вернулся за письменный стол. Начались другие дела, другие заботы.
Но этот досадный случай не выходил из головы. Надо было дать указание, чтобы «правдоискательницу» отправили восвояси, туда, откуда она прибыла, в зону, кажется, под Костромой, и пусть там мнит о себе что угодно. Но отложил на потом. Вспоминал эту зечку среди дел, звонков, разговоров, никак не мог заставить себя забыть, но никому, ни единому из сослуживцев, даже тем, с кем был относительно близок, – никому не рассказал о том, что вывело меня из равновесия и продолжало саднить душу.
Странное, очень странное у меня было состояние, сам себя не узнавал. Решил зачем-то получше, поподробней познакомиться с ее делом. Откуда такая? Кто она вообще? За что сидит? По какой статье? Психически ненормальных в зонах, вроде бы, не должны были содержать. Но что же это за необузданная женщина? Каким ветром отчаяния пригнало ее, какими мыслями и словами была она начинена, и что могла еще наговорить, дай ей волю, чтобы побольнее ударить по моей совести, чтобы муторно мне стало, чтобы пополз, волоча кровавый след муки. Претенденты на совесть могут ничего не иметь, кроме своей категоричной точки зрения, и в этом их наступательная сила. Совесть, однако, требует прежде всего внутренней независимости, а иначе ее покупают и продают, как старье на базаре. Да и вообще, что есть банальнее на свете, нежели понятие совести? И эта зечка явилась тут Америку открывать! Уж ей ли пристало говорить о совести – преступнице, уголовнице осужденной?!
Но думая так, я сам себя начинал ненавидеть. Что ты оправдываешься, перед кем и за что?! Слаб оказался. И что ты все думаешь о ней?..
Я заново раскрыл ее дело. Лопатина Руна Федуловна, осуждена по статье 158-й, за хранение и распространение антисоветских материалов… А, ну тогда ясно, разве не видно было сразу по полету, что за птица?! Как же, как же, таким всегда неймется, всегда им надо выступить с протестом, чтобы заявить о себе, и в этот раз нашла, выходит, где высунуться… Не замужем, разведена. Кто же станет жить с такой стервой. Ничего удивительного.
Потом меня отвлекли другие дела, и я задержался после работы, чтобы не брать с собой бумаг, подлежащих хранению только в служебных сейфах. Дочитал, все прочел, что касалось Руны Лопатиной. Ну и что, мне подумалось в итоге? В общем-то, конечно, женщина своеобразная, с определенным взглядом на жизнь; как правило, такие личности появляются во все времена в радикальных кругах, в оппозиции: духовной, политической, правительственной. Среди них есть всякие. И такие, что мнят себя мессиями и ради идеи готовы принести в жертву всех, кто последует за ними… Но при чем тут Руна? Судя по всему, она идеалист-одиночка. А впрочем, кто ее знает. Как я могу судить, увидев ее один раз, услышав от нее всего несколько слов. Да, конечно, человек она нелегкой, куда как нелегкой судьбы – учительствовала, потом занималась кинодокументалистикой – писала документальные киносценарии о советской школе, а школьные проблемы всегда у нас были социально острыми.
Вспомнилась мне тут вдруг незабвенная Вава, Валерия Валентиновна, знала бы она, чем занимается ныне ее гениальный ученик! Но это были попутные мысли. А что касается Руны, то она, судя по всему, попала под суд из-за своего брата Лопатина Игоря Федуловича. Он-то как раз был профессиональным киношником, окончил знаменитый ВГИК, и, по всей вероятности, не без его влияния и помощи Руна и занялась школьными киносюжетами. Как отмечалось в следующих материалах, бывшая учительница Руна Лопатина, подвизавшаяся в любительской секции при киностудии имени Горького, способствовала распространению сомнительных в идейном смысле умонастроений среди любителей кино. Были свидетели, утверждавшие, что она, Руна, выступала за тенденциозное направление в искусстве, за документальные сюжеты, негативно представляющие советских людей и их быт. То было прелюдией к обвинению.
Главным обвиняемым по делу проходил ее брат, Игорь Лопатин, он обвинялся в том, что, «будучи штатным кинооператором, использовал государственную аппаратуру и средства для уголовно наказуемой деятельности – снимал клеветнические, искажающие советскую действительность, порочащие советский общественный и государственный строй документальные ленты, с тем чтобы дезинформировать таким образом западную общественость». Причем подчеркивалось, что «подсудимый занимался этим преступным делом не бескорыстно, а продавал порочащие советское государство киноматериалы на Запад за валюту». Именно там, за рубежом, где эти материалы демонстрировались в кинозалах и по телевизионным каналам, наши спецслужбы выявили происхождение этих кинолент.
Как говорят в таких случаях, какие знакомые арии, какие знакомые истории, и кто знает, так это все или не так, но, как бы то ни было, в результате Руна Лопатина была обвинена в уголовном деянии. Она обвинялась в прямом пособничестве брату – он передавал ей «несанкционированно отснятые» ленты, а она их хранила у близкой подруги. Эти связи были отслежены. Кто-то навел-таки на след. Игорь был арестован, а когда Руна кинулась на квартиру к подруге предупредить, здесь ее уже поджидали сотрудники надлежащих служб. Так что взята она была с поличным. А дальше происходит неожиданное – в ходе процесса Руна предпринимает отчаянную попытку как-то облегчить участь брата. Она берет на себя основную вину, заявив, что это была ее идея – снять сцены жизни и быта советских людей, что это она давала брату указания, что снимать и как снимать, что она сама, лично передавала отснятые пленки иностранным корреспондентам за валюту, что, по сути дела, младший ее брат был лишь исполнителем ее замыслов.
Вот такая история. И еще одна любопытная деталь: на суде Руну обвинили в интимной связи с американским журналистом, который, вернувшись к себе в Америку, написал якобы статью, где «высоко отзывался о своей любовнице, а к советскому обществу проявил, напротив, исключительно враждебное отношение», это была якобы месть за арестованную к тому времени преступницу. Руна же отрицала, что была любовницей американского журналиста, утверждая, что просто занималась с ним русским языком… В общем, не разбери-поймешь. Кто их знает, что там было, но как бы то ни было, все это окончилось для этой Руны весьма плачевно…
В тот день я уезжал с работы поздно. Были и рабочие дела, и странное желание получше познакомиться с прошлым Руны Лопатиной тоже изрядно меня подзадержало.
Привычно кивнув охране у ворот, я выехал аллеей на Успенское шоссе уже в сумерках. Включился в поток машин, спешивших в Москву.
Красивые здесь места и зимой, когда леса и пригорки в белых снегах, как во сне, и летом, когда зеленое цветение достигает своего апогея, когда за лесом вдруг выглянет на несколько секунд неожиданное видение – сияющий изгиб Москвы-реки. Восхитительная магия воды, неба, леса; я всегда старался не пропустить этого мгновения, чтобы глянуть через стекло и умчаться дальше, сохраняя пред взором оставшееся позади.
Останавливаюсь на этих деталях не случайно. Сколько раз, бессчетное число раз проносился я по этим местам в ту и другую сторону, но откуда было знать, что жизнь моя кровным образом окажется связана с этими придорожными пространствами?.. И настанет такое время, когда я не найду в себе сил ездить этим путем, буду ездить в обход…
А в тот раз, приближаясь к Москве, я думал о том, надо ли было давать указание, чтобы эту строптивую кандидатку в инкубы Руну Лопатину вновь привезли на следующий день в клинику. Да, я дал такое указание. Зачем я это сделал? И что я ей скажу? Разве не ясно, что, когда она давала согласие стать инкубой, цель ее была совсем иной, возможно, она, эта Руна, все-таки чокнутая, а возможно, в ней говорит мания надуманной праведности, исключительной совестливости и прочих не от мира сего добродетелей. Что с ней канителиться?! Да ее надо гнать в шею куда подальше, пусть загибается у себя в зоне.
Нашла кого совестить, а сама-то она кто?! «А ты сам? А ты?! – тут же говорил я себе. – Нашел себе мишень! Осужденная, бесправная зечка, и ты с ней копья скрещиваешь! Хорош, нечего сказать, хорош!»
Раза два тормоза чуть не сорвал на поворотах, колеса заскрипели так, что прохожие кинулись в стороны, – задумался за рулем, не мог отогнать назойливо преследовавшие мысли. А ведь видел я эту Руну всего один раз, с чего же меня так проняло? Я припоминал, как поднялся из-за стола и подошел к ней, как она тоже встала со стула. И вот она стоит передо мной – зечка, в одежде, в которую ее специально обрядили для доставки в загородную клинику пред очи профессора, – в черт его знает где сшитой серой кофте, мешковатой длинной юбке, в грубых башмаках. Когда-то, когда вещи служили ее красоте и вкусу, она была хороша. Я думал о ее глазах, встревоженно, решительно и мужественно глядевших на меня. Ведь глаза – их называют зеркалом души, но это неверно, – глаза есть сама душа, ее живое выражение. По-мальчишески угловатые, хрупкие плечи ее невольно ежились, а гибкие, тонкие руки она держала, скрестив. А ей бы распрямиться, а ей бы быть непринужденной, а ей бы улыбаться, ей бы идти по улице среди пестрой толпы. Не для диссидентства она предназначалась и вообще не для этой эпохи. Ей бы наряды прошлого века! Можно представить, как бы она выглядела… В то же время какую чушь порола! Остановить науку с помощью совести?! Вот ведь всегда так, всюду человек суется со своей совестью; что бы ни было, что бы ни произошло, дай ему ответ – по совести это или не по совести! И каждый на свой лад держит ту совесть за пазухой. И каждый кичится ею. И каждый заявляет о ней от имени Бога!.. Но на одной совести далеко не уедешь. Мало кто способен восстать против Бога с его совестью, которой он всех нас наделил и обуздал, мало кто способен попереть его прочь с дороги, когда надо брать в свои руки то, что всегда было его монополией, как его монопольная власть над рождением. Хватит ему монополии на смерть, уж этого у него никто не отнимет! А что касается рождения, тут я с ним конкурирую, и мне не до совести… Понимает ли это Руна, нет, пожалуй, ей этого не понять. Оттого и явилась героиней, кричащей о совести… Ей бы подумать о себе, куда и как ей теперь…
В ту ночь в своем академическом особняке, одном из тех, что были дарованы еще Сталиным своей команде атомных бомбовиков, от пирога которых достался и мне солидный кусок, я не находил себе места. Толстые стены, громадные окна, высоченные потолки. Но к чему я здесь? И вообще, к чему я, зачем живу? Снова заговорил во мне в ту ночь подкидыш. Я лишний, я сам иксрод, я «черная дыра» в людском роду. Кому от меня стало счастливее на свете, кто горячо возблагодарил жизнь, встретив меня, какая женщина? Евгения, бежавшая без оглядки? Что познала она, чудесная актриса, живя со мной? Холодный ум, бесчувственность, жестокость, аборты, собственноручно делаемые мужем? Да и те женщины, что мимолетно встречались на пути, вряд ли вспоминали потом об этих эфемерных встречах как о нечаянной вспышке счастья. Все, что было связано со мной, обнажалось пустынностью, безрадостностью… Отсюда мысли мои незаметно вновь кочевали к ней, к сегодняшней этой зечке, к Руне, женщине с именем из рунических времен. Но почему я думаю о ней? И что с ней в этот час? Страдает, наверное. Быть может, расчесала сейчас волосы, распустила их, чтобы был им отдых от темных мыслей, гнетущих ее, теснящихся в голове. А на воле, наверное, причесывалась по-иному, волосы у нее были пышные и волнистые, и тогда не приходилось стискивать их в узел на затылке, как предписано в зонах. Вздумав «раскрыть глаза» профессору, поставила себя в еще худшее положение, осложнила себе жизнь. Неужели она была к этому готова? И что она думает о сегодняшней нашей встрече? Быть может, она в чем-то и права, но ведь одной совестью, одними благими намерениями мир не насытишь, не ублажишь, не изменишь звериной сущности человека, алчущего все большего места под солнцем; при таких аппетитах скоро солнца не хватит на всех, но еще страшнее, что он, человек, все больше и ненасытнее страждет господства над себе подобными. Потому и нужны новочеловеки – иксроды… А она хочет встать на их пути, преградить им доступ к жизни, к власти, к войне. Понять можно, но нет такой силы, чтобы одолеть неодолимое…
Очень часто вопрошал я впоследствии почти бессмысленно: почему в тот вечер я оказался полностью предоставлен самому себе? Почему не было никаких собраний, заседаний, встреч и прочей светской и политической толкотни, от которой в другие дни житья нет…
Я терзался той ночью и все никак не мог успокоиться. Смутила меня эта зечка Руна, застигла врасплох – ведь никто из окружающих в нашем деле не сомневался, или мне так казалось?..
Но ведь и себя она не пожалела, демонстративно жертвовала собой! Как можно?! Зачем она принуждает меня выступать в неблаговидной роли гонителя и прокурора? Неужели действительно только ради того, чтобы кинуть в лицо мне обвинение, она решилась лишить себя воли еще на долгие годы?! Хотя понять ее можно – это единственное, что могла она предпринять, задавшись целью высказать свою позицию, свою правду. Она не имеет возможности выразить это открыто, публично – ни на улице, ни на собрании, ни тем более зарубежным корреспондентам. Она замурована в зоне… И теперь ей грозит новое наказание… Хорошо, что никто не знает о том, что произошло между нами, хорошо, что я не обмолвился никому ни единым словом, хорошо, что дал указание, чтобы ее вызвали повторно. Да, завтра, к двум часам дня она будет доставлена. Еще не все потеряно, еще не все мосты сожжены. Может быть, удастся уберечь ее от нового суда…
Я все больше поддавался этой мысли, все больше нарастало во мне желание оградить ее, избавить от кары, и в этом стремлении своем я находил нечто, впервые познаваемое моей душой, я открывал себя, сам себя не узнавая. Что же произошло со мной? Движимый стремлением понять и защитить женщину, я постепенно приходил к выводу, что если Руна Лопатина предъявила мне счет, обрекая этим себя на мученичество, то не есть ли это веление свыше, не есть ли это самозащита Всемилостивого?.. Раньше я не мог понять, что такое Всемилостивость, в чем, собственно, она заключается и проявляется, и только теперь вдруг почувствовал: если я тот, кто в угаре самодовольства, манипулируя зародышами, отпихивает самого Бога, то не является ли зечка Руна как бы посланницей, выразительницей Его Великодушия и Снисхождения?.. Нет ли в этом пробы на Добро во мне?!
От мыслей таких мне становилось и горько, и сладко. Я испытывал прилив благодарности к ней, к этой зечке, заставившей меня очнуться, усомниться в себе, ощутить свое высокомерие и надменность. Я почувствовал, что хочу предстать перед ней иным. Как жаль, что невозможно было тотчас позвонить Руне, в особый изолятор, где ее временно содержали. Как много я сказал бы ей, как много хотелось услышать в ответ. Если бы было можно сесть за руль и среди ночи помчаться в тот изолятор, отыскать ее и вступить в разговор! Но это тоже оставалось лишь мечтой. Единственное, что я мог, – это ожидать завтрашней встречи; воображение мое рисовало, какой будет она, эта встреча. Когда Руну приведут в кабинет и оставят для беседы, я подойду к ней и поздороваюсь за руку. «Извините, пожалуйста, Руна, нам необходимо вернуться к нашему разговору. Я готов выслушать ваши соображения со всей серьезностью, просил бы и вас об этом. Выслушайте и мои доводы». – «Прекрасно! – ответит она и чистосердечно признается: – А я думала, профессор, что больше никогда уже не увижу вас. Я ожидала, что утром меня вернут на круги своя, погонят, как проклятую, назад в мою зону, учинят надо мной новый суд и погонят дальше, в Сибирь или на Алтай, но вдруг приходит дежурный надзиратель и сообщает, что меня вновь вызывают к профессору Крыльцову Андрею Андреевичу. И вот тут я…»
«О Боже праведный! Какие глупости ты насылаешь на меня? – шептал я в отчаянии. – Какое ребячество, останови меня, я в детство впал!»
Да, разумеется, от великого до смешного лишь один шаг; но, пусть я смешон, я с легкой душой готов был к тому, чтобы все было именно так, как мне грезилось той ночью. Пусть было бы так, какое счастье даже само ожидание желанной нелепости!
И за всеми этими порывами, вдруг объявшими душу мою, возникало, как черная туча на горизонте, самое тяжкое для меня сомнение – действительно, имел ли я моральное право производить иксродов во чревах инкуб? Какие наивысшие цели могли оправдать мои действия? Не стану кривить душой, сомнения такого рода всегда таились во мне, но ни я и никто из моих коллег никогда не высказывали их. Достижения науки возвышали нас не только в собственных глазах, но и в глазах общества. Однако за примерами того, насколько не совместимы порой наука и совесть, как взаимосвязаны зачастую наука и преступления, в XX веке далеко ходить не надо.
И вот настал момент, когда заговорила совесть моя, которую разбудила тюремная узница. Признать античеловечность производства анонимных детей от анонимных родителей, выведения их с помощью инкуб – вот на что побудила меня Руна.
Что привело ее ко мне, что связало нас до смертного порога, пусть знает судьба… Не мне судить…
В ту ночь наступил перелом. Я готов был просить прощения у женщины, поразившей меня невиданной самоотверженностью, немыслимым поступком. Я готов был склониться перед ней на колени, чтобы отринуть зло, несомое мной роду человеческому. И если бы она приняла мою любовь и могла бы ответить взаимностью, то я просил бы ее руки… Да, да!
Я не представлял себе, каким образом могло бы это произойти, ведь она осуждена на многие годы, но если бы она сказала «да», то я пошел бы даже на то, чтобы бежать вместе с ней куда угодно – в лес, в горы, за моря, куда угодно, только бы быть вместе… И начать новую жизнь, пусть скитальческую, для меня это было бы искуплением моего зловещего прошлого…
И, раз подумав об этом, я уже не мог остановить себя. Мое воображение не знало пределов. Я совершал революцию в себе, беспощадную, безоглядную. И предавался мечтам. Моя новая жизнь должна была начаться с завтрашнего дня, с того часа, когда Руну приведут ко мне и мы останемся наедине. Я попытаюсь объяснить ей, что произошло во мне, рассказать о том катарсисе, который я пережил, заверить ее, что готов на все. Только бы она сказала «да», только бы она увидела во мне того, кого она может полюбить. Только бы она убедилась в моей искренности, только бы поверила, что нам необходимо быть вместе…
Было уже далеко за полночь, когда я уснул на диване беспокойным, чутким сном. И на рассвете слышал грозу, разразившуюся в небе. Громыхало над крышей, за окнами лил мощный дождь. Не открывая глаз, я видел, что происходит в природе, точно сам творил ту грозу, я видел, как полыхали молнии в полнеба, я видел, как гнулись ветви деревьев под шквалом дождевых потоков, я видел, как стая птиц испуганно металась в грозовом пространстве, ища себе прибежище…
И сам я летел в том грозовом пространстве. Я вылетел в окно через форточку, вознесся над крышами, над улицами и парком. Летел вслепую и наугад средь молний и облаков, – ведь где-то на земле была тюрьма, где слышала грозу и она, женщина, отказавшаяся быть инкубой… «Руна, Руна! – кричал я. – Это я! Я ищу тебя!» О чем она думала в тот грозовой час, когда я кричал ей с небес?..
На другой день мне стоило немалых усилий держать себя в руках, делать вид, что я работаю, чтобы все службы нашей клиники, как всегда, четко функционировали. И все шло обычным порядком. И никто из коллег, никто из персонала не заметил, что я уже не тот…
Я ждал своего часа. Время шло мучительно медленно.
Я был у всех на виду, как всегда, исполнял свои обязанности. Но это был уже не я…
Время тянулось мучительно долго…
Назначенный час приближался. Я ждал Руну с минуты на минуту… Вот, вот… Но ее все не привозили.
Прошло еще четверть часа. Но – нет. Я дал задание позвонить и выяснить, когда выехала машина… Секретарь дозвонилась, ей сказали, что машина выехала, как положено, вовремя.
Я начинал беспокоиться. Что могло случиться? А вдруг авария по дороге?
Стрелки часов приближаются к трем. Когда же? Я звоню сам. Мне отвечают, что с машиной что-то случилось. В это время вбегает секретарша. На ней нет лица.
– Что случилось? – кричу я.
– Пациентка погибла!
– Как погибла? Какая пациентка?
– Та, что мы ждем. Только что позвонили с дороги.
– Авария?..
– Нет, не авария. Она бежала…
– Бежала?.. И что?..
– Ее убили.
– Не понимаю!..
– Сказали, что сейчас подъедут и расскажут…
Да, соответственно указанию, данному мною накануне, заключенную Лопатину Р. Ф. за № А-6–87 повезли на машине, с тем чтобы доставить ее в клинику в назначенное время.
В пути, уже за городом, на том участке дороги, где она проходит через лес близ берега Москвы-реки, зечка стала жаловаться, что ее сильно тошнит, что она не может ехать дальше, стала просить и настаивать, чтобы машину остановили и дали ей возможность выйти, у нее начинается рвота…
Пришлось остановиться. Зечка вышла, сделала несколько шагов от дороги и вдруг бросилась бежать, скрываясь в зарослях леса. Сопровождающая охранница кинулась ее догонять. Она приказывала ей остановиться. Но та продолжала бежать. Охранница кричала вслед, что будет стрелять. Для предупреждения выстрелила два раза в воздух. И все же пыталась догнать, чтобы схватить живьем. И тут впереди возник берег изгибающейся Москвы-реки, и зечка с ходу кинулась с берега в воду. Охраннице ничего не оставалось, как стрелять. Зечка погибла. Тело ее удалось вытащить из воды…
Тысячу раз впоследствии спрашивал я себя – зачем она так поступила? Зачем? Почему? Что это? Результат безысходности? Страха? Отвращения? Ненависти? Или это было формой протеста?
Никто не ответит… Ушла, как пришла… Она оказалась первой жертвой наших экспериментов.
До позднего вечера я не выходил из кабинета. Сидел, закрывшись. И никто не мог представить себе, что творилось со мной. О, если бы она не помешала таким страшным образом тому, на что я был готов! Какое горе, что она погибла, какое горе, что она ушла, так и не узнав, что я хотел сказать ей о том, что правда на ее стороне, что достижения науки преходящи, на какие бы головокружительные высоты она ни поднималась, прогресс науки нескончаем, но он ничто в сравнении с совестью. И ничто не сравнимо с Духом, заключающим в себе смысл и развитие Вечности…
Я рыдал, сидя у себя в кабинете. Рыдал по женщине, которую видел только однажды… Я понимал, что без нее я несчастен на всю оставшуюся жизнь…
Вечером выехал на шоссе, но, приблизившись к тому месту, где все это произошло, к изгибу Москвы-реки за лесом, остановился и повернул назад. Это было место ее гибели, через эту рощу она бежала и кинулась в реку… Уехал обходным путем…
И если есть тому мера, дома почувствовал, познал сполна всю меру безысходности. Это ли не было наказанием моим?! Я кричал, я рыдал во весь голос в ночном доме… Ее нет. И она никогда не узнает, что я хотел сказать ей, в чем хотел исповедаться. Она до последнего момента думала обо мне как о выродке, использовавшем свои научные открытия для выведения иксродов… Не помогло и виски, хотя я пил и пил прямо из горлышка. Хотелось услышать музыку, которая, казалось, помогла бы, но не было такой музыки…
Эту музыку, возможно, всегда дремавшую во мне, я услышал случайно, годы спустя. Плыл на пароходе по Японскому морю. Вечером дело было. Темные контуры островов, застывших под звездным небом, выступали из моря в разных местах загадочными телами, сгустком Времени и Материи. Тишина стояла, прохлада, чуть слышные, невидимые всплески волн… Нас было несколько человек, советских ученых, прибывших на конференцию в Нагою. Мои коллеги и переводчики остались в баре. А я ходил по палубе, все не мог наглядеться на острова, таинственные и безлюдные. Береговые огни были очень далеки, едва заметны. К ним мы держали курс. На пароходе беспрерывно гремела рок-музыка, приглашающая дергаться и прыгать. А тут вдруг рок смолк. И послышалось задушевное пение. Это была японская энка – лирика, тоска по любимой, заклинание и непонимание, ожидание и прощание… И я подумал, что Она где-то рядом, возможно, вон там, на том островке, и что она слышит это пение и знает, что я думаю о ней…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.