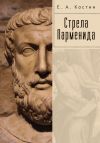Текст книги "Странствие идей"

Автор книги: Даниэль Орлов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Факты биографии и многие оценки деятельности и творчества Морозова восходят к брошюре, выпущенной в 1944 г. АН СССР к 90-летию ученого и подготовленной его второй женой К. А. Морозовой. Для краткости приведу ее характеристику исторических работ Морозова:
«Подвергнутый разнообразной проверке исторический материал дал Морозову основание говорить о непрерывности человеческой культуры и о том, что полная достоверность исторических событий начинается, по его мнению, только с 402 года нашей эры, когда произошло солнечное затмение, описанное в двух хрониках – Годация и Галльской, а все, что было до этого времени, уже не история, а археология, но взамен этого средневековый период сильно обогащается множеством материалов. Все, что мы знаем о древнем мире, надо, по его мнению, отнести к “волшебным сказкам”, созданным авторами средних веков в так называемую эпоху Возрождения, которую, он считает, было бы правильнее называть эпохой Нарождения науки, литературы, искусств, – человечество никогда не погружалось в тысячелетний умственный сон Средневековья. Человечество, как утверждает Морозов, шло неизменно по пути прогресса; первой самой активной культурой явилась культура Средиземноморского бассейна, и давность ее, как и культур трех других бассейнов (Антильского, Желтоморского и Индо-Малайского), намного меньше, чем это думают теперь. Укоротив и теснее сплотив эпоху исторического культурного развития человечества, Морозов изобразил лестницу культуры, показывая, как непрерывно, ступень за ступенью, по его взглядам, без скачков и провалов, поколение за поколением, человечество поднималось все выше по пути к истинному познанию природы и ее законов и умственному и материальному улучшению своей жизни».
В предисловии к седьмому тому своего сочинения Морозов следующим образом формулировал задачу исследования:
«Основная задача этой моей большой работы была: согласовать исторические науки с естествознанием и обнаружить общие законы психического развития человечества на основе эволюции его материальной культуры, в основе которой, в свою очередь, лежит постепенное усовершенствование орудий умственной и физической деятельности людей».
Высчитывая положения планет и созвездий, Морозов дает датировку описываемых событий. Это позволяет ему отождествить апостола Иоанна со св. Иоанном Златоустом, Иисуса Христа со св. Василием Великим, тексты пророков отнести к V–X вв. н. э., отказать в существовании еврейскому народу, римлянам и т. д. Сокращение хронологии всемирной истории приводит Морозова к заключению, что история начинается только с I в. н. э. Его интерпретация русской истории не менее оригинальна. Как в свое время М. Т. Каченовский отрицал известную из летописей древнюю русскую историю, относя ее к «баснословному веку», так и Морозов, гипертрофируя историческую критику, переписывает русскую историю. Оппоненты неоднократно уличали Морозова в преднамеренно неточных переводах, фальшивых ссылках, сомнительных филологических сопоставлениях, произвольных аналогиях между религиозными образами и астрономическими явлениями, игнорировании противоречащих его точке зрения источников, логической непоследовательности в рассуждениях, ошибках в вычислениях… Но все это не поколебало убеждения Морозова в своей правоте. «Если б против этой даты, – отвечал он на критику своего толкования Апокалипсиса, – были целые горы древних манускриптов, то и тогда бы их всех пришлось считать подложными».
Морозовская экзегеза Апокалипсиса, обнародованная в 1907 г., оказалась на редкость востребованной. Книга неоднократно переиздавалась и была переведена на несколько иностранных языков. Такая популярность, вероятно, объяснима теми апокалиптическими увлечениями и предчувствиями, которыми была наполнена русская культура рубежа веков, особенно накануне Первой мировой войны. Апокалиптика в русской культуре этой эпохи представлена сочинениями еп. Феофана Затворника, К. Н. Леонтьева, В. С. Соловьева, Д. С. Мережковского, В. В. Розанова, А. Блока, А. М. Бухарева. Апокалиптическое истолкование цареубийства 1 марта 1881 г. дал Феофан Затворник, напомнивший, в частности, что, согласно Иоанну Златоусту, православный царь служит преградой на пути земного торжества Антихриста. Не могу судить, насколько хорошо Морозов был знаком с этой апокалиптической литературой. Отмечу лишь одну параллель. В том же 1907 г., когда вышло «Откровение в грозе и буре», Л. А. Тихомиров опубликовал свое «Апокалиптическое учение о судьбах и конце мира», а в 1920 г., когда Морозов взялся за подготовку «Христа», написал работу под заглавием «В последние дни (Эсхатологическая фантазия)». Случайно ли такое совпадение? Л. А. Тихомиров был вместе с Морозовым членом исполкома «Народной воли» и оспаривал у него первенство как теоретик террористической борьбы. На этой почве между ними возникла конкуренция, дополненная и чувством личной антипатии. Дальнейшая судьба Л. А. Тихомирова и его переход в консервативный лагерь известны. Соперничество Тихомирова и Морозова возобновилось четверть века спустя на экзегетической почве. Укажу еще одну экзегетическую перспективу. Для первомартовца Морозова принципиальным оказывается вопрос о начале нового года в Древней Руси, чему он посвящает первую сотню страниц своего «Нового взгляда на историю русского государства». Он приводит вычисления и доказательства, что новый год начинался именно 1 марта, а не в сентябре. Революционное прошлое невольно врывалось в работу Морозова-историка. Задумав пересмотр древней истории вскоре после убийства Александра II, он приступил к полномасштабному осуществлению своего замысла только после второго цареубийства (Николая II). Как известно, цареубийство в русской истории очень часто вызывало такое историческое явление, как самозванство (царевич Дмитрий, Петр III и др.). В своих исследованиях Морозов, по существу, реализует историографическое самозванство, выдавая Иоанна Златоуста за апостола Иоанна, Василия Великого за Иисуса Христа, папу Иннокентия III за Чингисхана и т. п. Научное обоснование для такого пересмотра дает астрономия.
Астрономия, на его взгляд, позволяет выявить в русских летописях несоответствия и ошибки. Морозов не дает никаких новых источников, а строит свою концепцию на уже известных, точнее, на тех ошибках, которые он обнаруживает. Здесь Морозов сближается с П. Я. Чаадаевым, так же полагая, что фактов уже достаточно, надо лишь предложить их новую интерпретацию. Как и Чаадаева, Морозова отличает радикальное западничество; согласно его точке зрения, распространение культуры однозначно шло из Европы на азиатский Восток. Даже арабская и китайская историография и литература были созданы европейцами, тоже относится и к русской летописной традиции. Ошибки в русских летописях, согласно Морозову, появились неслучайно. Они вскрывают идеологическую сущность истории, указывают на тесную связь истории и политики, вернее, политической ситуации того времени, когда жили компиляторы летописей. По словам Морозова, «составители древних хроник были… носителями идеологии своего сословия, были носителями своей собственной идеологии… Историческая наука до XIX века проводила идеологию лишь правящей части населения…». «В результате таких тенденций, – заключал он, – и вышло то вавилонское столпотворение, которое мы называем древней историей, и которое необходимо, наконец, совершенно разрушить для того, чтоб на его месте можно было воздвигнуть новую, уже действительно научную историю человечества, независящую от классовых интересов. А для этого необходимо связать ее с естествознанием, что я и пытался везде тут сделать для древнего мира». В своей книге Морозов дает не только новую хронологию русской истории, но и показывает, в чьих интересах она писалась (католики, Иван III и т. д.). Согласно Морозову, не было татаро-монгол, а было «татрское иго»; вместо Орды Русь платила дань Ордену; русские князья ездили не в Сарай на Волге, а в Сараево на Балканах; Чингисханом был ни кто иной, как римский папа Иннокентий III, а Хан Батый означает Батяй, т. е. все тот же римский папа, и т. д. От захвата Константинополя крестоносцами в 1204 г. до женитьбы Ивана III на Софье Палеолог Русь была униатской. Доказательством этого служит подтверждаемое астрономическими явлениями в русских летописях начало нового года на Руси в марте, как это было принято в католических странах. Начало же нового года в сентябре, каку византийцев, на Руси принято лишь с XV в. Дальнейшие доводы уже чисто лингвистические, основанные на толковании имен и названий, встречающихся в летописях, как слов из европейских языков. Для восточно-европейских и азиатских топонимов подыскиваются созвучные аналоги из западноевропейской географии.
Психологически деятельность Морозова понятна: маргинал-террорист, отвергнутый миром, в отместку пытается отменить сам этот мир. Слова Ю. К. Олеши, вынесенные в эпиграф, были сказаны о Морозове. Нигилизм переносится на историю. Отрицанию подвергается также и философия. Опираясь на стилеметрию, дополненную им «лингвистическими спектрами», Морозов обнаруживает разночтения в произведениях Платона и Аристотеля, что позволяет ему считать этих древнегреческих философов не существовавшими. Сочинения Платона, заключает он, были сфальсифицированы в XV в. Сама по себе такая интерпретация и философии, и русской истории оказывается очередной ее фальсификацией – в интересах радикализации общественного сознания. Однако остается вопрос: можно ли построить историю на выявленных ошибках, не привлекая дополнительные материалы? Радикализм Морозова состоит в том, что он убежден, что такой новый взгляд на историю возможен. В реализации этого подхода он видит способ превратить историографию в точное знание, сблизить историю с астрономией и математикой. Стоит напомнить, что попытку математизации истории на рубеже XIX–XX в. предпринимали и другие ученые, например, А. С. Лаппо-Данилевский. Путем обоснования истории как науки в профессиональной историографии стала методология истории, рефлексирующая над основаниями исторического знания. Морозов избрал другой путь, ему явно недостает подобного рода рефлексии. История истории для него – это доступные только посвященным конспиративные шифровки астрологических гороскопов в апокалиптических образах, а также католические заговоры по подделке и фальсификации национальных историографий (русской, арабской, китайской). Историография XIX в. знает множество подобного рода разоблачений. Иногда это были сознательные подделки, иногда следствие научной
некомпетентности составителей исторических памятников. «Читая древние исторические сказания (например, Библию, Евангелие, Жития святых и другие богословские книги), – признавал Морозов, – мы видим, что старинные историки были большими фантазерами, и потому произведения их надо подвергать научной критике, как с точки зрения психологической, так и с точки зрения этнографической, лингвистической и вообще естественнонаучной». К такого рода критике и стремился Морозов. Вениамин Каверин, лично знавший Морозова и находившийся под обаянием его неординарной личности, в воспоминаниях приводил суждение историка С. Я. Лурье. «Профессор С. Я. Лурье, – писал он, – известный эллинист, автор классических исследований Греции (женившись на Л. Н. Тыняновой, я снимал у него комнату), объяснял эту упорную склонность к опровержению исторических документов тем, что годы молодости Морозова совпали с множеством разоблачений якобы подлинных произведений древности, хранившихся, главным образом, в католических монастырях. Разоблачения были сенсационными, и, по мнению С. Я. Лурье, Морозов был присужден к бессрочному пребыванию в крепости как раз в то время, когда историческая наука переживала этот болезненный кризис».
Однако Морозов не ограничивается опровержением отдельных источников, он переносит историческую критику на сами факты, т. е. подвергает радикальному сомнению саму реальность истории. Его теория истории сводится к астрономической датировке исторических фактов, к идее временной последовательности в смене жанров исторической литературы, применению статистических методов для определения авторского инварианта древних текстов. Ошибки в русских летописях для Морозова – это не случайные погрешности, а намеренное искажение фактов. История, таким образом, лишенная фактов, де-онтологизируется, утрачивает свою реальную основу. На место онтологии истории заступает идеология истории. Иметь свою историю означает распоряжаться прошлым, подчинять себе традицию. При старом режиме, признавался сам Морозов, он не решался начать пересмотр истории. Такой пересмотр был бы расценен как покушение на власть. Пока после революции окончательно не укрепилась новая власть, оставался зазор, позволяющий приступить к переоценке истории. Но как только власть в полный голос заявила о своем праве на истину, было прекращено печатание книги Морозова. В том же 1932 г. были распущены творческие объединения и начала создаваться единая централизованная система управления наукой, литературой, искусством. Власть взяла под контроль сферу производства смыслов. Любые альтернативные исторические проекты оказались не только не нужны власти, но и опасны для ее права безраздельно распоряжаться истиной. Морозов вновь оказался в маргинальном положении, которое было закреплено возвращением ему родового имения Борок. В Советском союзе Морозов, как говорили его друзья, оставался «последним помещиком».
Импульс разоблачения идеологической сущности истории преобладал у Морозова. Этой цели служил и весь сложный вычислительный аппарат астрономии, вся эрудиция полиглота, все познания естественника. Во внедрении этих методов Морозов видел способ обосновать историю как строгую науку. Новое общество, формировавшееся в 1920-е гг., требовало новой науки, в том числе исторической. «Искоренение прежних потребностей, – раскрывал М. Хайдеггер особенности европейского нигилизма, – всего надежнее произойдет путем воспитания растущей нечувствительности к прежним ценностям, путем изглаживания из памяти прежней истории посредством переписывания ее основных моментов». Но трагедия Морозова как ученого состояла в том, что роль новой научной теории истории уже взял на себя марксизм. Что оставалось Морозову? Прекратить свои исторические изыскания, в противном случае подрыв фактологической базы истории грозил обрушением и всего здания исторического материализма. Мог ли он остановиться, когда, по словам Уварова, «дух сомнения, скептицизма, приведенный в систему, окончательно овладеет всеми отраслями знаний человеческих и сделается последним словом нашего разума?». Вопрос, как говорится, риторический. Дала ли что-нибудь «новая хронология» Морозова исторической науке? Она не привнесла ни новых источников, ни новых фактов. Это была своеобразная «работа над ошибками», по итогам которой предлагалось не дать правильное решение, а изменить сами условия задачи, которые бы соответствовали выявленным ошибкам. Все это лишь вносило новую путаницу и затруднения. Именно так эту тенденцию в свое время диагностировал Уваров: «Страсть века к разрушающему анализу, отвращение ко всем синтезам, религиозным, историческим, или нравственным, совершенное безверие, перенесенное в область более или менее таинственной действительности, представляют затруднения, неизвестные древним и по крайней мере равносильные недостатку верных источников и исторической критики для времен отдаленных».
Анархия и утопия: князь Кропоткин, граф Толстой и Нестор Махно
Со смерти Толстого в России не было более великого человека, да и при жизни Толстого Россия не имела более благородного человека, чем Кропоткин. Никто не пожертвовал для дела свободы больше, чем он.
Георг Брандес
Русские писатели-гуманисты второй половины XIX века несут на душе великий грех человеческой крови, пролитой под их знаменем в XX веке. Все террористы были толстовцы и вегетарианцы, все фанатики – ученики русских гуманистов. Этот грех им не замолить.
Варлам Шаламов
Павел Кузнецов
В душе, в большинстве своем, мы в той или иной степени – анархисты. Что может быть лучше и выше свободы, свободы безграничной, абсолютной, ничем не скованной?! Разумеется, люди боятся свободы как ужаса неизвестного, но самый последний чинуша, кафкианский монстр, в глубине души бессознательно мечтает о ней. Свободу любят все, но можно ли любить государство, его сюрреалистические законы, власть – всегда и везде коррумпированную? Можно ли любить Левиафана? Да, по-своему, можно – но это уже патология. Его можно бояться, уважать, признавать необходимость, тем более в такой анархической стране, как Россия? Но любить его нельзя!
В этом, в частности, драма Розанова. Монархист и государственник по убеждениям, он оказался (почему-то?!) главным анархистом в русской литературе, и его книги – это не только история распада его души, но и Российской империи.
Я впервые познакомился с анархистами в конце 1980-х, когда новые (или забытые) идеологии росли, как лисички после дождя. Меня поразило многообразие анархических фракций – бакунинцы, кропоткинцы, анархо-коммунисты, мистические анархисты… Один из последователей князя Петра Кропоткина, которого я как-то подвез в 1990-е на пыльном большаке в Псковской губернии, был пьян, нес что-то невнятное про всеобщее безвластие, кооперацию, анархо-коммунизм, Карелина и Солоновича и, конечно же, Кропоткина… Теперь они все куда-то исчезли, растворились в небытии. В нашей анархической стране нет больше анархистов.
«Великий князь»
Князь Петр Алексеевич Кропоткин (кстати, из Рюриковичей) был, бесспорно, одним из самых благородных русских революционеров. Другого такого не найти. «Вселенская совестливость» и чувство вины перед бесконечно страдающим народом непосредственным образом отразились на его анархо-коммунистической утопии, которая, по сравнению с жестким и разрушительным анархизмом Михаила Бакунина, выглядела романтической идиллией «земного рая».
Я не буду перечислять все достоинства этого человека, ученого, писателя, мыслителя, но скажу сразу же, что при всем том нет таких заблуждений радикальной интеллигенции позапрошлого столетия, которые бы он не исповедовал. Фанатическая вера в материалистическую науку и прогресс, ненависть к государству как к главному злу – в лице «помещика, судьи, солдата и попа» – все эти откровения «дельной мысли», при столь же утопической идеализации природы и природного начала, присутствуют во всей его необыкновенной литературно-революционной и научной деятельности.
Он не был столь безумен, как Бакунин, – «страсть к разрушению» не стала его подлинной страстью. Анархизм Бакунина – мифотворческий, иррациональный; анархо-коммунизм Кропоткина – «внешне более научный и позитивистский», но, пожалуй, еще более фантастический.
Русскую анархическую вольницу Бакунина, ненавидевшего немцев (трактат «Кнуто-германская империя), олицетворяли Болотников, Разин и Пугачев. Свой «анархо-коммунизм» Кропоткин (впрочем, он немцев также ненавидел – и, как ни странно, в 1914–1918 выступал за войну «до победного конца») пытался сделать более «разумным» и «человечным». Биолог-дилетант, он пишет довольно странное сочинение «Взаимопомощь в мире животных», где пытается доказать, что не только внутри одной семьи, но и одного вида животные могут помогать друг другу, вопреки Дарвину (интересно сравнить эту работу с «Агрессией» Конрада Лоренца), но лишь до определенной степени. На самом деле взаимопомощь животных интересовала князя Кропоткина по иной причине. Если уж низшие существа способны на нечто подобное, то человекам самой природой суждено осуществить выведенный им фундаментальный «закон взаимопомощи», противостоящий как социал-дарвинизму, так и марксистской «классовой борьбе».
Кропоткин мог бы стать блестящим писателем – достаточно вспомнить первые главы «Записок революционера», где он рассказывает о своем детстве и отрочестве в княжеском имении. Он закончил пажеский корпус, был близок ко двору, но придворная карьера его не заинтересовала. И, порвав со своим классом, он избрал иной и, надо сказать, весьма тяжелый путь.
Ученый-естествоиспытатель с мировым именем, в юности в экспедициях исколесивший всю Сибирь, сидевший в Петропавловке (бежал в 1887) и в европейских тюрьмах, – за 40 лет в эмиграции встретивший тысячи людей, он, удивительным образом, так и не увидел в человеке ника – кого зла. Ибо все зло исключительно от власти, собственности и государства – «королей и попов»… Бесконечно восхищался Тургеневым, его Базаровым и тургеневскими барышнями. Боготворил «ангела русского терроризма» Софью Перовскую. Сдержанно симпатизировал Нечаеву, хотя, в конечном счете, не жаловал аморализм…
В жизни князь обходился самым необходимым, был почти аскетом, можно сказать – «анонимным христианином». Достоевского почитывал, ценил «Записки из Мертвого дома» и «сострадание к падшим». Но его «реакционность» симпатий, естественно, не вызывала.
Метафизическое зло, грех, религия, все мистическое, ужас человеческого существования – сомнительные и устаревшие выдумки, как и сама метафизика и христианство. Удивительно счастливый человек!.. Собственно, это не его личное заблуждение, это болезнь его окружения, эпидемия, охватившая едва ли не все XIX столетие!
Верил в русское крестьянство как оно, в свою очередь, – в Николая Угодника, Но, в отличие от достоевских «богоносцев» – смиренных тружеников, видел в крестьянстве главных носителей бунта и анархии, в чем, в конце концов, и оказался прав.
С Львом Толстым они испытывали друг к другу нежную симпатию. Правда, князь не принимал у графа «непротивление злу насилием» и, частично, «религиозное мракобесие», а граф, в свою очередь, – чрезмерную княжескую «революционность». Но в главном сходились, не считая мелочей: прежде всего в отрицании государства. Увы, они так никогда и не встретились.
«Человек по природе своей естественно добр и благостен… Возникновение культуры, как и государства, было падением, отпадением от естественного божественного порядка, началом зла, насилием. Толстому было совершенно чуждо чувство первородного греха, радикального зла человеческой природы, и потому он не нуждался в религии искупления и не понимал ее. Он был лишен чувства зла, потому что лишен был чувства свободы и самобытности человеческой природы, не ощущал личности. Он был погружен в безличную, нечеловеческую природу и в ней искал источников божественной правды… Он морально уготовлял историческое самоубийство русского народа. Он подрезывал крылья русскому народу как народу историческому, морально отравил источники всякого порыва к историческому творчеству» (Н. Бердяев. «Духи русской революции»).
Сказано, возможно, слишком страстно о писателе и пророке, которого при жизни именовали «совестью России», но если учесть, что эти слова написаны в 1918 году, Бердяева можно понять – он прав.
Интеллектуальные учителя Кропоткина, кроме анархистов, – французские материалисты XVIII века, Огюст Конт, Дарвин, отчасти Спенсер и весь позитивизм «вегетарианского» XIX века. В духе времени верил в естествознание и научно-технический прогресс как в манну небесную. Как давно замечено, у русских народников и анархистов это религиозная вера, вывернутая наизнанку, хилиастиче-ская ересь о царстве праведников на земле.
Философский уровень – ниже плинтуса. Даже Владимир Ильич, не говоря уже о Марксе, да и Бакунине, в юности штудировавшем Гегеля, выглядят интеллектуальнее. Поэтому в своих сочинениях («Хлеб и воля», «Современная наука и анархия») рисует фантастическую картину земного рая, напоминающую первых утопистов, например, фаланстеры Фурье.
Это младенческий лепет – буквально на уровне школьных сочинений. В начале всего – революция (разумеется, крестьянская!). Крови не избежать, но надо подготовить народ так, чтобы все произошло «гуманно», без чрезмерной резни и кровопускания. Но даже этот великий гуманист понимал, что без некоторой бойни не обойтись. Затем всю собственность «взять да поделить», вплоть до одежды, продуктов и жилья. Но важно, что дележ будет добровольным и ненасильственным!
Почему? Потому что, как только мелкие собственники увидят преимущества труда в «кооперативах-колхозах» (5–6 часов в день), то тотчас же выскажутся за «обобществление», отдадут последнюю рубашку и вольются в коллективы, где, благодаря «закону взаимопомощи», возникнет неслыханная производительность труда! Дальше восторжествует главный принцип анархо-коммунизма – «каждому по потребностям». То есть – отдал одну рубашку, а получишь две или три! Государство ликвидируется за ненадобностью, и коммунистическое блаженство наступит относительно быстро. Какая-то всеобщая тотальная энтропия, квазирелигия абсолютного равенства! Самый известный философский труд «Этика» несколько выше по своему уровню, но не выходит за рамки элементарного позитивизма и утопического социализма позапрошлого столетия.
Князь был помешан на идее кооперации, в чем, возможно, повлиял на Владимира Ильича во время их бесед в Кремле в 1919 году. Кропоткин даже высказался против ужасов гражданской войны, красного террора и института заложников! Правда, террор не ослаб, а кооперативы-фаланстеры через десятилетие обернулись сталинскими колхозами.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?