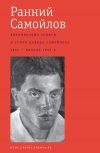Читать книгу "Мемуары. Переписка. Эссе"
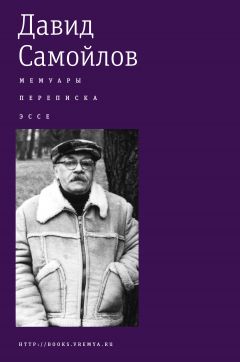
Автор книги: Давид Самойлов
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
11. IV.1987
Дорогой Давид!
Отвечаю согласием на твое предложение отдать поэму и стихи в альманах кооперативного издательства «Весть»[40]40
Идея кооперативного издательства «Весть» возникла в годы перестройки у группы молодых литераторов и получила поддержку нескольких известных и уважаемых писателей. В качестве первого шага было задумано издание нескольких выпусков безгонорарного альманаха «Весть», чтобы заложить основу будущего издательства, основной целью которого декларировался поиск новых литературных имен и публикация произведений, без достаточных оснований отвергнутых существующими издательствами. Издательство организовать не удалось, но была создана экспериментальная самостоятельная редакционная группа «Весть», собравшая материалы на три выпуска альманаха. Однако удалось выпустить лишь один (Весть: сборник: проза, поэзия, драматургия. – М.: Кн. палата, 1989. – 512 с.). Произведения Ю. Долгина в него не вошли.
[Закрыть].
Согласен также на предложение твоего предыдущего письма – послать мои произведения с твоим предисловием в какой-нибудь журнал[41]41
Публикация стихов Долгина с предисловием Д. С. не состоялась.
[Закрыть].
Как лучше сделать – тебе виднее.
Вопрос о гонораре меня не волнует, хотя пифагореец тоже человек и не лишен земных запросов, но они для него не главное.
Для скептика жизнь – комедия; для романтика – трагедия; для религиозника – прелюдия; для пифагорейца – интермедия.
Бессмертие души имеет назначение совершенствования души, реализуемое во многих актах вереницы воплощений…
На твой вечер в ЦДЛ 31 мая собираюсь пойти, если только в состоянии буду передвигаться, но во всех случаях тебе позвоню.
В «Воспоминаниях» о Глазкове находится и моя статья о нем, вернее – редакционный монтаж из моих статей. Но работа над книгой «Воспоминаний» затягивается[42]42
Книга «Воспоминания о Николае Глазкове» вышла в издательстве «Советский писатель» в 1989 г.
[Закрыть]. Кстати, активное участие в подготовке книги принимает упомянутый в «Школе жизни» бывший небывалист А. Терновский[43]43
Терновский Алексей Васильевич (1920–2000) – литературовед, профессор МГПИ. Участник войны. Близкий друг Николая Глазкова, еще до войны напечатавший на машинке «Полное собрание сочинений Глазкова», включавшее около двухсот стихотворений. Составитель сборника воспоминаний о Глазкове.
[Закрыть]. У Коли[44]44
Имеется в виду Глазков.
[Закрыть]:
Был Леша Т. способен на
Богатырский подвиг мира,
Но он женился, и жена
Его зачем-то погубила.
Замечательно воскресение Христа в литературе наших дней! Христос как герой современности впервые зашагал у Блока; затем, произвольно отодвинутый Воландом, возник у Булгакова; в лучшем виде реанимирован Пастернаком и наконец ожил как вечная нравственности проблема у Айтматова и Тендрякова.
Наилучшие пожелания!
Твой Юлиан
№ 5. 03.VI.198703. VI.1987
Дорогой Давид!
Благодарю за прекрасный поэтический концерт, в котором ты с равным совершенством выступал в ролях конферансье и автора!![45]45
Речь о показанном по телевидению 15 марта 1977 г. вечере Д. С. в концертной студии «Останкино».
[Закрыть]
Знал, что ты классик, но не академист-олимпиец, вроде Брюсова, не холодный виртуоз-эрудит от античных календ, вроде Вячеслава Иванова или Мандельштама, но современный поэт в русле живой пушкинской традиции стиха. Сие – не комплимент, а констатация факта, впрочем, замеченного не только мною.
Несколько лет тому назад в диалоге «Литературки», отвечая на вопрос, почему в Москве до войны не сложилась литературная школа, подобная ленинградской, ты вспомнил о небывалистах[46]46
Парадоксы традиций: Диалог поэта и литературоведа / Д. Самойлов, В. Кожинов // Литературная газета. 1976. 2 июня. С. 6.
[Закрыть], но почему-то скромно умолчал о не менее характерной школе, существовавшей в Литинституте, хотя и в безымянном виде. Эта школа (или литературное направление) включала имена (назову в порядке алфавита; если в одном либо в двух случаях ошибусь – поправь меня): Агранович, Кауфман, Коган, Кронгауз[47]47
Кронгауз Анисим Максимович (1920–1988) – поэт. Перед войной учился в Литературном институте.
[Закрыть], Кульчицкий, Львовский, Наровчатов, Немировский[48]48
Немировский Александр Иосифович (1919–2007) – поэт, переводчик, историк Древнего Рима и этрусской культуры. Участник войны. С 1938 г. учился в Литературном институте.
[Закрыть], Слуцкий. (Воркунова – мистификация[49]49
Воркунова Нина Иосифовна (1920–1974) – искусствовед, ифлийка, первая жена Наровчатова. О мистификации Б. Слуцкого и С. Наровчатова, писавших стихи под ее именем, Д. С. написал в ПамЗ в главе «Попытка воспоминаний», посвященной С. Наровчатову (С. 178). См. также воспоминания Наровчатова (Наровчатов С. Избранные произведения: в 2 т. – М.: Худож. лит., 1988. Т. 2. С. 567–573).
[Закрыть]).
К этим именам (кого-то я, вероятно, упустил) присоединился Глазков после изгнания из МГПИ.
Поэты были разные (как всегда и во всех внешне объединенных группах), но интересно, что именно в литинститутской предвоенной литгруппе, несмотря на декларируемую платформу «Маяковский – Сельвинский», возникла тяга к пушкинской традиции в стихах Павла Когана, твоих и, может быть, Львовского и Немировского…
Возврат к Пушкину – это возврат не назад, а вперед. С чем тебя и поздравляю!
Поэтому и баллады твои – прелестные и остроумные – не архаика, а классическое новаторство.
Небывалисты и литинститутцы (назовем так вашу группу; о ней, кстати, я немного пишу в воспоминаниях о Глазкове) представляли, что ли, «новую волну» в поэзии конца 30-х – начала 40-х гг.
Две эти «школы» объединяло одно: отталкивание от безликой казенщины в поэзии, прочно утвердившейся в 30-е гг.
Все названные поэты имели свои физиономии и отстаивали свои индивидуальности в годы, когда выделяться было смерти подобно…
Наиболее «физиономичным» среди нас был Глазков. Печальный парадокс в том, что вслед за Маяковским, наступившим на горло собственной песне, наиболее физиономичный поэт оказался от своей физиономии, решив, что так ему будет легче жить, и стал публиковать трафареты и пустяки – публикации ради публикации…
Наши группы поредели после войны: уцелевшие частью не оправдали творческих надежд. Выросли и получили признание – Слуцкий и ты.
Теперь – почти официально – спрашиваю тебя как представителя лиц по творческому наследию Бориса: написать ли мне воспоминания о Борисе Слуцком?
На твоем вечере подумал: а ведь ты – последний из могикан литинститутской школы предвоенных лет!
Могиканин…
Мог ли Каин?
Мог! И – Каин?!
Мог. Не Каин.
Спектр смыслов, относящийся ко многим нам. К тебе – четвертый смысл.
Будь здоров и вдохновен!
Твой Юлиан
P. S. Шлю стихотворение, которое любил Слуцкий.
Пушкин
Пушкин, русский эфиоп!
Мы с тобой отчасти схожи,
Хоть совсем различны рожи
И пути дорог и троп;
Рос известным ты повесой,
Рано занялся поэзией.
Пред тобой я остолоп,
Пушкин: русский эфиоп.
Был горячего ты нрава,
И тебя пригрела слава,
А меня – по шее хлоп…
Пушкин – русский эфиоп!
Глаз стихом колол не раз ты;
Не был я такой зубастый,
Не вгонял врагов в озноб,
Пушкин, русский эфиоп!
Но и я писал по чести,
Без притворства и без лести,
Не расшиб в поклонах лоб,
Пушкин – русский эфиоп!
Не в погоне за моментом
И не ради монумента
Я стихов тома наскреб,
Пушкин, русский эфиоп!
Чтоб, как ты, не лицемеря,
Мог сказать я в полной мере
Перед тем, как лягу в гроб:
Я – поэт, а не холоп!
Пушкин, русский эфиоп!
1951 г.
Юлиан Долгин
№ 6. 17–18/VI.198717–18/VI.1987
Дорогой Давид!
Минуло ща 40 лет нашей – преимущественно заочной – дружбе.
Очень рад, что наконец-то обладаю твоими перлами, хотя и не всеми из мне известных.
Огромное спасибо за огонечек души[50]50
Д. С. прислал Долгину сборник «Стихотворения», вышедший в издательстве «Советский писатель» в 1985 г. Далее упоминается также стихотворение «Грачи прилетели», опубликованное в журн. «Нева», 1986, № 12.
[Закрыть]: мал золотник, да дорог!
Все у тебя хорошо, отлично, очаровательно, тонко и мило, без малейшей серятины. Но особенно по мне: «Сороковые», «Тогда я был наивен…», «Дай выстрадать стихотворение!..», «Цыгане», «Кто устоял в сей жизни трудной», «В этот час гений садится писать стихи», «Не исповедь, не проповедь…».
Щемяще-доброе и добротное «Грачи прилетели». Это – снайперски точное попадание в субстанцию женской надежды на счастье, столь непритязательной в наше антисентиментальное время…
Стихотворение было известно мне и глубоко тронуло меня, когда прочел его впервые.
С твоего разрешения позволю, без всякого менторства, предложить (разумеется, не претендуя на исправление текста) вариант в стихотворении «Пред тобой стоит туман, где о море, земле, тумане и звезде –
Покуда знаешь о себе,
Что ты проводишь дни
Так, как живое существо,
Живое, как они.
А большего не надо знать,
Все прочее – обман (и т. д.)
Все в мире живое, кроме бюрократа.
«Стансы» безупречны, за исключением маленького бога.
Когда «бог» фигурирует, между прочим (в обиходной фразеологии), его и надлежит писать маленьким. Но от «бога» нам ничего не дано. Если нам что-то дано, то от Бога.
Твои «Стансы» достаточно высоки для Бога с большой буквы. А ты как бы умаляешь их…
Приветствую, что в стихах не болеешь метаформанией, которой заразил нашу поэзию чемпион по сей части А. В.[51]51
Имеется в виду Андрей Вознесенский.
[Закрыть]
Вычур непростителен для зрелости. Впрочем, ты всегда был естественен и непринужден.
О Слуцком, конечно, тебе надо дописать, на полной откровенности, уместной теперь. Ты его знал продолжительнее и основательнее, чем я. И закономерно взаимовлияние. У меня есть несколько стихотворений Колеподобных[52]52
Коля – Николай Глазков.
[Закрыть], у тебя Борисоподобно «Примеряться к вечным временам…».
Это не заимствование, а, так сказать, поэтическая сопряженность. Мысль оригинальная, твоя, но чую: он бы мог так сотворить. В его духе!
О Слуцком написать хочу, но сия задача посложнее, чем написать о Глазкове. Борис, при всей напряженности его внутренней жизни, был как бы без субъективно-нормативных примет. На первый взгляд – не за что ухватиться!..
Ну – умен, ну – остроумен, ну – энергичен, ну – принципиален,… А дальше что? Дальше то, что поважнее перечисленного. А как выразить это? Голыми руками не возьмешь. Почему все же?
Потому что – без слабин!
Между тем – личные слабины – принадлежность всех поэтов. И до нас, и меж нас, только у него их не было. Держал себя в дисциплине беспощадной. Может быть, отчасти потому нервная система в конце концов не выдержала… Хотя – всего лишь мое предположение. Наверное, были и более веские причины. Тебе видней.
С середины 50-х он отдалился от меня, а со второй половины 60-х исчез с моего горизонта. Но в 40-е после его возвращения с фронта – мы встречались часто. (Познакомились до войны.)
Ты вспомнил о моем увлечении балетом. А знаешь ли ты, что в конце 40-х Борисом и тобой был сделан мне ко дню рождения (3-го апреля) богатейший подарок – альбом «Солнце России» о звездах Мариинского балета?
Собственно, альбом вручил мне Слуцкий, но я-то раньше видел это роскошное издание у тебя, он был твой, следовательно, подарок я получил от вас двоих.
Альбом в сохранности, среди наиболее почитаемых альбомов.
Записки о балетофильском периоде гвардии поэта написал давно. Они маленькая толика гигантского архива Долгина, включающего несколько десятков поэм, несчетное число стихотворений, десяток пьес в стихах и прозе, сотню прозаических миниатюр (юморесок и сатиресок), множество математических статей и заметок, афоризмов и каламбуров.
Есть еще у меня фундаментальное исследование «Космические цивилизации», осколок из которого опубликован в сб. «На суше и на море» (1967–1968) под названием «Разум Вселенной» (кстати, я – член секции «Внеземные цивилизации» при астрономическом ин-те им. Штернберга. Дважды выступал с сообщением на эту тему: один раз там, другой – в Политехническом музее. Правда, это было давно).
За будущее моего литнаследства не опасаюсь не потому, что «рукописи не горят». Горят! Но есть трансцендентальная Книга Жизни, в которой ничего не сгорает, кроме бездарного.
Ни единое наше слово, ни единая наша мысль, ни единый наш поступок!!!
Ты усмехаешься: утешительная философия?
Легенда о Фениксе, возникающем из пепла, не утешение, а Истина.
Обнимаю.
Твой гвардии поэт
Я – поэт,
А это значит много.
Это значит
Что-то вроде Бога.
Я могу создать
Что мне угодно.
И бессилен я
Ему подобно.
1947 г.
№ 7. 24.VII.198924. VII.1989
Дорогой Давид!
‹…›
Так как ты вспомнил о послевоенных стихах и довоенных негритянского цикла, удовлетворяю по хронологическому порядку твой запрос и шлю «Чемпиона», вошедшего в первый небывалистский сборник 1939 года, тем более что в этом году небывализму 50-летие исполняется. Полувековой юбилей!
Также из того же сборника – «Столик» (1938 г.), стихотворение об атмосфере 1937–1938 гг.
Был бы рад и твоим стихам!
Будь здоров и вдохновен!
Обнимаю. Твой Юлиан
Чемпион
Негр Джим
(Рост – Два Один, вес Девяносто)
Был Непобедим
Ввиду Роста,
Боев Сот Пять,
Нокаут – двести.
В зубы дать
Мог с честью.
Но пал Он,
Узнав, что Мэри
Шлет Поклон
Парню выше Двери.
Рост – Два Два,
Вес – сто десять…
Это едва ль
Джим мог весить.
Как тут быть?
Но без волнений
Джиму решить
Помогла Дженни.
Рост Два при
Вес – сто двадцать.
Мэри штук три
Могло в ней помещаться.
Боксер Негр Джим
Вес увеличил до Ста.
Он Непобедим
Ввиду Роста.
1939 г.
Николай Глазков. Акростихи, посвященные Галочке «Г. И. Медведевой»
29 пьянваря 1979
Дорогой Дезя!
Спасибо за трогательное письмо. Посылаю Галочке акростихи, возможно, у нее таких нет.
С дружеским приветом, Н. Глазков
1
Голубеют синие снега –
Арктика вторгается в столицу.
Лыжник, не валяя дурака,
Около трамплина суетится.
Что-то говорит на ветке птица:
Каркает, что может он разбиться,
Ежели отклонится слегка!
2
Горбуша на икрометанье
Активно движется вперед,
Летит стремительно на камни,
Отважно гибнет, но идет.
Что рыба ищет там, где глубже,
Кто говорил, не знал горбуши:
Ее поход – отход от вод!
3
Грохочет дикая пурга,
Анадырь дремлет, спит река,
Летят снега под облака,
Осточертела стужа.
Чукотка ждет тех дней, когда
Коснется тундры красота,
Ей успокоит душу!
4
Где деревья не все уничтожены, там
Академгородок улыбается нам.
Лес, достойный похвал, зеленеет вокруг,
От него много пользы и нету вреда,
Человеку он верный и искренний друг:
Кроны сосен легко разгоняют недуг,
Есть березы когда, не бытует беда!
5
Геленджик – живописный город,
А вдали невысокие горы.
Летом ласковы бухты просторы –
Освежающей радости вдосталь.
Черноморье целительно очень:
Краснодарно в Анапе, как в Сочи,
Если только не дуют норд-осты!
6
Гагры – городок у самых гор,
А морской сияющий простор
Лечит превосходно с давних пор
Острые бронхиты и подагры.
Черноморской радуюсь волне,
Климат гагринский приятен мне,
Ехать осенью отрадно в Гагры!
7
Гипс-минерал в пустыне вырос,
А я установить не мог:
Лепнина предо мной явилась,
Окаменелость проявилась,
Чудесный ли цветок.
Красивы камни, как растенья.
Есть в них и жизни проявленья!
8
Говорю: Зима ужасна!
А родился сам зимой.
Лютый холод несуразно
Опоясал праздник мой.
Чествуют меня, однако,
Крепкую приносят влагу,
Есть в которой летний зной!
9
Гиацинт – красно-бурый циркон,
А нагретый меняет свой свет:
Лучезарным становится он
Оттого, что бывает нагрет.
Чтобы выглядел, как бриллиант,
Камень этот бросают в огонь –
Его хвалят за то и бранят.
10
Голубеют небеса
Аспидного цвета.
Любят люди и леса
Очень бабье лето.
Что таит в себе сыр-бор?
Красноватый мухомор,
Если белых нету!
11
Горный – это не стекло хрусталь,
А самостоятельный кристалл.
Люстры из него – нет лучше люстр,
Оттого что эти люстры – люкс!
Чистотой сверкающий бокал
Красотой своей всех поражал,
Его Юлий Цезарь уважал!
12
Гроссуляр – классический гранат,
А не красноват – зеленоват,
Лучший вид походит на крыжовник.
Отыскать не просто гроссуляр –
Четкий и красивый экземпляр.
Камешки – природы редкий дар,
Если разобраться хорошо в них!
Константин Симис. Воспоминания о Дезике
[53]53
Симис Константин Михайлович (1920–2006) – юрист, специалист по международному и авторскому праву. Многократно бескорыстно консультировал диссидентов по юридическим вопросам. Автор книги «СССР – страна коррупции».
[Закрыть],[54]54
Опубликовано в журнале «Знамя», 2010, № 2.
[Закрыть]
В 1939 году в Московском юридическом институте (я учился там на третьем курсе) Борис Слуцкий организовал вечер поэтов (он тогда тоже был студентом этого института). Это была встреча двух поколений молодой советской поэзии. Того, которое в конце тридцатых годов уже занимало твердые позиции в официальной советской литературе (Матусовский, Долматовский, Алигер), и того, которому предстояло войти в литературу в конце сороковых – начале пятидесятых годов (Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Павел Коган и некоторые другие).
В перерыве ко мне подошел Борис Слуцкий с одним из участников вечера и представил: «Знакомься. Это Дезик Кауфман. А это, – сказал Борис, указывая на меня, – наш местный Белинский». (Я тогда подвизался в роли критика в нашем институтском литкружке, которым руководил Осип Максимович Брик.)
У молодого человека, с которым меня познакомил Слуцкий, была удивительно располагающая внешность. Все вызывало к нему симпатию с первого взгляда. Особенно улыбка – мягкая, доброжелательная и вместе с тем ироническая. (Ирония относилась к присвоенному мне Слуцким званию Белинского.)
Да и стихи, которые читал мой новый знакомый («Плотники», «Пастух в Чувашии», «Мамонт»), понравились мне более всего другого, что читано было в тот вечер.
⁂
Тут я себе позволю сделать небольшое отступление. Я вспоминаю о человеке, который с первого же дня знакомства и до сегодняшнего дня, когда его уже нет в живых, был и остается для меня Дезиком и только Дезиком. Называть его в этих воспоминаниях Давидом Самойловым для меня было бы просто противоестественно.
Кстати, сам он в зрелом возрасте своего детского имени не стеснялся. А вот в школьные годы – стеснялся. Надеялся от него избавиться, перейдя в институт. Но вместе с Дезиком в ИФЛИ пришли трое его одноклассников, а вместе с ними и его детское имя. Когда Дезик во время войны ушел (добровольцем) в армию, он был уверен, что с детским именем покончено. Но в запасном полку, когда вышел на плац, первое, что он услышал, было: «Дезька, давай к нам».
⁂
Наше знакомство на вечере поэтов (если можно назвать знакомством обмен рукопожатиями и несколькими репликами) Дезик, в отличие от меня, не запомнил. И по-настоящему мы познакомились уже в сорок шестом году, когда он вернулся из армии. Встреча наша произошла неслучайно. Моя жена Дина (для друзей близких – Дуся) Каминская[55]55
Каминская Дина Исааковна (1919–2006) – адвокат, защищала многих правозащитников, в том числе В. Буковского, А. Марченко, Л. Богораз и П. Литвинова, М. Джемилева, И. Габая. С 1971 г. была лишена возможности участвовать в политических процессах, в 1977 г. вместе с мужем К. Симисом под угрозой ареста была вынуждена эмигрировать. В эмиграции написала книгу «Записки адвоката» (Benson Vt.): Khronika Press, 1984. – 345 с.; в России – М.: Новое изд-во, 2009. – 412 [1] с.: портр. – (Свободный человек). Каминская и Симис были друзьями Д. С. Каминской он посвятил стихотворение «Кто устоял в сей жизни трудной…» (31.10.1970).
[Закрыть] была с отроческих лет дружна с Павлом Коганом. Через него в тридцать седьмом году познакомилась с группой ифлийских поэтов и уже тогда подружилась с Дезиком Кауфманом[56]56
Д. С. познакомился с Каминской в 1938 г. после поступления в ИФЛИ.
[Закрыть].
Как было восстановлено их знакомство, не помню. В моей памяти Дезик возникает сразу как ближайший друг нашей семьи. И почти сразу же (во всяком случае, так отложилось в памяти) появляется в нашей дружбе жена Дезика – Ольга (Ляля) Фогельсон.
Сейчас, вспоминая, каким был Дезик в первые послевоенные годы, не нахожу более точного определения, как обаяние и легкость в отношениях со всеми, с кем сталкивала его жизнь. Со всеми, независимо от их положения, независимо от образованности. И могу засвидетельствовать: не было человека, который мог бы устоять перед его обаянием. В застольях был он всегда остроумен, весел. Неизменно ухаживал за своими соседками по столу, независимо от того, были ли они хороши собой или нет, молоды или уже (по нашим тогдашним представлениям) немолоды. И не было в этих ухаживаниях ни грана пошлости. Да и быть не могло. Вот уж что несовместимо было с Дезиком, с самой его природой, так это пошлость.
Настоящие стихи писал он тогда (как, впрочем, и впоследствии) медленно, трудясь. А шутливые импровизации писал охотно, с подлинно артистической легкостью. Мы часто собирались тогда и редко когда в записной книжке моей жены или на бумажной салфетке не появлялся очередной экспромт. Писал Дезик шутливые стихи и безо всякого специального повода и на семейные события (к шестой годовщине нашей с Диной свадьбы, на рождение нашего сына). Весь цикл таких импровизаций (мы называли его «По вечерам над ресторанами») в семидесятых, по-моему, годах был собран далеко неполно и опубликован в самиздате[57]57
Цикл так и остался в самиздате. В собрание шуточных произведений Д. С. «В кругу себя», изданное несколько раз с несовпадающим полностью составом (последнее издание – М.: ПРОЗАиК, 2010), он не вошел.
[Закрыть].
⁂
Так вот, прошедший всю войну в пехоте, раненый, чудом оставшийся в живых, был Дезик в общении легок, был источником радости для каждого, кто с ним общался. А между тем положение, в котором он тогда оказался, никак нельзя было назвать легким. Все в его жизни складывалось плохо. Сложны были семейные отношения. Жить было не на что. Дезик тогда почти ничего не зарабатывал, жена училась в университете. Практически жили на те небольшие деньги, которые давали родители Дезика и отец его жены.
О том, как тяжело ему было в те годы, что он тогда пережил, я, конечно, догадывался. Но сам он рассказал мне об этом лишь много лет спустя. В первую годовщину смерти его отца Самуила Абрамовича он попросил меня поехать с ним в Мамонтовку на дачу, принадлежавшую его тестю, захватив бутылку коньяку, немудрящую закуску. Приехали уже затемно. Дача стояла темная, нетопленая. Электричества не было, печь разжечь не удалось. Сварили кофе неимоверной крепости (в темноте бухнули в кастрюлю двухдневный запас молотого кофе). Зажгли поминальную свечу, помянули Самуила Абрамовича. И проговорили всю ночь напролет. Вот тогда только узнал я от самого Дезика, как тяжко было ему в те годы, о которых я вспоминаю. А когда было ему худо, не слышал я от него ни единой жалобы.
Дезик тогда, конечно же, остро ощущал унизительность сложившегося положения. Однако приемлемого для себя выхода не видел. Уже тогда верил в свое призвание поэта и иной для себя профессии не представлял.
Утром, когда Ляля уходила в университет, садился он за старенькую, кем-то подаренную машинку[58]58
По свидетельству Г. И. Медведевой, машинку эту Д. С. привез из Германии с фронта и переделал латинский шрифт на русский. Она была совсем неплохой, служила ему всю жизнь. Сейчас она хранится в Литературном музее среди прочих личных вещей Д. С., ставших экспонатами.
[Закрыть] и трудился над стихами. Это и была его работа. Когда уставал, когда одолевали заботы, ложился на тахту и легко засыпал. Много лет спустя он так писал об этом: «Когда-то погружался в сон / Я, словно в воду, бед не чая». Проснувшись, опять садился за стол или (чаще) читал.
Быта, семейного быта с приготовленным обедом, с общими трапезами практически не было. И днем перекусывал Дезик чем попало, что находил в буфете.
То, о чем пишу, – это свидетельство очевидца. Был я в те годы доцентом Высшей дипломатической школы, которая помещалась в Большом Боярском переулке, что у Красных Ворот. И трижды в неделю, отчитав лекции, направлялся на Мархлевку. По дороге на Мясницкой, в гастрономе, что как раз напротив дома, в котором жил Дезик, покупал пару шницелей, иногда четвертинку водки. Мы перекусывали. А потом, если было что написано (даже еще незаконченное), Дезик читал. Рассказывал о своих планах, о задуманных стихах.
Однако вдвоем оставались мы не так уж часто. Дезик тогда (как, впрочем, и всю свою жизнь) притягивал к себе людей. Да и дом, в котором он жил, расположен был в центре города. И вот стала «Мархлевка» открытым домом. Без приглашения, без предварительного телефонного звонка приходили друзья, знакомые, а то и вовсе незнакомые. Иногда кто-то приносил бутылку водки. Впрочем, не так уж часто. Вообще пили тогда в нашем кругу немного. Конечно, когда у кого-нибудь собирались, без водки не обходилось. Благодаря Дезику застолья наши неизменно бывали оживленными, веселыми. Но пьяным я тогда Дезика ни разу не видел.
Итак, «Мархлевка» притягивала к себе многих. В том числе и поэтов. Регулярно бывал Николай Глазков. При всей уверенности в собственной гениальности ценил он талант Дезика, его вкус, его широчайшую образованность. Дезика Глазков считал собеседником, равным себе. И охотно читал ему свои стихи – и новые, и старые. Бывало, даже сбрасывал плотно на себя надетую маску юродства (которая, думаю, надета была из чувства самосохранения, этим спасался он от преследований).
Приходили и поэты-сверстники, и даже постарше. Приходили к Дезику, чтобы услышать его мнение об их стихах. В нем, нигде не печатающемся, видели они если не мэтра, то, во всяком случае, поэта, чье мнение для них было важно. Несколько публичных выступлений, несколько персональных вечеров на филфаке принесли ему известность, признание. По гамбургскому счету он котировался высоко.
Все это так. Но вот публикаций не было. В конце сороковых годов такое явление, как самиздат, еще не вошло в жизнь страны. Занимался им только Николай Глазков (который и придумал это слово). Но нам с женой пришла в голову мысль стать издателями (точнее – самиздателями) сборника избранных стихов Дезика. Он отпечатал на листках небольшого формата отобранные им стихи, а мы отдали их переплести в черную кожу. Подарили мы Дезику этот томик в день его пятидесятилетия. Но с одним вырванным листом. Том, на котором напечатаны были стихи о бандеровке, которую ведет расстреливать советский солдат[59]59
Имеется в виду стихотворение «Бандитка» (1944–1946).
[Закрыть]. Были там такие строки (цитирую по памяти):
По Украине кони скачут
Под стягом с именем Бандеры.
По Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.
Довольно москалям и швабам
Кормиться украинским хлебом.
И так далее.
И вот в 1952 году, когда арестован был наш близкий друг Валентин Лифшиц (год спустя он был расстрелян по дикому обвинению в покушении на теракт против Сталина[60]60
О деле ученого-юриста Валентина Лифшица написано в книге Д. Каминской «Записки адвоката» (в издании 1984 г. – С. 38–42, в издании 2009 г. – С. 54–58).
[Закрыть]), появилась вполне реальная угроза моего ареста. Дезик попросил меня уничтожить эти стихи. Я пытался убедить его, что нет в них ничего криминального. Ведь были там строки о том, что «Еще с “Интернационалом” пройдут от Белграда бригады». Но он был непоколебим: «Знаешь, брат, там в таких тонкостях разбираться не станут».
Почему Дезика не публиковали? Имело тут значение и полное неумение его «устраивать свои дела». Не было у него не только такого умения, но желания. Но не в этом главная причина того, что Дезика не печатали. У него не было сознательной установки писать в стол, как не было и установки писать так, чтобы понравиться редакторам журналов. Он просто писал те стихи, которые были ему органичны, которые ему хотелось писать. Конечно же, он стремился публиковаться. Ему нужен был читатель, нужно было положение в литературе. Наконец, он хотел зарабатывать. Но платить за вход компромиссом со своей совестью Дезик не то чтобы не хотел – он просто не был на это способен.
В своих мемуарах «Попытка воспоминаний»[61]61
Имеется в виду книга «Памятные записки». «Попытка воспоминаний» – глава из этой книги, посвященная С. Наровчатову, не имеющая отношения к описываемому сюжету. Пастернаку посвящена глава «Предпоследний гений» (ПамЗ. С. 482–487).
[Закрыть] Дезик рассказал об эпизоде, связанном со стихами о Пастернаке, которые написаны были в сорок шестом году[62]62
Стихотворение «Пастернаку» написано в 1944 г. Опубликовано в издании: Самойлов Д. С. Стихотворения. – Л.: Академический проект, 2006. – 800 с. – (Новая библиотека поэта. Большая серия).
[Закрыть]. Пастернак казался ему в то время «слишком утонченным, слишком отрешенным от войны, от грубой правды, которая еще не остыла в нас». Что Вишневский предложил ему опубликовать эти стихи и что он от этого предложения отказался, Дезик написал. Но умолчал о том, что всемогущий в ту пору Вишневский твердо обещал: опубликуешь стихи о Пастернаке – гарантирую тебе книгу стихов. Об этом разговоре рассказывал мне Дезик на следующий день после того, как он состоялся.
Как пишет он в своих воспоминаниях, можно было «всплыть». Видит бог, как нужна была ему эта книга. Пришло бы официальное признание, известность. Но свидетельствую: перед ним и на долю секунды не возникали сомнения – публиковать или не публиковать. Когда его в моем присутствии Сергей Наровчатов убеждал дать в «Знамя» стихи о Пастернаке, Дезик просто пожал плечами и сказал: «Противно, я бы после этого уважать себя перестал»[63]63
Стихи, ранее отвергнутые журналом, стали востребованы после августовского постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград».
[Закрыть].
⁂
И все же главную причину той драмы, которую Дезик тогда переживал, я вижу не в отсутствии возможностей публиковаться, не в безденежье. Главное, что его мучило, что мешало развернуться в полную мощь его дарования, – это, по моему глубокому убеждению, внутренний душевный разлад. Как это ни покажется на первый взгляд кощунственным, годы войны были для Дезика годами душевной гармонии. Он, конечно же, тяжело переживал трагедию народа, гибель людей. Но вместе с тем было сознание того, что он – солдат-доброволец – выполнил долг перед своей совестью, перед своим народом. И еще одно. Было как бы примирение (или, скорее, иллюзия такового) с государством, с режимом. Государство вело великую, справедливую войну. И это оправдывало все.
Но война отошла в прошлое. Уже не было высшего оправдания всему тому, что творилось в стране, всю омерзительность и жестокость чего Дезик не мог не видеть. И вот тут наступили годы разлада. Наступил момент выбора. Сохранить верность юношеской вере в то, что порожденному Октябрьской революцией режиму предназначена великая миссия – сделать человечество счастливым?
Или признаться самому себе в том, что юношеская вера оказалась ошибкой. Что преступления режима оправдать нельзя ничем.
Сегодня (я пишу это в 1991 году) такой выбор не представляет собой никакой сложности. Сегодня более чем достаточно тех, кто готов иронизировать над теми, для кого выбор между идеалами Октября и их полным отрицанием в сороковых годах был труден. Думаю, тех, кто читал стихи и статьи Дезика, нет необходимости убеждать в том, что он был человеком огромного, светлого ума, человеком, одаренным острейшей исторической интуицией. Но в сорок шестом году, когда далеко еще не все было известно из того, что теперь знает любой читатель «Огонька», когда еще не прошла эйфория от победы над германским фашизмом (особенно у тех, кто, как Дезик, участвовал в этой войне), выбор был далеко не прост.
Что мешало Дезику, с его обостренной совестливостью, с его чуткостью к правде, к справедливости сделать правильный (с моей точки зрения) выбор – признаться себе в том, что советский режим, сталинский режим ничем не может быть оправдан?
К сожалению, на этот вопрос я не могу ответить категорически, не могу ответить ссылкой – сам Дезик говорил мне (или кому-то другому) то-то и то-то. Могу только высказать свои предположения, основанные на наблюдениях, сделанных за многие годы теснейшей дружбы, да еще на его стихах.
Талант Давида Самойлова гармоничен по самой своей природе. И не обретя внутренней, душевной гармонии, он не смог бы стать тем поэтом – Давидом Самойловым, которого, когда он еще был с нами, многие считали живым классиком.
А те годы, о которых я пишу, были годами поисков – поисков возможности примирить непримиримое. Отсюда шли и поиски положительного героя, положительного с точки зрения официальной идеологии и с позиций поэта. Тогда задумал он поэму о Георгии Димитрове. Насколько помню, дальше двух-трех небольших набросков дело не пошло.
О том, как это происходило, как шли поиски оправдания режима, Дезик рассказал сам. Однажды, где-то в начале семидесятых годов, в Опалихе он прочитал нам с женой отрывки из своих неопубликованных мемуаров. Читал главу о том, как он и Борис Слуцкий в конце сороковых – начале пятидесятых годов пытались объяснять все, что происходит в стране, с точки зрения «творческого» (в опубликованном очерке – «откровенного») марксизма. В главе, которую он нам тогда прочитал, рассказано было об этом с иронией и к самому себе, и к Слуцкому.
Мне довелось присутствовать во время многих таких дискуссий, о которых идет речь в воспоминаниях Дезика. Объяснения о разумности всего происходящего с точки зрения творческого марксизма, как правило, давал Слуцкий. Со свойственной ему категоричностью и четкостью доказывал, что с позиций марксизма, исходя из интересов построения коммунистического общества, оправдана и кампания против космополитов, и ограбление деревни, и постановления ЦК о литературе и музыке. Дезик при этом был довольно молчалив, пассивен. Сам он редко приводил какие-либо доводы в поддержку идей, которые развивал Борис. Но и в спор с ним не вступал. Чаще всего ограничивался тем, что соглашался с аргументацией Бориса. У меня тогда складывалось впечатление, что не было у Дезика искренней убежденности в истинности этой аргументации. Скорей (так, во всяком случае, казалось мне) он давал себя убедить, принуждая себя к тому, чтобы поверить в правоту Слуцкого.
Иногда, впрочем, Дезик позволял себе не соглашаться со Слуцким. Причем – в самом главном.
В 48–49-м годах не то чтоб негативная оценка, но даже не очень восторженное одобрение роли Сталина и его личности было неоспоримым свидетельством полного неприятия советского режима и всего, что ему сопутствовало. Так вот, как-то в 49-м году, когда, как писалось в газетах, страна «готовилась отметить семидесятилетие со дня рождения товарища Сталина», сидели мы четверо – Дезик, Борис Слуцкий, моя жена и я – в крохотной комнатушке без окон, в которой жили тогда наш общий друг Петр Горелик и его жена Ирина. Шел обычный треп. И вдруг, без всякой видимой связи с разговором, Слуцкий, свойственным ему, когда он задавал вопросы, которым он придавал значение, тоном следователя, в упор спросил Дезика: «Ты любишь товарища Сталина?»
Дезик несколько опешил. Пожал плечами и только улыбнулся. Была у него такая как будто несколько смущенная, виноватая, но вместе с тем и ироничная улыбка. Так он обычно улыбался в тех случаях, когда ему становилось неудобно за бестактность собеседника, когда хотелось уклониться от прямого ответа на вопрос.
«А я люблю товарища Сталина», – отчеканил Борис. (Тут необходимо подчеркнуть: у Бориса и тени сомнений не было в порядочности всех присутствовавших.)
Но этот эпизод, при всей его выразительности, это все же лишь эпизод. Обычно же Дезик в разговорах оценивал все происходящее в стране с позиций «творческого марксизма». И тем не менее, уверен, в глубине души он не верил в то, что отстаивал. Попробую объяснить, на чем основывается такая моя уверенность.