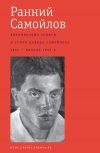Читать книгу "Мемуары. Переписка. Эссе"
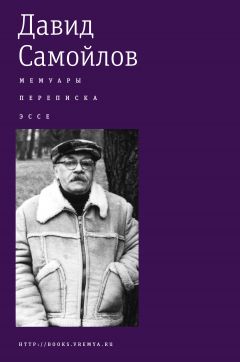
Автор книги: Давид Самойлов
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Л[енингра]д, 14.1.61[151]151
Из текста письма следует, что в дате опечатка, характерная для начала года: на самом деле это 14.01.1962 (ПЗ. Т.1. С. 353, ПамЗ. С. 227.).
[Закрыть]
Дорогой Давид Самойлович!
Исполняю Вашу просьбу и свое желание. Исполняю с опозданием и наполовину не шлю сейчас переводов, – но в этом для Вас есть некоторая прелесть: по приезде в Ленинград я сразу же, как Вы и предсказывали, раскис. Впрочем, не раскис – нечто худшее. Что именно, сообщать не стоит, ибо получится жалоба, а жаловаться бесполезно, хотя считается, что Вам – не бесполезно. Делать этого не следует тем более потому, что я не демонстрировал Вам никаких славных качеств, никаких добродетелей.
Исполняю – отчасти с сожалением, ибо поэма[152]152
Первые поэмы Бродского датируются 1961 г. Вероятно, речь идет о поэме «Шествие», законченной в ноябре 1961 г.
[Закрыть] уже далеко (и давно) не я, а стихи посылать нет желания – их теперь слишком много. Переводы – они будут позже. Кроме того, что касается меня, – мне неприятно заниматься чем-нибудь вторым, когда не сделано (не делано) главное. Тем более что нет совершенно никаких возможностей заниматься чем бы то ни было. Ну, вот и жалоба. Однако положение и впрямь отвратительное: работу я вчера бросил – уж нет сил, денег ни гроша; слава Богу, что я еще ничего не должен Вам. Самое скверное, что негде работать (жить), негде быть, и что впереди – ничего, пустота, этакое пространство (зачеркнуто четыре слова. – Г. М.); что даже за литераторство невозможно уцепиться, ибо как бы прекрасно, прелестно ни делал, тебе известно, кто делает это – ты – со всей твоей низостью, глупостью, слабостью, так далее: ибо знаешь себя.
(Абзац в количестве шестнадцати строчек зачеркнут. – Г. М.)
Если Вам поэма понравится и если окажется время, покажите ее Борису Абрамовичу и Эренбургу. Это, говоря откровенно, моя просьба к Вам – единственная. Хотя первому наверняка не понравится: об интеллигентстве шум поднимет. «Народ» – скажет, «хлеб» – скажет, еще что-нибудь в этом роде. Вы не говорите ему всего этого, – он человек, как я понимаю, настроений, а я его люблю. Хотя последнюю книгу жалко, дрянь. «Тарусские страницы»[153]153
«Тарусские страницы», как упоминалось ранее, вышли в 1961 г.
[Закрыть] нехороши. Я говорю не о Заболоцком и Марине, даже не о Вас с Б. А., хотя у Вас мне более всего понравилось первое – о Николае Алексеевиче[154]154
«Перечисляются стихи, опубликованные в «Тарусских страницах», в том числе подборки М. Цветаевой и Б. Слуцкого. Стихотворение «Заболоцкий в Тарусе» во всех прижизненных сборниках печаталось в варианте, отличном от опубликованного в «Тарусских страницах».
[Закрыть], (кстати, – там на фотографии прекрасная девушка – его дочь). «Чайная» – хорошо, но не очень. Я теперь читаю прекрасную, по-моему, книгу Ваших переводов из Тувима[155]155
Имеется в виду издание: Тувим Ю. Вёсны и осени / пер. с польск. Д. Самойлова. – М.: Дет. лит., 1959.
[Закрыть], – как-то раньше не получалось. Досадно, что я не могу высказать Вам лично, как я рад за Вас и за себя – не сочтите последние слова снобистскими. Вообще досадно, что все это – в письме, с эпистолярным стилем у меня дурно, еще хуже, чем с почерком, почему и пишу на машинке.
Я, вероятно, утомил Вас этими длинными периодами и одним интервалом. Пора кончать. Не сердитесь на меня, не сердитесь за перечисленное и за навязчивый, по-моему, тон. Здесь плохо, плохо со всех сторон; поэтому трудно уследить за тоном, за собой. Извините. Если бы ребята знали, что я Вам сейчас пишу, – они бы попросили передать Вам привет. Поэтому привет Вам от Бобышева, Наймана и Рейна.
Если Вам когда-нибудь представится возможность и придет в голову помочь нам – помогайте всем вместе. Если Вы когда-нибудь поедете к нам – позвоните тогда мне Ж-2-65-39 (два шесть пять тридцать девять), я (мы все) буду рад Вас видеть, у меня от Москвы сохранилось о Вас прекрасное воспоминание, чувство.
Я хотел бы написать Вам (сказать) еще очень много, здесь я нес какую-то нервическую чушь и, возможно, много напортил. Постарайтесь не усмотреть здесь во всем ничего дурного; по меньшей мере постарайтесь это простить. Здесь, к сожалению, нет четверти желаемого, но это письмо, письмо.
Поздравляю Вас с Новым годом, – сегодня старый Новый год, – желаю Вам любви, радости, желаю Вам остаться таким, каким я узнал Вас. Если поэма Вам понравится – считайте ее рождественским подарком. Поздравьте от моего имени и Бориса Абрамовича, передайте, пожалуйста, привет Сереже[156]156
Артамонов Сергей Федорович (1936–2008) – писатель, друг Д. С. В 1974 г. эмигрировал в Израиль, затем переехал во Францию, где занимался резьбой по дереву.
[Закрыть]. Всего доброго, Давид Самойлович. Я был бы рад получить от Вас письмо, но, если Вы не сможете его написать, – не огорчайтесь особенно: я всегда думаю в хорошую сторону. До свидания, желаю счастья; мы все четверо его Вам желаем – Женя, Дима, Толя и я, – я уверен в каждом.
Ваш И. Бродский
P. S. Я перечел все письмо: куча идиотства, но переписывать я смогу не скоро; посему отправляю это.
Еще раз простите.
12. X.62
из Ленинграда
Дорогой Давид Самойлович!
Не подумайте, бога ради, что я забыл все, сказанное Вами по поводу выхода маленькой книжки Галчинского. Мне почему-то сдается, что там не окажется тех трех стихотворений, которые я Вам решаюсь послать[157]157
В сборник К.-И. Галчинского «Варшавские голуби» (М.: Дет. лит., 1962) переводы Бродского не вошли. Четыре стихотворения в его переводе («Анинские ночи», «Заговоренные дрожки», «Маленькие кинозалы» и «Конь в театре») опубликованы в книге Галчинский К.-И. Стихи. – М.: Худож. лит., 1967.
[Закрыть].
Может быть, с ними можно что-то поделать. Мне кажется, что они очень характерны, типичны для Галчинского. Элегичность, скорбь и сарказм. Прочитанные (о, напечатанные!) одновременно, они могут дать представление об их авторе.
Я делал их вручную, без подстрочника, т. е. делал подстрочный перевод сам. Тем не менее считаю, что уж одно-то из них («В лесничестве») удалось на славу. Надеюсь, Вы еще не подумали, что я хвалю свой товар. Но и это было бы естественным: взялся за них не от хорошей жизни; потому что подружки из Гослита до сих пор не прислали своих фотокарточек.
«В лесничестве» и «Конь в театре» написаны в 1953-м году смерти К. И. Г. Третье, «На смерть Эстерины» – в 1948-м году; имеет позаголовок: «…высланной гитлеровцами венецианки», словом, беженки. Стихи взяты из книги «Вирши», изд. «Чительник», 1956 г. Это та самая книга, полный перевод которой является нашей общей северной грезой.
Конечно же, не прошу Вас о письме. Если увидите Женю[158]158
Имеется в виду Е. Рейн.
[Закрыть], передайте ему, пожалуйста, все на словах. Тем более что слово-то всего одно: «да» или «нет». Если же не Женя, то кто-нибудь другой. Там есть такая девочка, Наташа Горбаневская, поэтесса прекрасная. Она, м. б., Вам позвонит, а потом она скажет нам: она по временам звонит сюда.
Простите, что не заикался о деньгах. С ними пока дурно. Но обещаю, что к Рождеству во всяком случае верну.
Если после этих всех слов и этого тона, Вы еще считаете меня человеком, то передайте, пожалуйста, от меня привет Анне Андреевне, Вашей жене и Вашему парню[159]159
Сын Д. С. от первого брака. Кауфман Александр Давидович, лит. псевдоним А. Давыдов (р. 1953) – прозаик, переводчик, издатель журнала «Комментарии».
[Закрыть], который, по-моему, прелестен.
Желаю от всего сердца здоровья, покоя, веселья и приезда к нам.
Ваш И. Бродский
P. S. Все стихи нуждаются в разбивке. Но от этого строк будет больше, чем у автора. Что делать?
Дорогой Давид Самойлович.
Я не против редактуры – ровно наоборот. Но здесь временами в результате правки возник полный бред: и семантический, и синтаксический. Хуже всего, что я уже не помню, как оно было. Во всяком случае, я подчеркнул все сомнительные места и – где удалось – исправил. У меня нет, поверьте, никаких амбиций: я исходил только из здравого смысла, которого и вообще-то в этих стихах немного, а в результате правки – стало еще меньше. Что мне, как переводчику, чье имя будет стоять под ними, – неприятно.
Иосиф Бродский
[160]160
Не отправлено. Без даты.
[Закрыть]
Дорогой Иосиф!
Глубоко уважая Ваше самоуважение, не могу забыть при этом, что даже творение Божье не лишено изъянов. Вы это знаете по собственному опыту. Исправить даже это Божье творенье – исконная черта человека. Ваше человеческое начало именно и сказывается в желании исправить по-своему Галаса[161]161
Галас Франтишек (1901–1949) – чешский поэт. Сборник его стихов с переводами под редакцией Самойлова должен был выйти в издательстве «Художественная литература» в 1972 г., Бродский перевел для него 13 стихотворений. Но в связи с его эмиграцией переводы были заказаны другим поэтам. Книга вышла в 1974 г.
[Закрыть]. Мое – в желании исправить Ваше исправление.
Итак, договоримся, что мы оба человеки. С божеством разговаривать трудно. Да и неохота.
С удовольствием сниму все мои предложения, если Вы исправите сами то, что следует исправить. Дело это для Вас простое. Например, если у автора есть Эринии, то не следует их заменять Эхнатонами. Мы, кажется, уже говорили с Вами о том, что перевод скорее относится к сфере уважения, чем самоуважения.
Это, видимо, единственное стоящее положение теории перевода.
Давид Самойлов
Письма Д. Бобышева, Е. Рейна, А. Наймана – Д. Самойлову08.06.61
Давид Самойлович!
Мне было очень приятно оказаться в сборнике Незвала[162]162
Незвал В. Избранное / Сост. Н. Николаева. – М.: Изд-во иностр. литературы, 1960.
[Закрыть] – пожалуй, это была последняя и единственная возможность очутиться в одной книге с некоторыми из ее переводчиков. Сожалею только, что милая дама-составительница, по-видимому, не слишком ценит нац. колорит. Впрочем, бог с ним, я получил себе на сигареты, да и грех роптать.
Теперь я со своим товарищем Иосифом Бродским собираюсь перевести книжку кубинского поэта Manuel Navarro Luna[163]163
Наварро Луна, Мануэль (1894–1966) – кубинский поэт, журналист и революционер. Переводы Бродского и Бобышева не были опубликованы.
[Закрыть], сборник называется «Los poemas mambises». Это весьма энергичный революционный поэт, и помимо этаких «проходных» данных, он может доставить удовольствие переводчикам (а возможно, и читателям).
Мы уже начали переводить его, и Бродский, как человек менее занятый, успел кое-что сделать. Он на днях будет в Москве и станет Вам дозваниваться. Расскажите ему, пожалуйста, какие возможности есть для нас на сегодня в Москве, а он уже передаст это мне – чтобы не вводить Вас в излишнюю переписку. В частности, мне хотелось бы узнать, жаждет ли, скажем, Ин. лит. получить русские интерпретации современного прогрессивного поэта Кубы. Я думаю их произвести месяца через полтора.
Бродский к тому же пробует переводить Робинсона и Гинзберга[164]164
Робинсон Джефферс (1887–1962), Гинзберг Аллен (1926–1997) – американские поэты. Переводы их стихов Бродским опубликованы не были.
[Закрыть]. По-моему, сам он талантливый поэт, во всяком случае, Вам будет небезынтересно его послушать.
Поговорите с ним о переводах.
Ваш Бобышев
Без даты
Дорогой Давид Самойлович!
Это Рейн пишет. Бездну лет Вас не видел, и это жаль. Но вот буду весной в Москве, постараюсь Вас отыскать.
Живем ничего себе. (Это о Бобышеве, Наймане и себе самом.)
Я пишу детские книги. Кое-что Тимофеев[165]165
Тимофеев Юрий Павлович (1923–1982) – литератор, друг Д. С. Участник войны. Работал в детской редакции радиовещания, на Мосфильме, затем был главным редактором издательства «Детский мир», работал в Детгизе, «Литературной газете». Прототип героя поэмы «Юлий Кломпус». О Тимофееве и «тимофеевской компании» – «Глава с эпилогом» (ПамЗ), цитирующаяся ниже.
[Закрыть] выпускает (да, правда ли, что его уже нет в «Дет. лит?»). Работаю на радио, в каких-то журналах. Найман роман пишет. Он сам говорил, должно быть.
Очень хотел бы почитать Вам стихи. Ваши-то, где были, читал. Вот и «Чайную» перечитал на днях в «Тар. З»[166]166
Альманах «Тарусские страницы».
[Закрыть].
Найман сказал, что, будучи у Вас в Москве, он слышал разговор о переводах из Ружевича[167]167
Речь о переводах для книги Ружевича «Беспокойство», изданной в Москве в Издательстве иностранной литературы в 1963 г. Переводов Бродского, Рейна, Бобышева и Наймана в книге нет.
[Закрыть] и еще каких-то. Было бы замечательно, если бы и на нас четверых (Бродский, Бобышев, Найман, я) хватило бы.
P. S. Польский-то мы кое-как знаем.
Если это можно сделать, вышлите, пожалуйста, подстрочники мне – г. Ленинград, ул. Рубинштейна, д. 19, кв. 57. Рейну Евгению Борисовичу.
Привет всей Москве и Артамону[168]168
Артамонов Сергей Федорович (1936–2008) – писатель, друг Д. С. В 1974 г. эмигрировал в Израиль, затем переехал во Францию, где занимался резьбой по дереву.
[Закрыть].
26 сент. 71 г.
Дорогой Давид Самойлович!
После немалых колебаний я решился написать Вам это письмо. В последнее время мы не часто видимся. И, честно сказать, это меня огорчает, когда-то Ваше участие, внимание, общество были важны и значительны для меня. А теперь мы живем в одном городе, но, увы… мне, конечно, увы.
Впрочем, я не сетую, у жизни, наверное, есть своя бессмысленная логика.
Вы, наверное, предчувствуете, что письмо это сведется к просьбе. Опять же, увы… Это печально, но это так.
Три дня назад, при стечении каких-то не совсем мне понятных обстоятельств Семакин[169]169
Семакин Владимир Кузьмич (1922–1990) – поэт, переводчик, в то время редактор в издательстве «Советский писатель».
[Закрыть] в отсутствие Исаева[170]170
Исаев Егор Александрович (1926–2013) – в то время заведующий отделом поэзии издательства «Советский писатель».
[Закрыть] принял у меня книгу в СП (по идее он этого не должен был сделать). Для меня судьба этой книги (я тут не обсуждаю абсолютное качество моих стихов) равна моей собственной судьбе. Двадцать лет я пишу стихи, из них пятнадцать нахожусь возле публикации. И вот все еще ничего, кроме нескольких третьесортных (по моему мнению) стишков, мне напечатать не удалось. Начинать сейчас мне, немолодому уже человеку, журнальные баталии – не под силу и поздно, да и на успех мало шансов. Остается одна надежда – книга.
Все будет зависеть от рецензентов. Я бы мог попросить, скажем, Антокольского или еще кого-нибудь в этом роде, но надо, чтобы им дали эту книгу.
Если Вам не составит неприятного труда, быть может, Вы попросите Фогельсона[171]171
Фогельсон Виктор Сергеевич (1932–1994) – редактор издательства «Советский писатель», сын С. Б. Фогельсона, двоюродного брата первой жены Д. С. Редактировал все сборники Д. С., вышедшие в издательстве, начиная с книги «Второй перевал» (1963).
[Закрыть] (с которым я совсем не знаком) присмотреть за моей книжечкой. Она называется «Перемена мест»[172]172
Первая книга Рейна в издательстве «Советский писатель» – «Имена мостов» – вышла в 1984 г.
[Закрыть].
Вот, собственно, и вся моя проблема.
28-го я улетаю в Киев по киноделам, как только вернусь, разыщу Вас.
Сердечный привет Гале и детям.
Остаюсь Ваш Е. Рейн
18.07.78
Дорогой Давид Самойлович!
Видел и читал все Ваши новые публикации. Все-таки я пришел к Вам в 1957 году и чему-то научился.
Мой новый № в М-е 943-03-35.
С марта я в СП, жду 2 книги.
Поклон Гале.
Ваш Евг. Рейн
10.05.89 г.
Дорогой Давид Самойлович!
Хочу без долгих подступов и объяснений сказать Вам, что «Беатриче» кажется мне замечательным циклом, почти абсолютной физической реальностью, почти, но остается волосок, и в это пространство и вмещается преображение (или искусство, или что-то…). Но вот так оставишь такой еле заметный зазор, через который и приходит воздух… в этом весь фокус.
Как-то невнятно, но не могу сказать точнее.
Я еду 21 мая на Ахматовский конгресс в США и возьму с собой книжечку. У меня ближайшая выйдет летом – вышлю Вам.
Будьте здоровы, сердечный привет Гале.
Посылаю Вам вид старого Пярну еще дореволюционной работы.
Сердечно Ваш.
Евгений Рейн
10 сентября 1969 г.
Дорогой Давид!
Как мы и договаривались, я думал в первых числах сентября приехать к Вам в Опалиху, чтоб, в частности, сшибить какую-нибудь работу, на которую Вы подали мне надежду. Но в конце августа я заболел – какой-то жуткий сердечный спазм, и хоть я шатаюсь по дому, но выходить мне не разрешают, плохая кардиограмма.
Меж тем, как писали когда-то, работы нет, семья голодает. Давид, не оставьте мою мольбу без ответа, откликнитесь. Адрес на конверте, а телефон 29-595-36. Не усугубляйте моей сердечной боли. А уж и детям завещаю любить Вас, как сам люблю.
Привет Вашему семейству.
Жду скорого ответа.
Ваш Найман
Эра Суслова. «Мне кажется, что я Вас знал всегда…»
[173]173
Суслова Эра Васильевна (1925–2011) – актриса Горьковского (Нижегородского) театра драмы, народная артистка РСФСР. История знакомства Д. С. с ней и описана в ПамЗ (с. 309) и в заметке: Мараш М. «А мы такие молодые» // Сов. женщина. 1986. № 4. В этой же заметке приведены письма Д. С. к Э. В. Сусловой, датированные 20.01.44 и октябрем 1995 г. Ей посвящены стихотворения «Вариация» и «Несовпадения в пространстве…» (оба 1987).
[Закрыть],[174]174
Опубликовано в журнале «Октябрь», 2010, № 2.
[Закрыть]
В феврале нынешнего года исполняется 20 лет со дня смерти поэта Давида Самойлова (1920–1990), чье стихотворение «Сороковые, роковые…» стало визитной карточкой поколения, прошедшего Великую Отечественную войну.
Мы предлагаем читателю воспоминания Эры Васильевны Сусловой, ведущей актрисы Горьковского (ныне Нижегородского) государственного академического театра драмы им. М. Горького, народной артистки СССР. Ей адресованы стихотворения Самойлова «Несовпадения в пространстве мы не заметим…», «Не умирают беглые слова…».
В сопровождающем воспоминания, написанные еще в 1991 году, письме в редакцию вдова поэта, Г. И. Медведева, писала: «Я собирала мемуары о Д. С. (или они стекались ко мне сами), поначалу думая о книге воспоминаний, а потом и думать перестав: издание книг Д. С., работа над ними захлестнула и не давала глядеть в сторону. Интуитивно же что-то подсказывало: не торопиться, настанет час и для поминания. Вот он и настал»…
Судьба столкнула поэта и актрису военной зимой сорок четвертого года, но настоящая встреча произошла лишь через сорок лет.
«В ту пору случилось небольшое происшествие, мною начисто забытое, вполне достойное сентиментального рассказа», – так написал Давид Самойлович Самойлов в своих мемуарах. Действующим лицом этого происшествия невольно стала я.
Было это в Нижнем Новгороде (в ту пору – Горьком). Город наш очень красив, особенно его историческая часть с каменным кремлем, расположенная на крутом правом берегу Оки, на Дятловых горах, овеваемых всеми ветрами: «город семи ветров». В старину говорили: «Дома каменные – люди железные», ну а во время войны можно было сказать: «Дома каменные, и люди каменные». От горя.
В войну город опустел, было мало мужчин, молодежи. В вузы принимали без экзаменов. Холод и голод, потери и разлуки, тревожные сообщения по радио и бомбежки… Помню на улицах длинные очереди за хлебом – черные толпы на фоне белого снега. Лица людей были строги, суровы, но никакого шума, скандалов. В наши дни ненависть подчас расходится от человека во все стороны, как волны от брошенного в воду камня. Тогда ненависть была направлена лишь в одну сторону – в сторону врага. В хлебных очередях люди были объединены общей бедой и болью, ведь у каждого кто-то из близких был на фронте. Но главное, что объединяло людей, – непоколебимая вера в победу. Эта вера и предчувствие грядущего освобождения давали людям силы переносить любые испытания.
Никогда не забуду час объявления войны: мы с мамой сидим за столом, из репродуктора доносится голос Молотова. Мама опустила голову, закрыла лицо руками, рыдания душат ее. «Мама, почему ты плачешь, ведь мы победим!»
Истинное осознание трагического положения вещей пришло позднее. На перевале войны я получила мамино письмо с фронта (она была мобилизована как врач), где она пишет об освобождении Одессы и скорой победе. Теперь рыдала уже я.
С фронта в город привозили раненых. Школы превратились в госпитали, классы – в больничные палаты. Желание хоть чем-то помочь, облегчить страдания бойцов было для нас естественной потребностью, и мы, студенты театральной студии, стали частыми посетителями госпиталей. Помню, как я приходила в палату с томиком Чехова. Читать я могла часами, и в слушателях у меня недостатка не бывало: раненые из других палат стояли даже в проходах, прерывая чтение громким смехом. Именно тогда я впервые заметила, какую огромную жизненную энергию аккумулируют и излучают собравшиеся вместе и переживающие сходные эмоции люди.
Таким мощным излучателем энергии во время войны стал Горьковский театр драмы. Руководил им до войны известный театральной России народный артист РСФСР режиссер Н. И. Собольщиков-Самарин, а с 42-го года – народный артист РСФСР Н. А. Покровский.
Театр навсегда покорил меня не только силой своего искусства, но и тем, как резко он контрастировал с обыденной жизнью. Никогда не забуду, как бежала морозными вечерами по пустынным темным улицам. В городе затемнение: ни одного фонаря, ни одного освещенного окна, только яркие звезды над головой и хруст снега под ногами. Подхожу к зданию театра, открываю старинную дубовую дверь, и меня ослепляет море огней. Ярко горит старинная люстра, освещены все ложи, а со сцены летят слова Шекспира в исполнении блестящих артистов. Полный аншлаг. Люди в военной форме (а их в зале большинство) аплодируют стоя.
Много лет спустя я прочитала в одном из интервью Анатолия Папанова рассказ о его пребывании в Горьком. Папанов находился здесь после ранения. Посетив один из спектаклей Театра драмы, Папанов, по его словам, не мог забыть его десятки лет.
Такова сила искусства. Такой была атмосфера в городе в годы войны. Жизнь и смерть, победа и поражение. Молодость! Любовь! Вера! И вечная надежда!
Осенью 1943-го – зимой 1944 года по улицам нашего города ходил молодой сержант Давид Самойлов[175]175
Сержантом Д. С. не был. Он закончил войну в звании ефрейтора.
[Закрыть]. Он был здесь на переформировании. Позднее поэт вспоминал: «Я кочевал по карантинам и запасным полкам г. Горького, пока не осел к зиме в роте противотанковых ружей 7-го запасного полка».
Должно быть, в один из морозных вечеров под теми же яркими звездами он тоже открыл тяжелую дверь нашего театра или дверь другого дома и попал в море света, тепла, людности. Где-то в толпе он случайно увидел девушку высокого роста с тонкой талией и пышными волосами – студентку театральной студии. Видимо, он находился на расстоянии лишь нескольких шагов от нее. Хотел подойти, но не посмел.
И подошел через сорок лет.
А той зимой я получила письмо. Оно датировано 21 января 1944 года. И почерк, и адрес мне были незнакомы. Письмо пришло накануне дня моего рождения. Мне исполнялось девятнадцать лет, и судьбе было угодно сделать мне очень дорогой подарок.
Надо сказать, что в годы войны переписка с незнакомыми людьми была почти нормой. Конвертов не было, писали на листке бумаге и потом сворачивали его в треугольник. И эти птицы-треугольники летели из тыла на фронт и с фронта по городам и весям нашей страны.
Поэтому я не очень удивилась, получив письмо от незнакомца, но когда я прочла его, то поняла, что письмо написано рукой человека талантливого, наделенного редкой по искренности душой. Оно сразу очаровало меня. Вот его текст:
«Эра! Все письмо мое возникло из случайностей: я видел Вас случайно, узнал Ваше имя случайно, наконец, случайно узнал Ваш адрес. В жизни солдата возможен ряд роковых случайностей. Кажется, это одна из них. Не знаю, что побудило меня написать это письмо, быть может, чувство одиночества в городе, где я никого не знаю и никто не знает меня. Но Ваше лицо в толпе ничего не обещающих лиц показалось светлым, осмысленным, живым… Что еще? Я хотел к Вам подойти, но меня удержала дурацкая человеческая трусость.
Нужно оговориться. Не примите моего письма за то, что пишется сейчас в громадном количестве армейскими донжуанами. Я не буду клясться, что полюбил Вас с первого взгляда, не буду даже просить о свидании. Если Вы захотите, оно состоится. Но не сейчас и не скоро.
Но Вы должны мне ответить. Почему? Не знаю. Хотя бы потому, чтобы поддержать мою веру в чудеса. Я верю, что даже в Горьком они случаются.
Над снежной Волгой, в предвечерний час,
У дерева, что бурею согнуто,
Я не однажды вспоминал про Вас,
И грустно становилось почему-то.
Пурга метет, над плоскостью реки
Проходят тучи, птицы кружат реже.
И больно мне, что так Вы далеки,
Как звездочка над белым побережьем.
Еще раз – жду Вашего письма.
Д.
Горький, 20.1.44»
И письмо это, дивное письмо, осталось без ответа. Нет, не потому, что я поленилась, я очень люблю писать письма. Из всех вещей и предметов на свете я больше всего люблю чистый лист бумаги и ручку, но равнодушна, например, к игле или кухонному ножу.
Ответить моему адресату мне помешали драматические или, скорее, полудраматические события в личной жизни. Я не ответила сразу, а потом просто было уже поздно.
Но письмо незнакомца я сохранила. Оно пролежало в моем столе сорок лет.
Все эти годы я работала в Нижегородском (Горьковском) театре драмы. Мною были сыграны сотни ролей; бывали и успехи, и провалы. Служение искусству – одна из загадок жизни.
У меня есть семья – сын, невестка, два внука. Кажется, что все, что можно было, прожито, сыграно, сказано.
Не раз за эти годы, перебирая старые письма и бумаги, я брала в руки знакомое письмо-треугольник. Оно стало для меня знаком юности. Кто же написал его, что стало с этим человеком, жив ли он? Ответа не было. Но тут в дело вмешался случай, чудесный случай.
Проходя как-то мимо газетного киоска, я купила «Литературную Россию», последний экземпляр. Поздно вечером, освободившись от всех дел, стала ее просматривать. Это был номер от 7 сентября 1984 года. Мое внимание привлекли письма поэта Сергея Наровчатова к Николаю Глазкову. Мне вообще кажется, что невозможно до конца понять ни одного поэта или писателя без знакомства с его дневниками и письмами. Эпистолярное наследие – это стихия подсознания, а там нет никакой внутренней цензуры.
И вот неожиданно в письме С. Наровчатова от 4 ноября 1943 года читаю: «…в Горьком после ранения находится Дезя». Опускаю глаза к примечанию: речь идет о Давиде Самойлове.
«С ним далеко можно идти – это человек большого дарования и замаха, с хорошим ощущением нового. Он ставит вопрос о создании новой эстетики…»
Отложив газету, я достала заветное письмо. Сомнений быть не могло: имя, дата пребывания в нашем городе, стихи, ранение – все сходилось. Тайна была раскрыта. У меня в руках было письмо, написанное поэтом Давидом Самойловым.
Меня охватило чувство радости: так мой юный корреспондент не погиб в той страшной войне, он жив, пишет, и судьба его сложилась счастливо!
Были минуты, когда мне хотелось написать Самойлову письмо, но я быстро отбрасывала эту идею.
Зато стала внимательно следить за появлением в журналах его новых стихов, перечитала все, что было опубликовано ранее, попутно отмечая убогость наших библиотек, книжных магазинов и невероятно малые тиражи изданий настоящей поэзии.
Имя Давида Самойлова стало действовать на меня, как легкий удар тока. Видимо, человек так устроен, что в огромном потоке информации – и эфирной, и газетной – он прежде всего улавливает то, что хочет услышать и увидеть.
То, что Самойлов – поэт милостью Божьей, ясно всем, и, читая строки его стихов, я хотела понять, что он за человек, какой у него характер, хотела представить его внешний облик. Было странное ощущение: я ни разу его не видела, но мне казалось, что я давно его знаю.
Позднее Самойлов написал похожие слова: «Мне кажется, что я Вас знал всегда». Видимо, впечатления юности не стираются, как магнитная лента, а сохраняются, даже незримые, ясно и отчетливо.
Прошел год, и события развернулись еще более неожиданным образом. На сентябрь 1985 года был назначен мой юбилейный творческий вечер, посвященный 40-летию работы в театре. Автор сценария юбилейного вчера, режиссер телевидения Михаил Мараш, большой поклонник творчества Самойлова, услышав от меня историю с письмом, поделился со мной идеей пригласить на юбилей Давида Самойловича, чтобы на сцене произошла наша встреча. Я была озадачена. Ход режиссерской мысли был понятен – найти сенсацию, изюминку вечера. Но Мараш не понимал меня, не понимал того, что молчание в годы войны все еще лежало на моих плечах грузом вины. Мараш же утверждал, что Давид Самойлович, возможно, захочет пройти по следам своей юности и увидеть ту, которая сорок лет хранила у себя письмо не известного поэта, а простого солдата.
И он оказался прав: Давид Самойлович откликнулся. Мараш несколько раз звонил в Пярну, где жил поэт, затем отослал фотокопию военного треугольника и получил ответ:
«Дорогой Михаил Робертович! Спасибо за радость и растроганность, пришедшие из столь давних времен. Прошу передать Эре Васильевне мою фотографию. Если будет возможность, мы с женой приедем на юбилей в сентябре, но до этого надо списаться или договориться по телефону. Я почти все время в Пярну. Хотел бы повидать Э. В., а Вас поблагодарить особо. Письмо (Вы верно угадали) мое. А стихи не мои. Они целиком принадлежат Эре Васильевне. Большой ей привет.
Всего Вам доброго. Ваш Д. Самойлов»
На фотографии Давид Самойлович стоит в светлом костюме на фоне усыпанной плодами яблони. На обороте надпись:
«Вероятно, все же чудеса случаются. Спасибо Андерсону.
Эре Васильевне Сусловой, минутному видению через сорок лет».
Тогда я написала письмо, приглашая Давида Самойловича и его жену Галину Ивановну на юбилей. Он ответил:
«Милая Эра Васильевна! Спасибо за письмо. Постараемся приехать на Ваш творческий вечер, увидеть Вас на сцене и продолжить наше мимолетное знакомство уже на творческом уровне.
Хочу и немного побаиваюсь нашей встречи. Нам не грозит разочарование от сравнения того, что было, с тем, что есть. И почти уверен, что сумеем разговаривать друг с другом…
Надеюсь почитать стихи Вам лично.
Будьте здоровы. Ваш Д. Самойлов»
Сроки моего юбилея переносились из-за выпуска очередных премьер, но вот окончательно была утверждена дата – 16 декабря 1985 года. Это оказался и день нашей встречи.
К семи часам в зрительном зале стали собираться зрители. Пришли те, кто не одно десятилетие знал и любил наш театр. В зале царило оживление, как на премьере, и все так же, как и сорок лет назад, сияла вверху огромная старинная люстра. Ходили слухи, что будет что-то необычное, что кто-то приехал, но толком никто ничего не знал.
Наконец гаснет свет, зал затихает, звучит музыка, и я выхожу на сцену. Оказанный собравшимися прием на секунду лишил меня душевного равновесия: мне показалось, что я не смогу говорить, на глазах заблестели слезы, но я быстро справилась с волнением. В зале в тот вечер был мой зритель, мои любимые друзья. Мне стало легко, я ощутила что-то вроде невесомости.
На сцене появилась молодая актриса в белом платье – мой двойник, моя молодость, – с ней я вела диалог в течение всего вечера. Таков был замысел постановщика, который надеялся, что в зале будет присутствовать Давид Самойлович, поэтому лейтмотивом вечера была встреча с юностью.
По сценарию я должна была играть отрывки из пьес, а в паузах артисты нашего театра – читать письма ко мне и обо мне режиссеров, актеров, критиков. Сыграв три или четыре отрывка, я ушла за кулисы. На сцене появился ведущий – режиссер Михаил Мараш. Он медленно вынул из кармана заветное письмо-треугольник и начал читать. Зал замер, а когда он объявил, что автор этого письма Давид Самойлов и что поэт сейчас находится в зале, разразился овациями. В этот момент, сделав шаг на сцену, я увидела, как по проходу в партере идет и поднимается ко мне навстречу Давид Самойлович. Мощные прожекторы освещали его сзади, и он был словно окружен ореолом. Он вышел из света и огня. Это было для меня не появление, а какое-то явление: на мгновение показалось, что передо мной – будто и не было этих сорока лет! – молодой солдат. Давид Самойлович с улыбкой протянул мне цветы, и мы обнялись. Сбылись его слова о свидании, написанные так давно: «Если Вы захотите, оно состоится. Но не сейчас и не скоро».
Аплодисменты не умолкали. Затем будто орган зазвучал, я и позднее именно так воспринимала голос поэта – мощный, красивого тембра, удивительно мужественный. Самойлов обратился со словами приветствия сначала ко мне, потом к зрительному залу и стал читать стихи, закончив знаменитым «Сороковые, роковые…»
После юбилея в фойе театра накрыли красивый стол с фруктами и сладостями, предполагался только чай, это было время безалкогольных праздников.
Актеры состязались в остроумии, читая стихи, посвященные виновнице торжества, пели, играли, но все, что происходило, делалось и для Давида Самойловича. Он с удовольствием присутствовал на этом театральном капустнике, чувствуя себя своим в мире театра.
За столом мы сидели рядом, и я спросила его, не приходилось ли ему заниматься режиссурой, он ответил, что только в тех случаях, когда актеры читали его произведения[176]176
Д. С. почти 20 лет выступал в качестве автора и режиссера чтецких программ Р. Клейнера, в том числе «Альберт Эйнштейн», «Средь шумного бала…» (по произведениям А. К. Толстого), «Двадцатые годы», «Я это видел сам» (поэты-фронтовики).
[Закрыть]. Позже он писал мне, что не вмешивается в работу режиссера, актера, художника никогда, даже если ему все активно не нравится. Но однажды у него вырвалась фраза о постановке его пьесы «Фарс о Клопове»: «Как бы я хотел поставить этот спектакль! Я его вижу»[177]177
«Фарс о Клопове» не поставлен по сей день. Первая публикация осуществлена Г. И. Медведевой в альманахе «Петрополь» (СПб., 1992, вып. 4).
[Закрыть].
Приезд поэта Давида Самойлова, безусловно, стал событием в культурной жизни города. Он пробыл в Горьком еще несколько дней, и дни эти были насыщенными: встречи с читателями, выступление на телевидении… И хотя он приехал неожиданно и не было никаких сообщений и афиш, зрительные залы были полны.
Хорошо помню последнюю читательскую встречу. Мы немного опоздали и сидели в последних рядах. Передо мной был огромный зал, заполненный людьми, пустая сцена и одинокая фигура Давида Самойловича за большим столом. Он много говорил, читал стихи, метко, остроумно, кратко отвечал на вопросы. Я смотрела на него издали и думала о том, что в его облике есть что-то колдовское, словно ему ведома великая тайна жизни.
Перед отъездом Давид Самойлович со своей очаровательной женой Галиной Ивановной был у меня в гостях. Боясь, как бы они не уехали голодными, я угощала их домашними пельменями, а Давид Самойлович – пищей духовной: он привез с собой только что написанную «Беатриче», читал, как всегда, прекрасно.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!