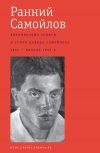Текст книги "Счастье ремесла: Избранные стихотворения"
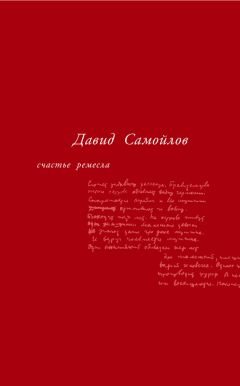
Автор книги: Давид Самойлов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Советчики
Приходили ко мне советчики
И советовали, как мне быть.
Но не звал я к себе советчиков
И не спрашивал, как мне быть.
Тот советовал мне уехать,
Тот советовал мне остаться,
Тот советовал мне влюбиться,
Тот советовал мне расстаться.
А глаза у них были круглые,
Совершенно как у лещей.
И шатались они по комнатам,
Перетрогали сто вещей:
Лезли в стол, открывали ящики,
В кухне лопали со сковород.
Ах уж эти мне душеприказчики,
Что за странный они народ!
Лупоглазые, словно лещики,
Собирались они гурьбой,
И советовали мне советчики
И советовались между собой.
Ах вы, лещики, мои рыбочки,
Вы, пескарики-головли!
Ах спасибо вам, ах спасибочки,
Вы мне здорово помогли!
1961
«Если вычеркнуть войну…»
Если вычеркнуть войну,
Что останется? Не густо.
Небогатое искусство
Бередить свою вину.
Что еще? Самообман,
Позже ставший формой страха.
Мудрость, что своя рубаха
Ближе к телу. И туман.
Нет, не вычеркнуть войну,
Ведь она для поколенья —
Что-то вроде искупленья
За себя и за страну.
Правота ее начал,
Быт жестокий и спартанский,
Как бы доблестью гражданской
Нас невольно отмечал.
Если спросят нас юнцы,
Как мы жили, чем мы жили,
Мы помалкиваем или
Кажем раны и рубцы.
Словно может нас спасти
От стыда и от досады
Правота одной десятой,
Низость прочих девяти.
Ведь из наших сорока
Было лишь четыре года,
Где нежданная свобода
Нам, как смерть, была сладка…
1961
«Дождь пришел в городские кварталы…»
Дождь пришел в городские кварталы,
Мостовые блестят, как каналы,
Отражаются в них огоньки,
Светофоров цветные сигналы
И свободных такси светляки.
Тихо радуюсь. Не оттого ли,
Что любви, и надежды, и боли
Мне отведать сполна довелось,
Что уже голова побелела
И уже настоящее дело
В эти годы во мне началось.
И когда, словно с бука лесного,
Страсть слетает – шальная листва,
Обнажается первооснова,
Голый ствол твоего существа.
Открывается графика веток
На просторе осенних небес.
И не надо случайных чудес —
Однодневок иль однолеток.
Эй, листва! Постарей, постарей!
И с меня облетай поскорей!
1961
«– Не отрывайся, – мне сказали…»
– Не отрывайся, – мне сказали.
Не оторвусь! Не оторвусь!
Страна моя, твоей печали,
Твоей надежде отзовусь.
Узлы дорог, лесное лыко,
И цепи гор, и петли рек,
И конопля и повилика
Нас приторочили навек.
Нет, не сады, не вертограды
Благословили наш союз.
Но от кладбищенской ограды
Не оторвусь, не оторвусь!
Там долгие уже недели
Спит мой отец в простом гробу.
От этой смертной колыбели
Я оторваться не могу.
Ложатся на мое оплечье
Скрещенья твоего ремня.
Как оторвусь я от наречья,
Что переполнило меня!
Пусть будут злобствовать мещане,
Пусть трижды отречется трус,
Пусть будут рвать меня клещами —
Не оторвусь! Не оторвусь!
1961
«Таким, как ты придумала меня…»
Таким, как ты придумала меня,
Я не умею быть… Не тут-то было!
Но я умею верить, хоть полдня,
Что я такой, как ты вообразила.
Почти полдня!.. И я почти такой.
И только зеркала страшусь, как в детстве.
Да, я почти такой, пока – покой
И от меня не требуется действий.
Там я иной. Уже не отраженье,
Не твой двойник, не благостная тень.
Бессильно все твое воображенье,
Чтоб образ мой соединился с тем.
И все же занесенная рука
Вдруг застывает… Потому что снова
Боюсь поранить я того, иного,
Несуществующего двойника.
1961
Осень («Вот опять спорхнуло лето…»)
Вот опять спорхнуло лето
С золоченого шестка,
Роща белая раздета
До последнего листка.
Как раздаривались листья,
Чтоб порадовался глаз!
Как науке бескорыстья
Обучала осень нас!
Так закутайся поте́пле
Перед долгою зимой…
В чем-то все же мы окрепли,
Стали тверже, милый мой.
1961
«Слово льется…»
Слово льется – Все удается!
Лишь покручивай вороток,
Да почерпывай из колодца,
Да выплескивай на лоток.
А бывает —
Иссякнет слово,
Хоть клещами его тащи.
И ни доброго, и ни злого —
Никакого – ищи-свищи!
Вы за то с меня не взыщите!
И не будьте со мной круты!
Я и сам молю о защите,
О спасенье от немоты.
Но я верю,
Что подобреет.
И тогда немота не в счет!
И проклюнется, и созреет,
И польется, и потечет!
1961
«Читаю умный свой дневник…»
Читаю умный свой дневник
Военный и передвоенный.
Там нет меня. Там мой двойник,
Восторженный и вдохновенный.
Как он умен! И как высок!
Как любит он во все соваться!
С чего он выдумал, щенок,
Передо мною красоваться!
Но он есть я, а я есть он,
И я люблю себя иного,
Я с ним навек соединен —
Ведь я уток, а он основа.
И, видно, в крепкую холстину
Сплелись мы сами по себе…
И я, как собственному сыну,
В нем не завидую себе.
1961
Карусель
Артельщик с бородкой
Взмахнул рукавом.
И – конь за пролеткой,
Пролетка за конем!
И – тумба, и цымба!
И трубы – туру!
И вольные нимбы
Берез на ветру.
Грохочут тарелки,
Гремит барабан,
Играет в горелки
Цветной балаган.
Он – звонкий и легкий —
Пошел ходуном.
И конь за пролеткой,
Пролетка за конем!
То красный, как птица,
То желтый, как лис.
Четыре копытца
Наклонно взвились.
Летит за молодкой
Платочек вьюном.
И – конь за пролеткой,
Пролетка за конем!..
Сильнее на ворот
Плечом поднажать,
Раскрутишь весь город,
Потом не сдержать.
За городом роща,
За рощею дол
Пойдут раздуваться,
Как пестрый подол.
Артельщик хохочет —
Ему нипочем:
Взял город за ворот
И сдвинул плечом.
1961
Деревянный вагон
Спотыкался на стыках,
Качался, дрожал.
Я, бывало, на нарах вагонных лежал.
Мне казалось – вагон не бежал, а стоял,
А земля на какой-то скрипучей оси
Поворачивалась мимо наших дверей,
А над ней поворачивался небосвод,
Солнце, звезды, луна,
Дни, года, времена…
Мимо наших дверей пролетала война,
А потом налетали на нас «мессера».
Здесь не дом, а вагон,
Не сестра – медсестра,
И не братья, а – братцы,
Спасите меня!
И на волю огня не бросайте меня!
И спасали меня,
Не бросали меня.
И звенели – ладонь о ладонь – буфера,
И состав
Пересчитывал каждый сустав.
И скрипел и стонал
Деревянный вагон.
А в углу медсестра пришивала погон.
А в России уже начиналась весна.
По откосам бежали шальные ручьи.
И летели недели, года, времена,
Госпитальные койки, дороги, бои,
И тревоги мои, и победы мои!
1950-е – 1961
Бертольд Шварц Монолог
Я, Шварц Бертольд, смиреннейший монах,
Презрел людей за дьявольские нравы.
Я изобрел пылинку, порох, прах,
Ничтожный порошочек для забавы.
Смеялась надо мной исподтишка
Вся наша уважаемая братья:
«Что может выдумать он, кроме порошка!
Он порох выдумал! Нашел занятье!»
Да, порох, прах, пылинку! Для шутих,
Для фейерверков и для рассыпных
Хвостов павлиньих. Вспыхивает – пых! —
И роем, как с небесной наковальни,
Слетают искры! О, как я люблю
Искр воркованье, света ликованье!..
Но то, что создал я для любованья,
На пагубу похитил сатана.
Да, искры полетели с наковален,
Взревели, как быки, кузнечные меха.
И оказалось, что от смеха до греха
Не шаг – полшага, два вершка, вершок.
А я – клянусь спасеньем, Боже правый! —
Я изобрел всего лишь для забавы
Сей порох, прах, ничтожный порошок!
Я, Шварц Бертольд, смиреннейший монах,
Вас спрашиваю: как мне жить на свете?
Ведь я хотел, чтоб радовались дети.
Но создал не на радость, а на страх!
И порошочек мой в тугих стволах
Обрел вдруг сатанинское дыханье…
Я сотворил паденье крепостей,
И смерть солдат, и храмов полыханье.
Моя рука – гляди! – обожжена,
О Господи, тебе, тебе во славу…
Зачем дозволил ты, чтоб сатана
Похитил порох, детскую забаву!
Неужто все, чего в тиши ночей
Пытливо достигает наше знанье,
Есть разрушенье, а не созиданье,
И все нас превращает в палачей?
1961
Дневник («Писал при свете фитилька…»)
Писал при свете фитилька
Дневник. Страницы дневника
Еще дышали жаром боя,
Азартом русского штыка,
Огнем возвышенных мгновений,
Разрозненностью впечатлений.
Писал французский свой дневник
Поручик русский,
ученик
Парни, Шенье, Дидро, Декарта
И ненавистник Бонапарта.
Писал округло и легко
О том, как был хорош Нико,
Его наперсник и приятель,
Как был упорен неприятель,
Как дрогнул было левый фланг,
О том, как был ужасен вид
Отбитых у французов флешей,
Что Пестель-прапорщик как леший
Дрался и, кажется, убит.
Писал возвышенным пером
Про славный подвиг генерала…
Писал…
Кругом огни привала
Дымились. Осень простирала
Свои печальные поля.
И ветер в гренадерских соснах
Гудел, как мачты корабля…
Откуда было знать ему,
Поклоннику чужого слога,
Что приведет его дорога
В Москву, и дальше, за Москву,
Через леса, через болота,
Пургой продутые насквозь,
Где воспитанье патриота
Недавно только началось!
Пиши, герой!
Пари, поручик,
Подобно легкому перу,
Пусть совесть будет твой попутчик
В бою, в Париже, на пиру.
И может быть, в том декабре
В рядах мятежного каре
Ты будешь стынуть на Сенатской.
И там направишь пистолет
На боевого генерала,
Героя прежних юных лет.
Но та десница, что карала
Врага, вдруг дрогнет… Странный век!
Ты пистолет уронишь в снег.
Пиши, пиши! Сверкай очами!
Поет походная труба,
Дымят костры… А за плечами
России грозная судьба.
Не позднее 1962
«И вот опять арбатские проулки…»
И вот опять арбатские проулки
Передо мной лежат, как сто сердец.
Счастливые и краткие прогулки
Здесь падали, как чудеса с небес.
Я был счастлив хотя бы пять мгновений
И понимал, что это счастье – ложь.
Я был с собой стократно откровенней
И был готов, как узник, на правеж.
Казни меня, моя любовь святая,
Уничтожай, уничижай и режь,
И угнетай, бесстрашно подавляя
Во мне внезапно вспыхнувший мятеж.
Что я могу? Лишь скорбно поклониться
На все четыре стороны. Прощай!
Казни меня, казни во мне провидца.
Ты радости и счастья не прощай!
И ничего на свете не прощай!
Около 1962
Утро
Старых пней медвежьи барабаны,
И дубов шатры, и балаганы,
И трава со слюнками росы,
И железное перо вороны —
Открывают мне свои законы,
Доверяют мне свои азы.
Наконец-то я познал науку
И внимаю смыслу, а не звуку,
Ветру, а не шелесту травы.
Что мне этот шорох, что мне лепет,
Что мне шепот будничной молвы!
1962
Холод
Этот холод – до чего приятен
Шапкам, рукавицам, рукавам.
Он сосульки к желобам приладил,
К берегам потоки приковал.
Длинный дым над трубами недвижен,
Голубые липы не звенят.
И предельно горизонт приближен
И провис, как ледяной канат.
И столбы высоковольтных линий,
Как канатоходцы, на весу
В высоте несут тяжелый иней
По прямому просеку в лесу.
1962
Рисунок
Марии Кросс
Как весело рисуют дети
Доверчивые чудеса —
Не Истину и Добродетель,
А человечка или пса.
И пес неистов и оранжев,
В зубах зеленое: «Гав-Гав!»
И, радуги разбудоражив,
Конь скачет о шести ногах.
А над конем летит сорока,
Летит дорога под коня,
Хохочет солнце кособоко
И улыбается луна.
И человечек-огуречек
С овальным розовым брюшком,
Так беззаботен, так доверчив,
На том коне сидит бочком.
Он твердо знает, что доскачет,
Застенчивый до немоты,
И в руки маленьких циркачек
Положит красные цветы…
Дитя! От мыслей безрассудных
Меня чертою отдели.
Пусти, пусти меня в рисунок
И в добром мире посели!
1962
«Соловьи не прельщают мотивом…»
Соловьи не прельщают мотивом,
Но уж свищут – так вволю и всласть.
Потому в этом свисте ретивом
Людям чудится высшая страсть.
Как вмещается в маленьком горле
Это бульканье, щелканье, свист?
Видно, малое сердце расперли
Сотни самозабвенных обид.
Хорошо, что в порыве, повторе
Только страсть – не чужая, своя,
Что не требует аудиторий
Исступленная страсть соловья.
Тот запрятанный в пух темперамент
Словно ствол округлившимся ртом,
Как звенящая пуля, дырявит
В нёбо вклеенный лучший патрон.
Пулю в пулю сажает в десятку
Расшалившееся существо.
И трепещет победно и сладко
Крови капелька – сердце его.
1962
Матадор
Скорей, скорей! Кончай игру
И выходи из круга!
Тебе давно не по нутру
Играть легко и грубо.
Пока злащеный рог быка
Тебя не изувечил
Под исступленный свист райка
И визг жестоких женщин,
Пока убийцею не стал,
Покуда ножевого
Клинка мерцающий металл
Не поразил живого —
Беги! Кончай игру! Скорей!
Ты слышишь, как жестоко
Сопенье вздыбленных ноздрей,
Как воет бычье око!..
…Ты будешь жить на берегу
В своей простой лачуге,
Не нужный прежнему врагу,
Забыв о прежнем друге.
И только ночью волн возня
Напомнит гул, арену.
И будет нож дрожать, дразня,
На четверть вбитый в стену…
1962
Ночная гроза
Тяжелое небо набрякло, намокло.
Тяжелые дали дождем занавешены.
Гроза заливает июльские стекла,
А в стеклах – внезапно – видение женщины.
Играют вокруг сопредельные громы,
И дева качается. Дева иль дерево?
И переплетаются руки и кроны,
И лиственное неотделимо от девьего.
Как в изображенье какого-то мифа,
Порывистое изгибание стана,
И драка, и переполох, и шумиха
С угоном невест, с похищением стада.
Она возникает внезапно и резко
В неоновых вспышках грозы оголтелой,
Неведомо как уцелевшая фреска
Ночного борения дерева с девой.
С минуту во тьме утопают два тела,
И снова, как в запечатленной искусством
Картине, является вечная тема —
Боренья и ребер, ломаемых с хрустом.
1962
Старик Державин
Рукоположения в поэты
Мы не знали. И старик Державин
Нас не заметил, не благословил…
В эту пору мы держали
Оборону под деревней Лодвой.
На земле холодной и болотной
С пулеметом я лежал своим.
Это не для самооправданья:
Мы в тот день ходили на заданье
И потом в блиндаж залезли спать.
А старик Державин, думая о смерти,
Ночь не спал и бормотал:
«Вот черти! Некому и лиру передать!»
А ему советовали: «Некому?
Лучше б передали лиру некоему
Малому способному. А эти,
Может, все убиты наповал!»
Но старик Державин воровато
Руки прятал в рукава халата,
Только лиру не передавал.
Он, старик, скучал, пасьянс раскладывал.
Что-то молча про себя загадывал.
(Все занятье – по его годам!)
По ночам бродил в своей мурмолочке,
Замерзал и бормотал: «Нет, сволочи!
Пусть пылится лучше. Не отдам!»
Был старик Державин льстец и скаред,
И в чинах, но разумом велик.
Знал, что лиры запросто не дарят.
Вот какой Державин был старик!
1962
«Как объяснить тебе, что это, может статься…»
Вс. И.
Как объяснить тебе, что это, может статься,
Уж не любовь, а смерть стучится мне в окно
И предстоит навеки рассчитаться
Со всем, что я любил, и с жизнью заодно.
Но если я умру, то с ощущеньем воли.
И все крупицы моего труда
Вдруг соберутся. Так в магнитном поле
Располагается железная руда.
И по расположенью желтой пыли —
Иначе как себя изображу? —
Ты устремленность всех моих усилий
Вдруг прочитаешь как по чертежу.
1962
«Непонятны нам сыновья и дочери…»
Непонятны нам сыновья и дочери.
До чего дожили!
Нам не верят дочери с сыновьями.
Зря мы разливаемся соловьями.
Говорят: как же вы допустили?
Как спокойно спать могли в постели?
Как же вы себе не опостылили?
Неужели вы совсем опустели?
Мы в постели глаз не смыкали,
Слушали, стрельнет ли дверь в подъезде.
Лишь в окопе мы спокойно спали,
Положив под голову созвездья.
Жили мы разно и розно,
Так, что часто о себе не помнили.
Родились мы рано или поздно.
Жаль, от пули вовремя не померли.
И чернили мы себя до́черна,
Хоронили себя заживо в яме.
Знали: не поверят нам сыновья и дочери,
Не простят нас дочери с сыновьями.
1962
«Ах, Господи! Ужель нужны нам судьи!..»
Ах, Господи! Ужель нужны нам судьи!
Когда и так я сам себя виню.
Не в том, что мы слабы и безрассудны,
А в том, что не подвержены огню.
А в том, что лишь твердеем, словно глина,
И остываем сердцу вопреки,
А судьи судят нас легко и длинно
И тщатся склеить наши черепки.
1962
«Дописывая этот стих…»
Дописывая этот стих,
Я вспомнил про его начало.
Оно негромко прозвучало,
Стих шевельнулся и затих.
Он пробуждался, как медведь,
Засевший на зиму в берлоге.
Уже глаголы и предлоги,
Как лапы, стали в нем неметь.
И вот он вылез – мокрый, тощий,
Облизан липкою весной,
Снегов обламывая толщи —
И потянулся всей спиной.
И вдруг взревел, и вдруг запел
Всей глоткой, всем волнистым нёбом,
Так заорал он над сугробом,
Что я и сам оторопел.
И стал он весел, потому,
Что стих не может быть невесел,
Он весел от ноздрей и чресел,
И очень хорошо ему
Вдыхать, дышать, реветь, стонать,
Бесчинствовать и бесноваться,
Обламывать и обминать
И с гласными согласоваться.
От А до О,
От О до Ю,
От Ю до Ы —
Какие звуки!
Изогнутые, как излуки,
Как реки, из которых пью.
И это я ору, пою
Дуплом огромной носоглотки,
Радующийся бытию,
Хлебнувший звуков, словно водки.
Как хорошо, что темнота,
Что пахнет лесом, ливнем, глиной,
Что сотни гласных изо рта
Выкатываются лавиной.
Вот и пошло! Теперь не трусь!
Куда девалась лень былая!
За что угодно я берусь,
Отказываться не желая.
1962
«И снова будут дробить суставы…»
И снова будут дробить суставы
И зажимать кулаками рты
Поэты ненависти и славы
Поэтам чести и доброты.
И снова в злобе полночных бдений
Злодейство будет совершено.
И снова будет смеяться гений
И беззаботно тянуть вино…
1960–1962
«Я рад, что промахнулся, Генрих Белль…»
Я рад, что промахнулся, Генрих Белль,
Что в то мгновенье духом оробел
И пуля сбила только кисть рябины.
Кровь дерева упала в глубь травы…
Мне кажется, что это были вы,
Такой же, как и я. Почти такой же.
Я понял в этот миг, что мы похожи.
Я понял, Генрих Белль, что это вы,
Когда увидел в прорези прицела
Согбенную округлость головы,
Порыв и страх согнувшегося тела,
Шинели вашей грязное пятно.
Я вдруг почувствовал, что я не вправе
Решать за Бога, жить вам иль не жить,
И то, что я не волен вас судить.
Я с облегченьем передоверял
Вам роль судьи. На спусковом крючке
Застыл мой палец. Ну, стреляйте, Генрих!
Вам сразу пять секунд дается верных!
Стреляйте, если можете стрелять.
И просвистела пуля. И опять
Мне на плечо скользнула кисть рябины,
Кровь дерева упала в глубь травы.
На сей раз, Генрих, промахнулись вы.
Да, между нами не было войны,
Мы заключили с вами перемирье.
Но только вы и я. Ведь рядом в рост
Вставал фашист, вояка и прохвост,
Убийца, освенцимский ницшеанец…
Стреляйте, Генрих! Уступаю вам,
Дарю вам, Белль, свой самый лучший выстрел…
Вы опустили автомат. Увы!
Мне кажется, что это были вы!
Но я не промахнулся, Генрих Белль!
Я выстрелил. И в прорези прицела
Я увидал, как оседает тело.
Немудрено попасть в такую цель!
1962
Красная осень
Внезапно в зелень вкрался красный лист,
Как будто сердце леса обнажилось,
Готовое на муку и на риск.
Внезапно в чаще вспыхнул красный куст,
Как будто бы на нем расположилось
Две тысячи полураскрытых уст.
Внезапно красным стал окрестный лес
И облако впитало красный отсвет.
Светился праздник листьев и небес
В своем спокойном благородстве.
И это был такой большой закат,
Какого видеть мне не доводилось.
Как будто вся земля переродилась —
И я по ней шагаю наугад.
1962
Наташа («Круглый двор…»)
Круглый двор
с кринолинами клумб.
Неожиданный клуб
страстей и гостей,
приезжающих цугом.
И откуда-то с полуиспугом —
Наташа,
она,
каблучками стуча,
выбегает, выпархивает —
к Анатолю, к Андрею —
Бог знает к кому! —
на асфальт, на проезд,
под фасетные буркалы автомобилей,
вылетает, выпархивает без усилий
всеми крыльями
девятнадцати лет —
как цветок на паркет,
как букет на подмостки, —
в лоск асфальта
из барского особняка,
чуть испуганная,
словно птица на волю —
не к Андрею,
Бог знает к кому —
к Анатолю!..
Дождь стучит в целлофан
пистолетным свинцом…
А она, не предвидя всего,
что ей выпадет вскоре на долю,
выбегает
с уже обреченным лицом.
1962
«Я рано встал. Не подумав…»
Я рано встал. Не подумав,
Пошел, куда повели,
Не слушая вещих шумов
И гулов своей земли.
Я был веселый и странный,
Кипящий и ледяной,
Готовый и к чести бранной,
И к слабой славе земной.
Не ведающий лукавства,
Доверчивый ко словам,
Плутал я – не заплутался,
Ломал себя – не сломал.
Тогда началась работа
Характера и ума,
Восторг, и пот, и ломота,
Бессонница, и луна.
И му́ка простого помола
Под тяжким, как жернов, пером,
И возле длинного мола —
Волны зеленой излом…
И солоно все, и круто,
И грубо стало во мне.
И даже счастья минута.
И ночь. И звезды в окне.
1962
«О Господи, конечно, все мы грешны…»
О Господи, конечно, все мы грешны,
Живем, мельчась и мельтеша.
Но жаль, что, словно косточка в черешне,
Затвердевает камешком душа.
Жаль, что ее смятенье слишком жестко,
Что в нас бушуют кровь и плоть,
Что грубого сомнения подростка
Душа не в силах побороть.
И все затвердевает: руки – в слепок,
Нога – в костыль и в маску – голова,
И, как рабыня в азиатских склепах,
Одна душа живет едва-едва.
1962
«Музыка, закрученная туго…»
Музыка, закрученная туго
в иссиня-черные пластинки, —
так закручивают черные косы
в пучок мексиканки и кубинки, —
музыка, закрученная туго,
отливающая крылом вороньим, —
тупо-тупо подыгрывает туба
расхлябанным пунктирам контрабаса.
Это значит – можно все, что можно,
это значит – очень осторожно
расплетается жесткий и черный
конский волос, канифолью тертый.
Это значит – в визге канифоли
приближающаяся поневоле,
обнимаемая против воли,
понукаемая еле-еле
в папиросном дыме, в алкоголе
желтом, выпученном и прозрачном,
движется она, припав к плечу чужому,
отчужденно и ненапряженно,
осчастливленная высшим даром
и уже печальная навеки…
Музыка, закрученная туго,
отделяющая друг от друга.
1962
«Странно стариться…»
Странно стариться,
Очень странно.
Недоступно то, что желанно.
Но зато бесплотное весомо —
Мысль, любовь и дальний отзвук грома.
Тяжелы, как медные монеты,
Слезы, дождь. Не в тишине, а в звоне
Чьи-то судьбы сквозь меня продеты.
Тяжела ладонь на ладони.
Даже эта легкая ладошка
Ношей кажется мне непосильной.
Непосильной,
Даже для двужильной,
Суетной судьбы моей… Вот эта,
В синих детских жилках у запястья,
Легче крылышка, легче пряжи,
Эта легкая ладошка даже
Давит, давит, словно колокольня…
Раздавила руки, губы, сердце,
Маленькая, словно птичье тельце.
1962