Текст книги "Один день. Три новеллы о необратимости"
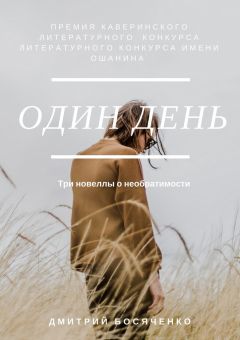
Автор книги: Дмитрий Босяченко
Жанр: Драматургия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
4. Сумрачный лес
Весь оставшийся путь он просто был рядом. В достаточной мере чокался, откликался на шутки любым неопределенным жестом. Выпивал, молчал, иногда улыбался, чего вполне хватало, для того чтобы оставаться частью компании, даже без желания на то. Слушал рваные разговоры. Некоторым даже внимал.
– А я вот слышала, что по весне на заливе стали все чаще находить тушки мертвых тюленей! Сначала детенышей находили. Из-за жары, говорят. А в последнее время и взрослые тюлени стали попадаться. Самки. Не понятно почему. Говорят, что они от тоски. Выбрасываются на берег вслед за своими детенышами. Прям, как киты. Интересно, правда?
– И весьма сомнительно, – встрял впервые Федор Павлович.
– Что вы говорите?
– Я говорю чудеса какие-то.
– Почему?
– В то, что детеныши, унесенные в открытые воды, погибают и оказываются на берегу, я могу поверить. Но вот взрослые самки? Они вполне могут справиться и с волнами, и с течением. У тюленей это никогда не замечалось. Ученые предполагают, что касатки способны выбрасываться на берег из-за гибели сородичей или вожака и то это не доказано. А вот, чтоб тюлени… вряд ли.
Девчонка, начавшая тему, в ответ лишь подернула плечами. Ей, в общем-то, было все равно.
Вы ученый? – поинтересовался пучеглазый.
Нет. Преподаватель.
А что преподаете?
Естественные науки, так скажем.
А, ну тогда все понятно!
Продолжили трепаться дальше на новые темы, скользя с одной на другую бесшовно: новости, кино, музыка, футбол, политика. Что им стало про него понято, Федор Павлович так и не узнал.
Скоро прибыли. Как оно всегда случается, все забыли друг о друге, стоило им высыпать на перрон нужной станции. Народ дружно выгрузился из вагонов, тут же засеменил в сторону залива, и скоро шумной своры не стало – она разбросалась мелкими гроздями, стихла, как будто кто-то медленно выкрутил регулятор громкости на радио, поймавшем несколько волн сразу.
Федор Павлович вышел последним, избежав толчеи. Проводил взором неугомонную свору своих новых знакомых, с коими не успел проститься, да и не хотел, и сел на лавочку, не зная и не пытаясь даже думать о том, что ему делать теперь. Электропоезд почти бесшумно поплыл дальше, нагнав лишь ветру. Федор Павлович грохнул пустую бутылку от пива в пустую металлическую урну. И пустоты, помножившись одна на другую, спели короткую стальную песню. Сплюнул под ноги, растянув густую кашицу слюны. Задумал было пожариться на солнце. После чего перейти на другую сторону и уехать обратно с первой же электричкой, а там сразу, как есть на похороны, вдруг удастся еще купить билеты, вдруг успеется еще. Но тут же вылупился в никуда перед собой, не желая людей, но ожидая чего-то, что заберет его с собою дальше от этих мыслей, от необходимости принятия решения. А дождавшись, с полминуты с ложной задумчивостью в позе, изучал трещинки в асфальте, копошившихся в них муравьёв, натужно делая вид, что не замечает тени рядом.
То была желтокурая девочка лет пяти с жиденькими волосиками из редких завитушек, чрез которые виделась розовато-белесая кожа. В разлетном летнем платьице и белых сандаликах она стояла над ним и смотрела испытующим взором в своих любопытных детских глазах – большущих, реснитчатых. Федор Павлович броско взглянул на нее и снова уперся в асфальт. Задрал шею с намерением поздороваться, познакомиться, сделать юной особе комплимент, но вместо ее лица встретился с извечно низким Петербургским солнцем, висящим над её головой. Ослепляюще-яркое оно жарко влилось в глаза. Он тут же отвернулся, зажмурился на секунду. Увлажнились ошпаренные светом веки. Втянул воздуху сквозь зубы, издав песочный звук, как это делает всякий, когда щиплет рану.
Она хихикнула. Будто булькнула в воду монетка.
Марина! – послышался далекий и встревоженный женский голос, – Марина, иди сюда!
Марина не шелохнулась. Федор Павлович все тер глаза, – Кажется, кто-то совсем не хочет на море! – и задробили по асфальту крохотные каблучки.
Путь к заливу лежал чрез сосновую аллею, что начиналась совсем близко за дырявой дорогой, шедшей вдоль путей. Пересекая её, недалеко от разметки перехода, Федор Павлович заметил останки дворняги. Серо-бурое месиво из шерсти и внутренностей. Круглый почти плоский труп, втертый в асфальт. Все что осталось. А было живым, думалось ему.
Аллея была довольно дремучей, сумрачной, несмело одомашненной дачными домиками, да мусором шашлычников. От леса веяло прохладой. Зеленухой шелестя, в верхах маялась жизнь. Понизу в потемках бушевал папоротник.
Людей на пути к заливу было не счесть. Одни обгоняли Федора Павловича, иные плелись в схожем темпе: парни с голым торсом, девчонки в купальниках, одинокие тучные дамы, целые семейства с надувными кругами. Все они были целенаправлены и напряжены, хоть и старались друг другу смеяться, будто исходили от надвигающейся катастрофы, которая, быть может, еще не случилась, но близилась. Федор Павлович этой беды не боялся, ступал по краюшку дороги подчеркнуто неспешно.
Иногда сюда вторгался хулиганистый ветер, и все тогда в лесу принималось скандалить, что слабонервные тетки на рынке; шумно ругаться листвою, встревожено грозить ветвями, бесновато качаясь туда-сюда, гоня так нарушителя спокойствия. И чем ближе к заливу, тем чаще – весь мир, казавшийся в минуты дремотного своего затишья не более чем плоской декорацией, целиком начинал шевелиться, искажать формы и выдавливать объем; биться, как младенец в утробе.
Прибавилось солнца. Влился в воздух удушливый жар. Мокрой тряпкой пристала рубашка к спине и взмокшие ладони скоро стали ко всему прилипчивы, точно вымазали их ночью подтопленными медом. Однако в ту же секунду лес остужал с боков, охлаждал виски, снимал в них боль и усталость в ногах. И в таком перманентном контрасте атмосфер, в предельном приближении ко всему живому, Федор Павлович ощутил пронзительно ясное секундное касание благодати, как перед последним ударом, как перед сердечным приступом. Чего испугался и скорее нагнал теней на скулы.
– Белка! – грохнула девчонка впереди и ткнула в пространство ровно выставленную руку с указательным пальцем, – Белка! – повторила она и все побежали вперед ближе к осмелевшему зверьку, подошедшему к самому краю дороги.
Федор Павлович остановился. Руки пустил в широкие карманы летних брюк и там за кулисами сжал кулаки. На асфальте у самых ног, чуть подергивая лапками, на спинке барахтался жирный майский жук. Из последних сил давал понять, что живой. Помешкав самую малость, Федор Павлович с наслаждением, не спеша раздавил его, втерев в асфальт, самой ногой впитав приятный слуху хитиновый хруст издыхающего насекомого.
Вдалеке уже виднелась лавчонка, где Федор Павлович задумал купить съестного, спичек для костра и пару бутылок красного сухого; от водки и ладе мыслях о ней в такую жару воротило. Значит залив был уже близок. Посреди дороги, так что их обходил людской поток, волнорезом выросли трое парней в тельняшках. Они курили в ожидании отставшего. Как один все морщились, затягиваясь, часто и густо сплевывали под ноги. Менялись холостыми репликами, в которых лишь предлоги не были руганью, натужно шутили, с глухими грудными стараниями давили смех. Один из них пытался прикурить очередную сигарету. Зажигалка давала одну осечку за другой, а сработав, вспыхнула худым и высоким пламенем, несильно опалив парнишке нос и брови. Дружки его громыхнули, наконец, настоящим смехом. Федор Павлович вздрогнул, в то же время обходя их стороной, но не от правдивости звуков. Колкой струйкой в самые ноздри юркнул сладкий аромат жженой плоти, который Федя любил, потому что находил в нем сходство с запахом жженого сахара. Мать обычно готовила его, когда Федя болел. Помогало от кашля. И сейчас вот с порога он почуял его. Значит снова жарит, значит запомнила, выходит почуяла, что сегодня вернется. Уходя на прошлых выходных из дому, он заболевал, ухал сухими бронхами на всю квартиру. На том же пороге, не успев прихорошиться после недельной гулянки, получил грандиозную взбучку. Прямо в коридоре сестра трепанула его за грудки и видно было хотела ударить и каких же сил стоило ей сдержаться. Федя же пытался не ерничать, не из добрых побуждений, но всерьез испугавшись ярости старшей сестры – никогда он ее такой не видел, хотя в планах были: едкая ухмылка, дерзкий взгляд, нарочитое спокойствие, так если бы отсутствовал он всего пару часиков. Зачуяв Федин мандраж, который легко считывался и с лица и с трясущихся рук, Аля взялась лютовать словами. Рассказала, что они не спали ночами, обзвонили родителей всех знакомых и что он: ублюдок, отродье, паразит и подонок. Кроме всего прочего, потревожены были: милиция, МЧС и даже морг. Завершила тираду: «Ты мать в гроб уложишь! Точно тебе говорю. Тварь». Ушла в спальню, хлопнув дверью. Тут же вырвалась обратно, отчего Федя встрепыхнулся, решив, что теперь она точно двинет его чем-нибудь тяжелым.
– Попроси хоть у матери прощения. Она столько слез пролила, смотреть на неё больно было. А ко мне не подходи даже, а то убью, честное слово!
Всю неделю его не было дома. Как полагается шестнадцатилетнему, кутил, гулял напропалую, оставаясь у иногородних знакомых постарше, что снимали квартиры, либо жили в студенческом общежитии. Пил. Пили они тогда много и желательно какой-нибудь дряни, от которой под утро выворачивало кишки, а изо рта несло смертью. Случилось то не впервой. Периодически он делал вид, что она звонит то и дело, отходил и говорил, что умалишенный, с пластмаской старого мобильника. Бранился с тишиной, грубил ей погромче делая голос, чтоб мальчишкам было слышно, какой он с мамой грозный, грубый, своенравный. И после, выругнувшись «да пошла она к черту!», гулял сколько хотел. По случаю и без рассказывал дружкам, что его «типичная сумасшедшая мамочка» не дает ему прохода и жизни. В самом же деле она его никогда не держала на привязи, не ограничивала, но просто ждала. Не спала, волновалась, но и не звонила, давала волю и по приходу ему ничего не высказывала, кроме одной и той же фразы, беззлобно и тихо: «Ну зачем же ты так? За что?» Вот только на сей раз он побил все рекорды. Намеренно. Семь дней его не было дома. Семь бесконечных для матери суток.
Федя выждал, боясь третьего выхода сестры. Чуть погодя разулся. Почистил зубы. Побрёл покорно на кухню, где мать жарила сахар, тушила мясо и резала овощи к обеду, как всегда делала все сразу. Стояла спиной. Посматривала иногда в окно. Он подошел ближе. В попытке первой, расчетливо-робкой, приобнял ее за плечи. Она руки не сбросила. Тогда он прижался сильнее, обхватил её кругом, сцепив ладони, заключил в кольцо. Захныкал. Слез было мало. Но он упорно давился, пускал слюни. Затараторил: «прости, прости»…
– Спасибо, что ты вернулся, – не оборачиваясь, только и сказала она бесцветным голосом.
В эту же секунду в нем что-то окончательно переключилось.
– Да разве так можно?
– Как так? – она развернулось к нему лицом.
– Так сразу прощать!
Он кричал. Сломанным голосом. Звонко, что девчонка.
Она молчала.
– Зачем ты из себя ангела строишь? Почему ты меня ни разу в жизни не ударила, не наорала на меня, не обозвала? Да неужели можно так…
– Любить?
– Да! Нечеловечески. Ты, что не понимаешь, что меня это убивает! Я как по рукам и ногам связанный, а я свободы хочу! Я своей хочу жизнью жить и ничем тебе не быть обязанным. Понимаешь?
– Понимаю.
– И что?
– Но разве я у тебя что-то прошу, в чем-то упрекаю?
– В том то и дело, что нет! Ничего ты не понимаешь…
Отойдя на шаг, прямо на кухне, хватая ароматы лука и петрушки, утирая слезы, Федя твердо решил во что бы то ни стало поступить в иногородний университет, уехать отсюда и желательно как можно дальше, сменить жизнь на другую. На новую. Без нее. Никогда он ее не сломит, не победит ее любовь, каким бы жестоким не был, а от себя, от каждой новой выходки становилось ему все гаже.
– В таком случае мне нужно исчезнуть. Сама я ничего сделать не смогу. Ты же мой сын. Все я понимаю, все. Но ты же мой сын, – бормотала она, повернувшись спиной обратно к плите. Упустила сахар. Подгорел.
Федя в ответ смолчал. Пошел на балкон. Обнаглев в конец, закурил. Глубоко и подряд, чтоб ударило в голову. Тремя вдохами сожрал сигарету до половины. Ударило. Подкосило в коленях вдобавок. Приятно обмякло тело. Он присел на корточки. Плюнул в руку, кисть пальцами собрав в кулек. Стряхнул туда пепел. Посмотрел на ладонь, на линии, бугры и складки. Обтер ее о шорты, и еще раз вглядевшись, что гадалка, всадил в самый центр окурок. Зашипел вместе с ним и держал долго, пока не затушил, оставив идеально круглую сочную рытвину ожога, ухватывая носом тонкую струйку дыма и сахарный аромат опаленной плоти, которая в ту же секунду и в том же месте завопила от боли, но уже не в прошлом. Боль свела два времени воедино. Шумел лес, ближе к заливу все больше подражая морю. Прежде нечто тонко кольнуло в средь ладони, за проколом будто трескнул электрический заряд под кожей, прошелся колко по мясцу и до самой кости, а следом зажгло на коже непереносимо, как в тот самый раз на балконе. Федя рефлекторно сжал руку в кулак, вытаращил на него глаза и почувствовал, что там что-то бьется. Оса. Измятая, полудохлая, но еще бойкая. Снова сжал ее. Под пальцами лопнуло и замокрило, как от раздавленной спелой ягоды. Выбросил в траву.
Ближе к заливу земля бугрилась местами. Песчаная почва поднимала деревья еще выше к небу, сама со временем осыпалась, отчего на одном из холмиков у дороги, ровно срезанном сбоку, неудачливая сосна непристойно обнажилась наполовину, выпростала корни из земли. Они змееподобно выбрасывались в полурывке и застывали изгибисто в мученической позе. Превращались в одеревенелые струи, впечатляя своим зловещим уродством. Оголенные корни походили на щупальца осьминога, такие же мясистые у основания и истончающиеся к концу. Некоторые из них угрожающе нависали, другие жадно впивались обратно по дуге в песчаный откос, и чувствовалась в них застылое напряжение, виделось воплощение несгибаемой воли. Потеряв всякое благородство и красоту, они бессмысленно боролись за жизнь и было видно, что никогда не сдадутся.
Недружной гурьбой все шедшие добрались до залива, прежде учуяв еле уловимый и неопознанный пока запах. Прям перед носом Федора Павловича порхнула крупная белая бабочка с карими глазами на крыльях. Сам же залив был еще скрыт за невысокой, но длиннющей дюной, перекрывавшей вдоль весь берег, защитным рвом отделяя воды от лесных массивов. «Морем пахнет», – заговорила округа, доступная уху Федора Павловича. «А чем пахнет море»? И понеслись ответы: гнилыми водорослями, лекарствами, говном, прошлым.
На широком пляже торчали изгоями редкие аномальные сосны, словно средь пустыни. Их стволы были чуть наклонены от моря, вечно подернуты в сторону леса. Так и они застыли, согнанные когда-то, в жесте возвращения, в вечном прощальном кивке. Нависало низкое ядовито-синее небо с бледно-циановыми переливами к горизонту. И отовсюду был гомон и запах жарившегося мяса и кожу щекотал трепетный бриз.
По одну сторону дюны ближе к лесному холодку и теням, народ разбивал палатки, стелил одеяла, жарил шашлык. За дюной расположилось тюленье стадо отдыхающий. Одни загорали, другие прогуливались вдоль берега с задранными штанинами, иные даже купались в ржавых водах залива и с виду были тому несказанно счастливы. Мамаши цедили пиво, папаши цедили пиво, детишки плескались в воде. Молодежь отдыхала разнообразнее: бадминтон, волейбол, футбол. Привычно галдели чайки, бился о берег вялый прибой – монотонно, что боксер отрабатывающий удар; гулял туда-сюда задорный смешок. Молодой отец играл с сыном в проверенную тысячелетиями игру – легонько подкидывал малыша кверху и ловил, строя рожицы, а тот хохотал, задыхаясь от счастья, смеялся громко и так живо, что нельзя было это стерпеть и все, кто видел и слышали его, тоже не могли сдержать смех.
Федор Павлович скинул летние туфли, ошпарил пятки раскаленным песком и бегом взобрался на дюну. Стал на прохладный мокрый след от чего-то тела. Обглядел марево просторов, распластавшихся женщин, вдруг там мама ждет его? Ведь они так и не съездили на море. Что за вздор?! Подле очутился мальчонка лет семи.
Так во оно море… – полушепотом вырвалось у него завороженного.
Федор Павлович взглянул на него. Снисходительно улыбнулся. Сначала думал промолчать, но когда мальчик с застывшим взглядом снова прошептал «море», всё же сказал:
Это не море, а залив. Это разные вещи, дружок.
Мальчишка потупился, свел брови и тоже не стал молчать.
– Почему? Берегов не видно, значит море.
– Как тебя зовут?
– Андрей. А вас?
– Меня Федор Па… – он осекся, глотнув лишнего воздуху, – Федор. Федя. Так вот Андрей, во-первых, если приглядеться, то берега видны, а во-вторых, море должно быть соленым, а тут вода пресная, как в речке, не соленая, значит. Какое же это море?
Нет, море! Папа сказал, что это море.
Федя смерил его взглядом. Мальчик же неотрывно смотрел вперед и в его зрачках отражались блики водной глади. Послышались позади голоса родителей, управлявшихся с походным бытом под тенью поредевшего леса.
– Ты что ж, никогда не видел настоящего моря, да?
Мальчик, как и прежде завороженный, покачал головой.
– И тебе очень хочется, чтобы это было морем?
– Ага. В Твери нет моря. На юг меня мама повезет следующим летом, если хорошо учиться буду. Мы приехали сюда к папиному другу, и он сказал, что здесь тоже есть море, только холодное.
– Ну, он немного преувеличил.
– Нет, всё равно это море!
– Ну, да ладно. Но я тебе вот, что скажу: воображать себе можно все, что угодно, но если подумать, что лужа – это море, морем она от этого не станет, понимаешь? Как бы тебе этого не хотелось и как бы сильно ты в это не верил. И ничего с этим не поделать. Нужно с детства учиться принимать правду, какой бы она не была. Сколько тебе лет, кстати?
– Скоро восемь будет.
– Ты уже довольно взрослый, чтобы это понять.
– Андрей, сколько можно тебя звать? – за мальчиком пришел отец, – Извините, если он вам докучал.
– Нет, что вы! Мы просто немного побеседовали на предмет географии.
– О, это замечательно. По географии у нас четверка. Пойдем, Андюш?
– А на море?
– Попозже. Скажи дяде «до свидания»
– До свидания!
Мальчишка сорвался с места.
– И всё равно это море! – крикнул, убегая к палатке.
Федя неспешно побрел ближе к воде.
– Залив это, – буркнул он с опозданием в ответ. Никто его, конечно, уже не услышал.
5. Море
Он прогулялся по берегу до диких пляжей, где людей было совсем мало. На него косо посматривали. С пакетом в руках, где позвякивали бутылки и совсем не в пляжных одеждах, он определённо не вызывал симпатий. Скоро сманился таки и, закатав штанины по колено, зашел в воду. Поддал ее хорошенько снизу, как футбольный мяч. Еще и еще! Торжествующе воскликнул. Недавно научившись плавать, Феденька резвился в мелкой воде, а если и отрывал ноги от дна, то делал это ненадолго и косился на мать, беспокоясь о том, фиксирует ли она его успехи. Они отправились на реку самым верным способом бороться с жарой. Это было двадцать два года тому назад. Сейчас Феди очень хотелось этого совпадения. Ему было десять. Согласно немому уговору ушли подальше от людей, что с самого утра уже усеяли своими бледными, да розовато-поросячьими телами узкую полоску грязного городского пляжа. Федя боролся с водой, отдыхал и снова шел в бой. А потом, когда мать вроде бы слегка задремала, накинув на лицо панамку, Феденька спонтанно решил, что неплохо было бы перебраться на другой берег. Не спросивши разрешения, не отдав отчета, в том числе и самому себе, он очумело замолотил по воде руками, выбивая из неё мелкие колючки брызг, как закостеневший сор из ковра. Пыхтел. Уставал, отдыхал лежа на спине и, отдышавшись, снова устремлялся вперед, не обращая никакого внимания на мамины крики. Плыть за ним она не решилась – плавала она неважно, да и Федя умудрился добраться до середины реки довольно быстро. Впрочем, скоро, казалось бы, недалекий берег перестал приближаться. Вода попадала в глаза, рот, ноздри. Он замедлился, и ей стало страшно до потери сознания, которое терять было никак нельзя. Жучком он приложил еще усилий и одолел реку. Переплыл. Из последних выполз на берег. Обернулся. Мама что-то кричала, но расстояния, поднявшийся ветер и воды хищно заглатывали звуки на лету. Она разевала рот широко, как в немом сне. А потом рухнула на песок! Взяла и по-детски, по-девичьи плюхнулась на ягодицы, подобрала руками колени, обхватила их и спряталась. И по вздрагивающем плечам её было ясно, что начала рыдать – неровно, рывками, смиренно угасавшими.
Федя схватился за голову, как совершивший непоправимое. Сдавило в груди, будто он ощущал ровно тоже, что она сейчас – секунда в секунду, удар за ударом, укол за уколом. И тут он тоже заплакал, давая волю плачу, назло самому себе – жестокому и непроницаемому. Несколько раз лупанул себя ладонью по щеке, по голове. Заплакал и заметался по берегу туда-сюда, болтая ручонками и не зная, как преодолеть желательно бы одним махом разделяющую их всего лишь реку, только что давшуюся ему. Он понимал, что нужно отдохнуть, затем с десяток минут плыть обратно, но, кажется, тогда будет уже слишком поздно. Рану не удастся закрыть. Опоздавшая первая помощь призвана лишь констатировать.
Внезапно он застыл на месте. Опустил руки. Воняло тиной. Уши, залитые водой, притупили слух, и от этой утробной тишины казалось, что в мире не осталось больше никого кроме них и реки. На его длиннющих детских ресницах дрожали капли воды, спустившиеся с волос, со лба и спадали периодически, отчего он нервно помаргивал. Начал икать. Минуло не более минуты. Она продолжала сидеть в той же позе. Очертания её размылись, округлились, слились в итоге в единую форму в бликах воды, и стала она телесного цвета камнем, гладким валуном, мертвым тюленем. Тело его пробило дрожью и холод полез изнутри наружу мурашками. Федя сжался, стиснул зубы, сдавил всего себя внутрь и глубоко выдохнул со всхлипом, с каким-то недорожденным воплем, отчетливо осознав, что «поздно» уже наступило и что уже ничего не поделать. Слезы лились и лились ровными обреченными струйками, смешиваясь на мокром соленом лице с пресной речной водой. Он медленно поплыл обратно, хотя «обратно» уже никакого не было.
День лениво и наискось двигался к ночи. К вечеру насобирались облака. Большая компания, важный повод. Причудливые пухлые комья были похожи на застывшие волны.
Федя задумал развести костер. Почать свой скромный провиант: две бутылки вина, рогалик «Краковской», хлеб, вода и несколько куриных крыльев для жарки на костре. Пошел за хворостом.
Чем дальше в лес, тем живее он становился. Все ходило здесь ходуном, трепетало и тянулось, вырывалось к морю, словно всякая живая форма пыталась попробовать себя в форме иной. Дерево силилось взлететь за птицей, оторвавшись от корней. Птица стать самим ветром, который никак не удается ей обыграть в их завсегдашнем соревновании. А ветер, окончательно заблудившись в лесу, желал в бессилии пасть, наконец, остановиться и обрести неведомый ему по природе своей покой – пустить корни, стать деревом. «Так и человек всю жизнь тщится стать кем-то другим – лишь бы не собой», – думал Федя. У него занялась голова в висках, а к грудине к солнечному сплетению не сглатываемым комом пришел бессмысленный гнев в отсутствии всякого смысла в увиденном.
– Зачем, зачем все это? Кому на потеху? Зачем?! – вслух спрашивал он у себя, у леса и, учитывая свою напористость, у кого-то еще чрез себя, сам бы он давно сдался, дал ответ, – Зачем, если смерть все сожрет!? Ради чего? Бесконечного однообразного продления? Которое, впрочем, тоже конечно. Зачем?
Скоро все успокоилось, погрузилось в отдохновенную полутьму. Полился свет мелко и размеренно, худыми струйками сверху через сито словно; заколыхались неспокойно тени, как в церкви в ночную службу на Рождество. Замерцали свечи. Стало совсем уж душно. Потек в воздухе дымный ручей ладана и голова моментально отяжелела. Федя, в который раз зашелся криком, забился в руках священника, лупил его по вискам, драл руки. Крестили Федю поздно, когда исполнилось ему уже четыре года. На работе мать старалась не говорить о предстоящих крестинах, тогда еще оно было вроде как под запретом. И народу много собирать не стали: она, Федя с сестрой и, собственно, крестные. Церковь выбрали просто – ту, что ближе к дому. Священник читал псалмы бессочным принужденным голосом. Лица он его не запомнил, но только крупные смуглые ладони, этот голос и запах мужского одеколона, резко отдававшего спиртом. Федя заплакал, как только его отобрали у матери. Перешел в истерику. В воду его опустили с трудом, отрезать локон не дался. И пока мать была поблизости, чтоб мог он ее хотя бы видеть, обряд протекал еще терпимо, но вот, когда пришла пора нести его за алтарь, куда женщинам не положено, Федя взорвался беспрерывным ревом и начал задыхаться, не успевая в спазмах схватить и пол глоточка воздуху; закатил глаза в полуобморочном состоянии, побледнел. Отдали матери. Он вроде бы успокоился, но со второй и третьей попыткой повторилось тоже. Впивался он в мать смертельной хваткой, та была уж без сил, но по честности и сама не хотела его отдавать священнику. Головой понимала, что все это глупости, а руки держали, и про себя она радовалась тому, как Федя не желает от нее отрываться. В последний раз он уцепился в мать так и так отбивался ножками от батюшки, что тот не выдержал, тихо выругнулся, прошептал следом «прости Господи», поспешив замолить сказанное, и все же со всей деликатностью попросил их уйти. Так Федю в таинство и не посвятили, а крестик был уже куплен, пришлось его, несмотря ни на что, носить всю жизнь. Серебряный, потемневший от времени. Федя покрутил его в задумчивости двумя пальцами, приложил к губам не для поцелуя, а без цели, как тянут все в рот малые дети. Подержал и запрятал обратно. Наскоро собрал веток, ободрав руки, забив грязи под ногти и отчего-то обрадовавшись своей приобретенной неопрятности. Пошел обратно. Немного поплутал, но скоро вышел на людские голоса почти к своему месту.
К ночи стало свежее, скоро и вовсе холодно. Спасал только костер. Хмельной Федя смотрел в него медиативно: без мыслей, без воспоминаний. Допивал вторую бутылку. Прилег прямо на остывший песок. Свернулся калачиком. Подтянул колени к груди, собрал в охапку все тело, как мог, все тепло запасенное за день и понял вдруг, что лежит, как младенец – новорожденный, брошенный кем-то у моря. Обнял себя, как обнимала его мать. Вспомнил, как носила она его на руках годовалого, а может и вовсе младенца. Прижимала к груди и животу, чтоб было теплей и спокойнее, чтоб прошли колики, ходила из кухни в комнату и обратно. Журчала чугунная батарея. Поскрипывали заиндевевшие стекла с морозным узором. Значит, была зима. Через занавески то и дело нападал на глаза свет – блеклый, разбавленный, что желток взбитый с молоком. На кухне играло радио. Думается, за окном мог тихо падать степенный снег. Густо пахло грудным молоком. Она улюлюкала, зазывая сон, а он смотрел на нее снизу и, кажется, ни о чем ни думал, ничего не хотел, а просто брал ее тепло, брал ее нежность и так любил ее своим безвозмездным изъятием, совсем ничего не зная еще кроме любви и редкой боли. Федя понимал, что эти яркие картинки не более чем фабуляции, но сейчас было так легко и желанно об этом мыслить, безапелляционно верить в их реальность, пренебрегая разумными доводами. Скоро он дошел до своего рождения, но ничего путного не выходило. Все образы были мутны, либо заимствованы, никак не получалось у него силой воображения воссоздать этот момент. Знал он одно, что во время родов была вероятность плохого исхода, врачи предлагали кесарить, но она отказалась, ей важно было сделать все самой, увидеть его в первые секунды жизни. В итоге мать рожала его в ночь, как и предрекали, тяжело, долго и болезненно, и лишь к утру все закончилось.
Федя набрал воздуху, решение пришло само собой, и перестал дышать, зажмурился, как жмурится во сне двойник спящего, желающего сбежать из кошмара, из чужого видения в свое собственное, и принялся заново монтировать первые секунды своей жизни, слушая параллельно виски, наливавшиеся кровью, краснея, надуваясь в жилах. В асфиксии образы сделались ярче, мозг страдал и в страдании выдал ему первое видение этого мира. Но прежде он выдохнул с невольным выкриком, что заново рожденный. И затем все увидел и услышал все и как будто бы почувствовал заново: удушье, нарастающее, из ниоткуда, невидимой рукой устраиваемое и от того непомерно страшное, словно сзади набрасывают петлю гарроты на пару секунд, стягивают смертельно, но тут же резко отпускают, спустя время снова утягивают и всякий новый раз дольше и крепче; тесноту давящую, живую, так словно заглотил тебя питон и скорее желает исторгнуть. Федя бьется, он невероятно зол, злоба сменяется отчаянием, о которых он совсем еще ничего не знает, бессилие бурным всплеском. То беспомощный, то свирепый он задыхается и все это чем дальше, тем более походит на агонию, на последние минуты жизни. Глотает слизь, познает первые запахи и это запах свежей крови. Привычный тусклый свет сменяется заревом и все дальше от уха стук материнского сердца. После он слышит свой крик, ее слезы и смех на измученном выдохе; ощущает свою несуразность и несоразмерность всему вокруг. Много света, много звуков! Сущий апокалипсис со спасением в последний миг, когда возвращается знакомый сорт тепла – мамин. Немного изменившийся, не обволакивающий и нутряной вокруг все заполняющий, как воздух, но внешний, идущий с дистанции, однако по-прежнему вкусный и мягкий. Он принимает знакомые звуки маминой речи, мамин запах и видит впервой чрез муаровую занавесь нового неосвоенного взора ее рисовое лицо. Мертвое, старое, бледное и полупрозрачное, с закрытыми глазами, недвижимыми веками и, как будто бы запыленное тонким, но уже почти окаменевшим слоем. Старик родил старика. Мертвец родил мертвеца.
Увидел ее мёртвую.
Несмотря на расстояния – в родном доме, в комнате, в зале, где они так часто играли прямо на полу. Вот он шкаф, в нем сервиз – приданное, а вот низенький буковый стол весь потертый уже, на нем ваза и в ней две гвоздики. Она в гробу, поднятом на табуреты. Жуткая могильная темень и меж тем ему отчего-то все видно.
Федя задышал шумно и больше внутрь. Воздуха не хватало. Надышавшись, замер в предощущении чего-то ужасного и не ошибся. Сперва зазвенело в ушах, словно разбился хрусталь, а через мгновенье звук обратился в тихую, страшную мысль: «Мама умерла». – «Что?» – «Мама умерла» – «Как же так?» – «Мама умерла. Мама. Умерла. Мама умерла, мама умерла, мама умерла!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































