Текст книги "Один день. Три новеллы о необратимости"
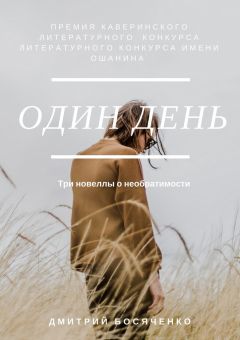
Автор книги: Дмитрий Босяченко
Жанр: Драматургия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Она затараторила, наконец, обязательным текстом из оправданий, прощений, воспоминаний, слов благодарности за все, что было. И мне было все равно. Но я реагировал, осознавая, что реагировать просто необходимо, ведь мы же люди. Соглашался, вторил её словам, много раз сказал: «да», «конечно» «естественно». Понимая, как надо себя вести, я, обученный этому навыку, без особых усилий вел себя так, чтобы казаться для неё, для самого себя, для некоего высшего всевидящего наблюдателя хорошим, понимающим человеком. Непременно хотелось оставаться хорошим человеком – не успеть нагрубить, ругнуться, послать куда подальше, а может и стукнуть. Впрочем, и об этих порывах, я мог только помыслить. Они находились слишком далеко, может быть в прошлой жизни или им лишь предстояло меня испытать позже, не важно, в тот момент – захватить меня они не могли и в самом потаенном уголочке души я жалел о том и желал им поддаться. Этим порывам оставалось лишь где-нибудь изродиться, и ворваться ко мне в сердце. Без сомнений, я бы тут же поднял руки верх пред ними.
Я взглянул на неё, смешно бубнящую зацикленную речь, новую запись, выставленную на повтор. Её щеки, подбородок были мокрыми. И на куртке несколько темных следов от капель.
– Постой. Ты же плачешь… – я и спросил, и сообщил, изумился, умилился и воскликнул.
– Да? – она неподдельно удивилась, – я даже не заметила… – слезы текли сами собой. Наверное, от того, что им положено быть в такие моменты. Как не настоящие. Всего лишь прозрачные капельки воды. По-мальчугански она утерла их рукавами куртки, натянутыми на замерзшие ладошки. На секунду закрыла лицо. Сдавленно хныкнула. Резко открылась. Блеснула глазами. Шмыгнула носом и отчего-то повеселела.
– Может в музей? Самый первый, что попадется!
– Давай – приехать сюда и не посетить музей грешно! – я решил ей подыграть. Мы взялись за руки, сбегая с набережной чрез дорогу – обратно к плотно заставленным цветастым домам. Кончики моих пальцев собрали с её ладони уходящую влагу слез. Показалось, что задор, зачавшийся в разминке ног, начал подниматься по телу. Захотелось бежать без остановки. И мы робко припустили, останавливаясь то и дело, стесняясь людей и разгоняясь снова. Кажется, я даже смеялся.
Первым на пути оказался, а как иначе, этот один из многих чертов музей восковых фигур.
– Сюда?
– Пошли.
Билетёрша, как оно и подобает в воскресный день в не сезона, приняв деньги, просунула нам два билета в окошко, даже не подняв головы, не сказав и слова. Было тихо и думалось, что кроме нас и восковых двойников, здесь никого больше нет. Я нацелился было в зал, но она дернула меня за рукав.
– Подожди. Пойдем… – и направилась к туалету.
Выбрала дверь с буковкой «М». Вошла первой. Я зашел следом. Однотонная белая плитка в окаменелых грязевых разводах. Облупившаяся штукатурка. Рисунок пениса черным маркером над сливным бочком. Маленькая раковина слева и подозрительно чистое зеркало над ней. И не единого запаха.
Наверняка задвинул щеколду.
Включил воду на всю, вывернув оба крана. Благостного шума камерного водопада вполне хватало, чтобы заглушить всевозможные слова, что мы могли начать давить из себя. Однако надобность в словах исчезла вдруг сама собой.
Большим пальцем, я провел по её губам. Она чуть не заплакала, по-детски запрятав верхнюю. Подалась ко мне ближе. Я обнял её. Схватил ускользающий запах. По вискам пробежали мурашки. Одного жеста, одного объятия было достаточно. Какая же она маленькая! Сначала мы не целовались, а просто хватали губами губы друг друга. После короткой схватки отстранялись. Изучающе заглядывали вглубь зрачков. Мне казалось, что там я должен увидеть уже совсем другого человека, предателя, демона, непостижимого чужака. Надеялся, что не узнаю её, ведь разве может «та самая» сотворить такое. Но я ошибался. Передо мной была она прежняя, как год, как пять лет и два часа тому назад, за миг до её признания.
Наконец мы перешли черту. Прижались одеждами. Моя рука юркнула под кофту, затем с трудом я протиснул пальцы под тугой бортик лифчика. В борьбе с косточками не нарочно царапнул её. Она легонько дернулась, выдала первый звук. Мы оба смутились, как две сомнамбулы, очнувшиеся в объятиях друг друга не в том месте, где засыпали. И это секундное возвращение в реальность из дурманной плотской горячки, омута свершающихся желаний к посеревшей плитки, зарешеченного стекла, монотонно перенимающего бубню дождевых заговоров, придало нам уверенности в том, что окунуться в этот омут сейчас не только не страшно, но и просто жизненно необходимо. Влажные кончики языков соприкоснулись. Мы попытались поцеловаться. Стукнулись зубами, словно впервой этим занимались. Намокли губы и окоем вокруг них. Она повернулась. Не касаясь, я понюхал затылок, шею. По вискам пробежали мурашки. В считанных миллиметрах от ее головы прошелся рукой по волосам, чувствуя их электричество. Стянул шорты. Потянул колготки, желая их порвать.
– Нет. Не надо. У меня других нет с собой. Новые покупать не охота. А на улице холодно. Сейчас, сейчас…, – отрывисто, лихорадочно, как в бреду шептала она, наскоро стягивая их. Оказалась снова ко мне лицом. Прислонилась к стене.
Вдох. Казалось, она дышит, только когда я в ней. Я снова коснулся её теплых губ. Она облизала мой палец. Потом втянула его в рот. Сильно сжала губами. Жадно всосала его несколько раз, придыхая, закатив глаза.
Она обхватила снизу рукой сушилку, какой-то древней модели, так будто пыталась оторвать её и унести на плече, и та старчески затарахтела, изрядно напугав нас. Наши лица невольно выдали улыбку, чрез гримасу мученичества и наслаждения. Тут же, в предписанной случаю и месту суете, она попыталась упереться ботинком в унитаз, но и здесь нога соскользнула с него, не успев толком коснуться. Мы не смогли удержаться от короткого приступа смеха.
Все двигалось, все гудело, попадалось под руку, словно из ниоткуда и скоро туда же исчезало; было стремительным и растянутом во времени, как бесконечное падение во сне; травматическим, необычайно туалетно-возвышенным, корявым, и реальным. Чрезмерно, реальным, чрезвычайно! Невыносимо. И от того в какой-то момент, порушив некий неведомый хрупкий барьер, это все, этот неразделимый клубок стен, вещей, людей, стонов, их чувств и мыслей стался запредельным. Просто чем-то другим, забредшим сюда своим невразумительным сгустком из иных параллельных реальностей.
Стоны рвались из неё, но упирались в стену непреступно стиснутых зубов. И лишь немотный горловой звук – протяжный и сдавленный, служил порой отголоском, бушевавших в ней катаклизмов.
Я старался делать это, как можно резче, как можно сильнее, с желанием причинить боль. Как будто удар за ударом. Удар за ударом…
– Спасибо, – шепнула она, когда все было кончено.
Я закрыл краны. Умылся. Какое же чистое зеркало! Издевательски чистое. И до чего же много грязи вокруг.
Последний раз был похож на первый. Такой же корявый, робкий, тихий и страстный.
– Почему в музее? – спросил я, запаковываясь обратно в куртку.
Она повела плечами. Снова открыла воду, подставила под струю руку и тут же одернула её. Крутанула другой кран и снова.
– Везде одна холодная.
Играя в шпионов, по одному, слегка отворив дверь, отчего пришлось протискиваться в неё, мы выбрались в коридор незамеченными и мелкими шажками, на носочках ринулись дальше к выходу.
– Так быстро? – удивилась вслух билетёрша, ожившая вдруг.
Мы вздрогнули. Я невольно тихонько хихикнул.
– Извините! – зачем-то буркнули мы одновременно и выбежали на улицу.
Радость идиота – беспричинная и разрывная, требующая бессмысленных телодвижений заполнила нутро. Мы пустились по проспектам и переулкам. Казалось, все смотрят на нас. Сменялись дома, опять те же улицы, слова, памятники, магазины и даже лица, снова вокзал. Все мелькало и сливалось в бессмысленную мешанину – без вкуса, цвета, формы. Кружились головы. И мы кружились. Люди бежали быстрее машин, застрявших в повсеместных пробках. Небо порой посыпало нас скоропреходящей бусеницей, за которой бывал свет. Матовый, хилый, словно набиравший силы после тяжелой болезни. А потом без предупреждения стемнело. После чего вмиг загорелись лучины фонарей, окутав город низким электрическим светом, как куполом, словно кто-то включил городской ночник.
По новой, однодневной традиции, мы слегка заблудились, сквозными дворами желая проникнуть на новую улочку. Там она заприметила небольшую круглую, как лунный диск, лужу с мутной, сморщенной пенкой льда на ней.
– Выдержит? – спросила она с задором, решив проверить себя на невесомость. И через секунду, не дожидаясь ответа, который был и не нужен, очутилась по щиколотку в воде.
– В Луну наступила, – сказала она, ничуть не расстроившись.
А я, недолго думая, следом оказался там же. Мы молчали. Невероятный, истязающий труд – молчать, когда хочется орать во всю глотку. Смотрели друг в друга. На всем свете остались лишь наши глаза. Её глаза. И ярая муть в них кричала мне, что она никогда себя не простит. И меня. За то, что не дал сломать тишину. Выстоял. Оказался сильнее слов. Мы взялись за руки. Потом обнялись. И стояли так с минуту, а может и дольше – в безлюдном дворе, вдвоем, в маленькой луже. Мы – на крохотный, по космическим меркам никогда и не существовавший, миг космически счастливые. Замерзшие. Почти чужие друг другу. С вот-вот должной разорваться пуповиной. По щиколотку в холодной Луне. Пока первый появившийся человек в нашем пустом и светлом мире не смутил нас, не изгнал оттуда. И мы отправились по новой гулять кругами.
А потом её просто не стало. Это случилось внезапно, как перелом. На проспекте, по пути в кафе, магазин, вокзал – любое теплое место. Я оглянулся. Глупо обошел себя, словно хотел ухватиться за несуществующий хвост, как будто надеялся найти её у себя за спиной. Дернулся назад, вперед. Исполнил все неэффективные трюки. Может, она просто отстала, а я шел слишком быстро? Или инфантильно, как умеет это делать только она, увлеклась красочной витриной, забежала в сувенирную лавочку, а я и не заметил? Или одна из сотен арок все же затянула её вместо меня?
– Прощай, – тихо вырвалось само собой в какую-то случайную сторону, где, быть может, там вдалеке, она могла ещё быть. Я не стал ей звонить. Не стал искать. Я так решил.
Самой длиной дорогой отправился в сторону дома. День подходил к концу. А счастье, хлебнувшееся не сердцем, но промокшими ногами в холодной лунной луже все равно нарастало тихим, умалишенным сапом.
«Все кончилось и вот оно новое. Совсем новое. Вот оно! – думалось мне, – И не нужно переходить на параллельную улицу».
Я достал сигарету. Просто так. От скуки. Зажигалка куда-то делась из джинс. Сунул руку в карман куртки и вместо неё нащупал там свернутый лист бумаги. Под ним зажигалку. Надо же, когда она только успела подсунуть его обратно?
Повертев в руках измятый текст, финал моего рассказа, прочитав последние строки, я помыслил, а может и не было вовсе первой страницы, да и не должно быть? Я опустил бумагу в урну, прикрыв ею дотлевающие окурки, и пошел дальше, когда первые пепельные круги черными язвами проступили на ней.
Люди измотанно довершали свой день. Стонал и хрипел извечно усталый, в тенях покосившийся город. Из приоткрытых окон порой ударял в ноздри приманчивый аромат жареного картофеля. Жены ждали мужей, готовили им ужин. А я, зная куда, но не зная зачем бреду, чувствовал себя одураченным собою же. Одураченным и вдвойне счастливым. От того, что сделал правильный выбор – до жути правильный, почти нечеловеческий.
Мелькали огни машин. Стреляли прямо в глаза. Хотелось закрыть их и остановиться. И пусть поток несет меня все равно куда. На самые окраины и дальше, где ночью совсем не найти света. Ни одного лучика. Как оно и должно быть в ночи.
Перешел дорогу, добегая рубеж на красный. Сзади послышался женский оклик. Я обернулся. В новой партии людей, суетливо сочившихся по проспекту от одного перекрестка к другому, поискал знакомое мне лицо. Однако все лица сливались воедино, были спутаны и ещё далеки. Медленно, спиною вперед я продолжил ход. Сделал несколько шагов, развернулся, но, заметив справа очередную темную арку, замер напротив неё.
Лужи глотали потоки суррогатного света, запивая их мимолетными отражениями пробегающих тел. Кто-то пхнул меня в спину. С крыши отчаянно сбросился ком последнего снега.
«Зачем это все?» – подумалось мне.
Ну, ладно. Пусть будет.

Море
1. Звонок из бескрылой мухи
– …а к утру все закончилось. Федя, ты приедешь? На похороны… – она говорила рвано. Безжизненный голос её был слаб и еле слышен.
«Хочешь воды? На, попей» – шепнул баритон, вторгнувшийся по ту сторону провода в их зачинающийся телефонный разговор, – «Нет. Не надо. Не нужно. Оставь…»
– Федя, это я не тебе. Не молчи, прошу тебя. Так ты приедешь на похороны? – повторила она ещё тише и мягче.
С испугу, со сна, не до конца соображая ещё видение это или явь, Федор Павлович бросился к трубке, но в сантиметрах от неё одёрнул руку. В девять утра не бывает хороших вестей. Мобильник крутился в беззвучном режиме, эпилептично бился о стол, жужжал и медленно, словно гигантская муха с оторванными крыльями, полз к краю стола. Оцепенело Федор Павлович взирал на неугомонную тварь, выжидая, когда она смолкнет, свалиться, наконец, и больше никогда, никогда не издаст и звука. Прошло не более минуты, ставшей испытанием, но телефон не унимался. Был настойчив, был зол. И Федор Павлович уже знал, что услышит в ответ на свое тупоголосое «алло», заранее слышал каждое слово, будто бы миг этот был давно уже сыгран, записан на пленку и лишь выжидал своего времени в неведомых архивах.
Знал и все равно поднял трубку.
– Алло…
– Феденька, прости, я не могла позвонить раньше. Ей всю неделю было не по себе. Чертова жара. А вчера в первом часу ночи стало совсем плохо. Она сама мне позвонила и «скорую» сама вызвала. Мы примчались тут же, следом врачи, а она уже на полу. В ванной. И вода шумит. Всю ночь молились. Был шанс, вроде. Так врачи говорили. А к утру все закончилось. Федя, ты приедешь? На похороны…
Не моргая, он смотрел на бело-синие обои комнаты, и вихри невразумительных узоров явно виделись ему воронками водоворотов. За окном с чудовищным грохотом промчался грузовик, отчего на кухне задрожала плохо прикрученная полка с дюжиной шумных, кликушеских тарелок. Машинально Федор Павлович набрел пальцем на знакомую дырку в домашней футболке вверху у самого ворота, просунул в неё указательный палец и начал медленно тянуть к низу. В комнату вторгся характерный звук рвущейся ткани. Нервный, интимный, бесповоротный. Голос в трубке затих. Одно ровное, терпеливое дыхание.
– Я же только позавчера с ней по телефону разговаривал, – сцедил Федор Павлович мерно слог за слогом сквозь зубы.
– Да, да, я все понимаю. Адская жара, – вяло продолжала женщина, – Я же тебе говорю, ей всю неделю было не по себе, как и всем нам. Как и всем нам, Федя. А вчера, говорю же тебе, стало ей плохо. Она сама… Знаешь, когда я по телефону услышала её – я сразу почувствовала, что все… Мы примчались, а она на полу, в ванной в такой жуткой скрюченной позе. И вода шумит. Врачи говорили, что есть шанс, но я все поняла заранее. И попрощалась даже, пока мы ехали ещё. Она хоть и без сознания была, но я на ухо ей шепнула. А потом в больнице уже сидела на кушетке и перед глазами крутился на повторе будто наш с ней последний разговор. Какие-то новости, что-то про еду, дачу. Такой глупый, такой дурацкий. Знаешь, она еще вспоминала, как каждое лето мечтала с тобой маленьким на юг, на море съездить, да все денег не хватало, времени. Мы то с ней успели поездить, а за тебя она переживала, что обделила. А потом ты вырос, уехал. Так и не случилось. А к утру… Что поделать теперь, Федя? Что поделать… Так ты приедешь?
«На, возьми. Хотя бы глоточек», – снова взялся заботливый баритон из параллельного мира, – «Хорошо».
Был слышен трудный глоток, комом шедший в горло. У Фёдора пересохло во рту, в уголках рта скопилась белая тягучая пленка. Болели глаза от слишком яркого утреннего света, что вспорол комнату, вошел в неё тончайшим лезвием и разделил пополам. С минуту все голоса говорили на емком языке молчания.
– Я же только позавчера с ней по телефону разговаривал, – наконец отозвался Федор Павлович.
– Что? Ну да. Знаешь, я даже больше боюсь все это организовывать. Хочется вопить в подушку и никуда из дому не выходить, а приходится со всеми договариваться, платить, что-то подписывать, будто я сделку оформляю, а не мать хороню, – продолжала она, казалось, совершенно не слыша его слов. Голос её чах за каждым предложением. Был без единой окрашенной нотки, каким-то прозрачным и липким, как клей и также натужно отлипал он от губ, вытекал из трубки. На секунду Федор Павлович представил, что она не просто беседует с ним, а словно чудаковатый фокусник, прежде, вместо звуков, вытаскивает изо рта мятые, жеваные бумажки, на которых начертаны нужные слова, старательно выправляет их, и лишь тогда, зачитывая текст, начинает говорить. Вернее, так – только подобным образом она и в силах говорить.
– А потом я всю ночь с ней сидела, – заговорила она снова, взяв паузу, но так и не дождавшись от Федора Павловича какого бы то не было отклика, – вот эту ночь. Боже мой, я уже двое суток без сна! Да, сидела всю ночь с ней, значит. Так положено, ты знаешь, наверное. Она лежит, и слова сказать не может. Я с ней говорю, а она не отвечает. Глажу её, целую, а она никак не реагирует. Один раз я даже попробовала её ущипнуть. Сильно так. Помнишь, как ты маленький, в детстве щипал её сонную, а она, пробудившись, ругалась на тебя за это, а мы смеялись. Так вот сейчас – ничего. Она так и не проснулась. Мне не было страшно, Федя, совсем нет. Просто как-то до одури странно.
Помнил. Он все прекрасно помнил. Порой маленькому Феди казалось, что она не дышит. Он все время следил за тем, чтобы она дышала во сне. И если ему виделось вдруг, что её грудь перестала вздыматься, он щипал её со страху. Тогда Федечка точно знал, как победить смерть – он сильно сжимал своими маленькими пальцами кусочек кожи докрасна, с вывертом и так возвращал к жизни, как дефибриллятором. А на случай, если мама так и не очнется, даже после самого сильного «разряда», он был уверен, что достаточно ущипнуть себя самого за руку и проснуться в другом мире, где все снова будет хорошо.
Он продумал ответ в себя. Вытер пот со лба. И уставился в окно, а скорее на само стекло. Провел по нему пальцем, нарисовав кружок, в том числе музыкой стекла, нагнавшей мурашек и, впервой за долгое время, подметил насколько оно пыльное. И внутри, и снаружи.
– Что? Ах, ты ничего не сказал. Мне послышалось, значит. Знаешь, Федя, ведь это непостижимо – как жить, если тот, кто дал тебе жизнь сам умер? Как будто бы Бог умер, что ли. Такие мысли. Федя, скажи мне лучше, сколько тебе добираться до нас на поезде – двенадцать часов, четырнадцать? Хорошо было бы тебе уже сегодня к нам выехать.
– Я же только позавчера…
– Да. Точно сегодня, а то не успеешь. В последний раз посмотреть. Сколько вы с ней не виделись – год, полтора? Не хорошо это, конечно, не хорошо. Она тебя сильнее всех на свете любила…, – женщина вдруг осеклась, – Прости. Я обещала себе не говорить этих жалобных фраз. И все-таки, это так ужасно – в ящик, в землю… Помнишь, мы так в спичечных коробках с тобой всяких букашек хоронили: мух, жучков, пчел и бабочек всяких? Федя, получается, мы с тобой окончательно осиротели. Хоть уже и взрослые, но все ж… Феденька, так ты приедешь? Похороны завтра.
– Завтра?
– Что? Да, завтра. Утром. Федя, ты прости, что я тебе сразу не позвонила, но мне вначале не до звонков было, я сразу взялась всей этой организацией заниматься, как в каком-то забытье! Знаешь, стала вдруг такой деловой, хваткой, – она глупо хихикнула не своим голосом, – Наверное, так отвлекалась, делала сама для себя вид, что ничего не произошло. Вся суетилась такая, как ненормальная, честное слово! – вдруг женщина заговорила быстрее, громче, словно намереваясь своими словами затушить, предвиденную ею грядущую ненужную реплику Федора Павловича, – а как опомнилась, так сразу тебе…
– Но ведь завтра же воскресенье.
– Что?
– Воскресенье…
«Ну, хватит, хватит. Сейчас я платок принесу. Перестань», – шепнул все тот же потусторонний третий голос.
– Ладно, мой милый братец, справимся как-нибудь без тебя. Ты там поплачь немного. Хотя легче от этого не становится.
Мобильник вмиг опустел – ни гудков, ни её голоса, ни чьего-то деликатного баритона на заднем фоне.
– В воскресенье же нельзя хоронить…
С чего всплыло это суеверье, откуда он знал его в принципе? Федор Павлович подивился себе и снова обратился к окну. На термометре тридцать два градуса. Взглянул на небо, что висело гладким синим камнем. На ветви лип с их грязными листами. Видел близкую к дому дорогу, ребятишек за ней, поливавших друг друга мутной водой из пластиковых бутылок. Там было шумно и зелено. Отчего то радостно. Нечто живое и буйное рвалось к нему, липло, как пьяная, распутная женщина, от которой никак не уйти и не унять силой.
Он подтолкнул створку форточки, надеясь распахнуть её шире, но она и без того была открыта до предела. В камере окна встрепенулась сонная муха. Взволновано поползла вверх по стеклу в каком-то судорожном прерывистом полете, то и дело проваливаясь словно в небольшие воздушные ямки. Достигнув середины, на полпути от свободы вдруг остановилась и, точно сумасшедшая, замаялась меж двух стекол, гулко ударяясь о них с самонадеянной храбростью, так если бы и вправду имела шанс их разбить. Федор Павлович открыл ближнюю створку, но муха принялась биться в часть окна, ведущего наружу. Тогда он открыл дальнюю створку, предоставив ей выбор. С улицы дурманно пахнуло сиренью. В спальне прибавилось воздуху – парного, жирного. Чуть закружилась голова. В самом хвосте уходящей секунды Федору Павловичу показалось, что он уж и сам не прочь шагнуть, в то время как дурное насекомое, навернув вдоль рамы туда-сюда несколько бессмысленных дистанций, как в челночном беге, окончило попытки вырваться из ловушки, которой не стало. Осела внизу, прожужжала в бок, забилась там в угол, в самую пыль. И замерла.
Федор Павлович прошелся взад-вперед по комнате. Стал на скрипучую доску паркета и несколько раз заставил её тоненько и противно взвизгнуть. Нужно было заплакать. Скоро он вроде бы почувствовал, почти что забытые позывы: резь в глазах, напряжение скул, сбитое дыхание. Но слез все не было.
Сам не заметил, как построил кривую башенку из рабочих книг по физике, естествознанию. Вышел из комнаты. Хлопнул дверью, ознобив стены, И шаткая конструкция порущилась сквозняком. Он услышал это, задержавшись на выходе, задержав дыхание и подсмотрев, как бы втайне от себя в щелочку.
В прихожей наткнулся на свое отражение в зеркале: небритый и непричесанный, неухоженный; долговязый, астеничный с большущим лбом и вытянутым лицом, всего тридцать два года, но на вид все сорок с небольшим. Нередко ему говорили – знакомые и бойкие студенты, что у него «лик прям с иконы», но Федору Павловичу всегда казалось, что стоит разинуть рот пошире, выпучить глаза, да схватиться за впалые щеки и выйдет Мунковский «Крик». Так и сделал. Испугался самого себя. Шлепнул кулаком в ладонь, промычав отражению, поджал ему губы, нахмурил двойника. Бросился в кухню. Залпом выпил стакан холодной воды. Метнулся обратно и, наспех одевшись, в горячке вырвался из дома в непредвиденное майское пекло.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































