Текст книги "Один день. Три новеллы о необратимости"
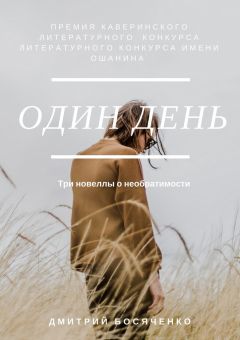
Автор книги: Дмитрий Босяченко
Жанр: Драматургия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
2. Средь змей очередей
По пути на вокзал отзвонился на кафедру, отменил занятия. Сослался на «семейные обстоятельства».
– Надеюсь, ничего страшного, Федор Павлович? – спросил некогда его преподаватель, а ныне коллега, профессор Нечаев, поднявший трубку вместо секретаря. Нечаев был вдвое старше Федора Павловича, но все равно обращался к нему официально, уж больно Федор Павлович цеплялся за свое отчество, это все знали, терпеть не мог, когда к нему, даже старшие обращались иначе, будто отцовское имя заменило ему самого отца. Тот ушел из семьи еще до рождения Феди. Старшая сестра помнила папу, но смутно. Дома говорить о нем всуе как-то негласно считалось недозволительным, точно, как воспрещается упоминать всуе имя господне, с той разницей, что в случае Феди «господь», о котором приходилось им молчать, был как бы плохим богом, оставившим детей своих, бесстыдно забывшим о них и потому их семейное молчание было продиктовано не страхом или уважением, а скорее бессмысленностью разговоров о том, чего нет и, в общем-то, почти не было.
– Федор Павлович, надеюсь, ничего страшного не случилось? – повторил Нечаев с явным волнением.
– Нет, ничего страшного, – почему-то ответил он.
– Ну и слава Богу! Главное, чтоб все живы и здоровы были, а остальное ерунда.
– Да, это точно Владимир Николаевич.
– Слышу ты какой-то потерянный. Ну да ладно, не буду отвлекать. Занимайся своими делами. Студенты будут только рады «окну».
– Да, Владимир Николаевич. Спасибо Владимир Николаевич.
Они перекинулась еще парой предпрощальных фраз, которых Федор Павлович уже не слышал и не понимал, да и забыл их тут же, потому как в голове его засело, прежде больно резанув слух, это Нечаевское «ну и слава Богу».
Нечаев слыл убежденным материалистом. И гуманистом до мозга костей, в том плане, что верил исключительно в человека и его разум. Жутко раздражали его последние веяния в научных и околонаучных кругах – эти «дергания обратно в метафизику», как он сам любил повторять.
– Даже в самые тяжелые, отчаянные моменты мы не должны обращаться к богу. Тем более во время всяких испытаний, тем паче не должны. Потому как это будет уже не трусость, но наивысшая трусость, сопряженная с лицемерием и цинизмом! – говорил он. Приходил порой в шутливом ключе к парадоксальным мыслям, мол, «если бы Он (бог) и существовал, то будучи существом, мягко говоря, умудренным, он ценил бы прежде всего тех людей, что в него не верят, а полагаются только на собственные силы или бессилие»; каламбурил – «Бог больше верит не верующим» и все такое прочее.
– Ясно одно – путь человеческий это деятельная поступь к усложнению. Это движение от: от природы, от Бога и прочих суеверий, от данности – к сотворенному собственноручно, от самого себя в конце концов! К чему-то новому, самолично созданному и независимому. Вот в это можно и нужно верить. Все остальное – химеры.
Федор Павлович, будучи студентом, глубоко проникся этой Нечаевской сентенцией, и спустя годы, без зазрения, в парафразе частенько декламировал ее уже собственным ученикам. Он видел в Нечаеве и наставника и друга, но более того, кем сам хотел быть.
– Ну а кто верит, те кто? Ведь и умные люди верят и верили, первые умы, гениальные ученые обращались к вере. Что это значит?
– Что – сдались! Что поборол их страх. Умный не значит смелый. Здесь воля нужна и бесстрашие, чтоб в темноту заглянуть и смотреть на нее потом на равных, как она на тебя. Всю жизнь. До последнего. Понимаешь? Впал в веру – стал слабее. А нужно наоборот, к обратному стремиться, как в книгах – там ведь герои обязаны к концу становиться сильнее, чем были. Так и мы должны. Я до странного уверен в этом, Федор Павлович, – и такие случались у них беседы, когда стали они уже коллегами. И Федор Павлович неизменно соглашался и укреплялся после них в собственных воззрениях.
А теперь вот эти «… и слава Богу».
Вокзал, как всегда, был полон. В нем царил вавилонский гам, где звуков много больше, чем людей. Стоило Федору Павловичу отворить тяжелую, звуконепроницаемую дверь и зайти в удушливую залу, как в одну секунду, будто бы все ожидали его персоны: десятки голосов сказали «спасибо», чуть меньшее количество отозвалось им «пожалуйста»; зазвонил телефон, в старом домашнем зубодробительном стиле, за ним ещё один; кто-то слушал музыку; беспрерывно шуршали пакеты; открывались, закрывались молнии замков, словно коротко вжикали, перелетая с цветка на ветку, пчелы; клацали женские сумочки; кто-то тренькнул случайно по струнам чужой гитары, болтавшейся на узкой потной спине в прилипшей к ней тельняшке; следом тявкнула собачонка; калечно прокатилась стариковская тележка на подкошенных колесиках, как ишак тащившая гору потертых хозяйственных сумок; громовой чех с виду чахлого мужичонки привлек внимание нескольких девушек и те добавили в композицию пару звонких смешков; шипели бутылки с уже нагревшимися в толчее газировкой, пивом, квасом; люди вздыхали, обдували свои лица, по обезьяньи вытаращив нижнюю губу; гудели, жаловались; ныли дети, а тошнотворная и притягательная помесь из стойкого луковично-сырного запаха пота с ароматом садовых цветов порождала музыку особого рода – еле слышимый песий скулеж среди особо чувствительных. К вискам Федора Павловича прильнула кровь и добавила собственных ноток, отыграв булькающим эхом в ушах. Жара шумно извлекала на свет будто бы последние витальные силы, и их было не обуздать. Змейки очередей переплетались, ширились, порой закручивались в узлы, как варикозные вены, местами сбивались в тромб, пред-инфарктно сужались. Виделись ему единым пульсирующим организмом, состоящим из одних только плотоядных щупалец.
Федор Павлович замер в отвращении ко всему живому. Сразу стал больным каталепсией пред этим животрепещущим буйством. Его толкали, просили отойти. Он слушался и, как восковый, приняв новую позу, чуть более в новом месте, опять застывал в ней. Он знал, куда и зачем должен заставить двигаться свое тело, но никак не мог понять нужно ли ему это.
– Конец света какой-то! – заявила квадратная женщина в полтора метра ростом, утирая красное гипертоническое лицо мятым платочком. Федор Павлович вздрогнул.
– Вы стоите? – спросила она же.
Федор Павлович кивнул и безотчетно встрял в ближайшую к нему очередь к электронному терминалу, невольно отдав предпочтение машине, с ворчливым треском, но без лишних уточнений, раздававшей за деньги билеты на междугородние поезда. Подле слева гудела шумная толпа, стремившаяся к окошку с живым человеком – сплошь молодых, улыбающихся, полураздетых. Живой человек отправлял желающих в пригород, туда где тень от большого города сулила прохладу.
– Куда вся эта молодежь?
– Уж точно не на дачу!
– На залив, наверное. На пляж, к воде ближе. Куда ж ещё в такую жару смертную?
– В «Солнечное» они! – нечаянно подслушал он спонтанный спасительный треп, возникший за его спиной.
И сделал шаг в сторону.
– Вам куда? – разумно поинтересовался кассир, когда подошла очередь Федора Павловича.
– В «Солнечное», – прочитал он текст по слюнявой бумажке, что с ужасом выплюнул на ладони за пару секунд до ответа.
3. Во чреве удава
Его затолкали в электричку и оставили стоять в тамбуре в самом углу у зарешеченного окошка раздвижной двери. За пару минут люди нафаршировали собой вагоны под завязку.
Он отвернулся. Зарылся в отведенный ему кусочек пространства, как мог, не желая соприкасаться с громкими попутчиками, которых вовсе не удручала перспектива получасового стоячего путешествия в душном, на ходу шатком проходе электропоезда. Обвешанные сумками, рюкзаками, пакетами, в которых звенела бутылочная жизнь, они умудрялись предаваться веселью.
Электричка понесла всех за город. Ближе к спасительным водам залива. В противоположную сторону от места, куда Федору Павловичу следовало бы мчаться сейчас. Но о том он не думал всеми силами. Больше его занимала дрожащая струйка воды, беспокойно стремившаяся вверх по грязному стеклу тамбурного окошка, собирая по пути налипшую пыль, орошая высохшие комочки грязи.
Басовитые старшеклассники, степенные студенты, инфантильные выпускники, девушки помладше, мальчики постарше, парочки и компании – все они умудрились запросто сдружиться уже после двух остановок, в жутких условиях, почти несовместимых с жизнью.
Дорога часто виляла. Было нечем дышать. Стойкие испарения пота вызывали тошноту. Федор Павлович представил, что поезд – это гигантский, до смерти обожранный змей, ползущий в далекое глухое место, чтобы там издохнуть в сытом довольстве.
На какое-то время, вволю насладившись сближающим дискомфортом, все замолчали, замерли, сосредоточившись на жаре, отчего в тамбуре подбавилось пару. В передвижной крематорий подкинули дровишек. Стало мертвенно спокойно и тихо – одни только булькающие глотки, да хриплое дыхание толстяков.
– Может чайкю? – послышалось за спиной. Именно «чайкЮ», что так раздражало Федора Павловича.
– Ты издеваешься что ли?
– А что? Я термос взял. Вот.
Федор Павлович закрыл глаза.
– Чайкю? – послышалось снова, но только теперь знакомый женский голос.
– Что? – отозвался он, дернувшись.
– Чайкю, говорю? – повторила она, улыбаясь, – То есть, чаю? – спросила снова, смущённо поправив говор, точно младшеклассник, зная, что Феденьку раздражает эта ее манера простодушно коверкать порой слова.
– Не надо. Спасибо.
– Может перекусить?
– Я сыт.
– Я сладкого прикупила, хочешь?
– Мам!
Все равно поставила чайник.
Последний раз Федя гостил у матери более двух лет тому назад. И скорее был обязан к ней заглянуть, приехав в родной город навестить беременную сестру Алю, которая по срокам вскорости должна была рожать, а он ни разу и не видел её в положении.
Остановился у друга. Решили встретиться всей семьей там, где родились и выросли. Кончалась зима. Как положено в двадцатых числах марта. Уходила с боями – в ночь закидала ледяной крупой, стукнула морозцем. Поутру все принялось отступать и таять. Ребятня высыпала во двор спозаранку, чтоб успеть отхватить всевозможных радостей от последнего снега. Федя прибыл пораньше. В ожидании Али устроились на кухне.
Как заведено, с холодильника, обвешанного магнитами, что орденами, фоном вещал мелкопакостный телевизор. Федя смотрел на неё исподлобья. Она все больше в окно, где молодые мамаши играли с дошколятами; пасмурные отцы монотонно наяривали круги по двору, толкая от себя коляски с младенцами, заныривая время от времени головой под пологи, с надеждой понять кто там и зачем. Где резвилась малышня, где все шевелилось как будто бы бесшумно, словно в немом фильме.
– Как она?
– Аля?
– Ну а кто еще, мам?!
– Нормально.
Наконец они встретились взглядом. Остановились в глазном соитии, точно любовники в людном месте, и можно было заметить, как рассеивается муть её взора, как краски возвращаются зрачкам полноцветно. Он дрогнул первым. Отвернулся.
– Знаешь, – заулыбалась она на слове, повеселев в мгновенье, – Аля мне сейчас напоминает меня в молодости, когда я тобой была беременна. И лет мне столько же было. Это сейчас в тридцать два только на первого решаются, а раньше уже второго или третьего пора было рожать! Также ходит она, как уточка и в лице схоже переменилась, подобрела и тоже «мы» про себя говорит, а не «я».
– В смысле?
– Когда пузо большим стало и ты биться начал – больно так бился, кстати! Вообще, конечно, уже там бесенком был. Так вот, на поздних сроках я начала замечать, не сразу, кстати, а может и сказал кто, что вместо того чтобы сказать ну, например, «я пошла» – говорю «мы пошли» или за место «я голодна» – «мы голодны», ну и так далее – «нам весело», а не мне, «мы замерзли», «нам больно», а не мне одной…
– Я понял, понял.
– Так у многих бывает. Только мне это очень важно было почему-то. Я как будто по-другому на мир стала смотреть. Мне наше одно на двоих «мы» очень нравилось. Я тогда верила, что теперь так всегда будет. Хотелось в это верить. Всегда – мы, а не я. До лет трех, наверное, так и было – то и дело у меня проскакивало это «мы», да и у тебя тоже. А потом, позже, когда ты взрослеть начал, мне все стали говорить, что мы привязаны слишком с тобой и что так нельзя, потому что рано или поздно тебя придется отпустить, оторвать от сердца и все такое прочее… «Отпустить» – дурацкое слово, правда!? Мол так мир устроен и ничего не поделать. Да я и сама понимала, но в душе так не хотелось, чтоб вот этого «мы» совсем не стало. Матерей никто никогда не поймет. Даже их матери. Отпустить…
– Ну и?
Чайник кипел. Закипали Федины нервы.
– Что ну и?
– Что в итоге то, отпустила?
Она снова заглянула в Федю. Секанула по глазам. Обдала тоской.
– Отпустила, – ответила она погодя и снова ушла в окно. На сей раз насовсем.
Заскулила дверь звонком. Пришли Аля с мужем. Вместе с ними стандартные расспросы, кивки, улыбки, традиционные приподания к животу.
Через пару часов решили расходиться. Он засобирался пораньше. Спешил на поезд. Остались вдвоем в коридоре. Как всегда, она пыталась сунуть ему денег. Три зеленые бумажки, свернутые вчетверо. Четверть пенсии. Для нее – неделя безбедной и сытой жизни. Он, конечно, не взял. Толкотня, возня, бессвязный шепот. Наступил на женскую туфлю черной кожи, выпачкал ей круглый носок, оставив пыльный след. Остановились.
– Ну я пошел?
Она кивнула, улыбаясь как-то виновато. Обнялись. Так положено. С его неловкостью в безвольно-плетеных, безотцовских, худых не мышечных руках, что боялись прикоснуться к ее родному материнскому телу, из которого он вышел вся плоть его и душа, словно боялся он обжечься или срастись обратно; c обоюдной неловкостью в низах, оттопыренных отчего-то назад, будто оба в передниках были, выбеленных мукой. Уложив-таки голову ей на плечо, перегнувшись еще более при этом, Федя уперся взором в свое отражение в раскоряченном и неуместном здесь трюмо с тремя вытянутыми, умножающими в трое зеркальными зубьями. «Мерзкий» – одно слово явилось в ответ увиденному. «Мерзкий и жалкий».
– Ну давай. С Богом. Я закрою. Аккуратнее там. Береги себя, – затараторила ритуальные речи мать, изловчившись все опустить деньги в задний карман его джинсов. Так чтоб он заметил их, и вне сомнений так оно и будет, лишь на вокзале. Вручила пакетик с домашними пирожками. Как он любит – яйцо с рисом. Еще теплые, сами в себя в свою теплоту мягко проваливающиеся.
Он закопался в замке, забыв уж в какую сторону и сколько оборотов. Припомнил, впрочем, тут же, но все равно продолжил медлить уже намеренно. Неуклюже разыграл неудачу в нелегком искусстве открывания дверных замков, чтоб задержаться на подольше. Пусть и на десять, пятнадцать секунд. В полуобороте окончил бессмысленные движения. Занял точное место. Остыл.
Куда же девается эта детская смелость в любви, в ее проявлении, в признании её и принятии? Отчего так легко было раньше поцеловать родного, любимого человека, если задуматься, единственно настолько родного на всей земле человека?! И отчего эта мысль не пугала тогда совсем еще юное, казалось бы, сознание, ни величиной, ни глубиной своей ни мощью открытий, но вызывала благоговение, дрожь и придавала сил, спасала в тех безумных ночных припадках, когда хотелось бежать в темноту, просто бежать от мысли о неминуемой смерти?! Как же хотелось ему сейчас плюнуть на этот чертов замок, наступить на вторую туфлю, да чтоб с треском искусственной кожи, развернуться, вернуться, обнять крепко, как в мутном солнечном детстве, никого и ничего не стесняясь! Расцеловать мокрые ее от слез щеки. Чрез смех, что идет всегда за слезами, продолжать целовать уже дурашливо. Рассказать, что: и скучает, и любит, и вспоминает часто. Вот только с разговорами телефонными у них не ладится – сразу начинает он отчего то её звонка раздражаться и вечно он, звонок этот, не вовремя и как будто некстати приходит. Но только ж ведь это не главное. А потом прощения просить без всякой конкретики. Ни за что и за все сразу. Разуться, остаться, Бог с ними с билетами – не жалко, успеет еще потом! Напиться чаю её, а он и вправду вкусен! Пряников, печеней, конфет наесться с присказкой «вместо сахара». Билетов много, поездов много, дорог много и времени не счесть! Всего в достатке. А вот мать одна. И матери в жизни мало.
Остаться, проводить сестрицу с мужем – у них свое уже очерченное, оговоренное отчуждение. Имеется индульгенция. На диван и наговориться вдоволь обо всех мелочах самых что ни наесть идиотских: про президентов, политику их, деньги, свои и соседские, наглых Федоровых студентов и очень умных, талантливых Фёдоровых студентах, его преподавании, ее пребывании на пенсии, от которого она говорит: «Совсем одурела уже! Что я делаю? Да глупею потихоньку. И толстею, как видишь»; узнать многое о сериалах и телепередачах, о звездных браках и разводах; о том, что умерла одинокая мамина подруга, та, что нянчила Федю, что родного, приходя в гости, мать ходила к ней до последнего.
После таких разговор, а куда ж без них, если тебе уж не двадцать, можно и рюмочку, припасенного дорогого коньяку. И вот только теперь расходиться.
Куда же девается эта детская смелость и главное – зачем, для чего уходит? Чтоб легче жилось, чтоб не разрывало сердце от нежности, счастья, преданности. Ведь хоть и приятно, но все-таки рвет и жжет, и после переживаний таких обязательно заживает оно мягкотелое – болезненно, ломко.
Вопросы, воспоминания, надежда, на самого себя злоба… Все пронеслось в голове большущей тучей и сгинуло в мороке. Не переселил. Неизвестно чего. Постоял истуканом, послушал ее дыхание и уперся прочь. Зная, что она крестить его будет в спину украдкой, читать молитву на ход. Потом всплакнет, когда и в тамбуре щелкнет замок, грохнет дверь. Успеет быстренько умыться. И никто этого опять не заметит, не узнает про нее никто и ничего.
Не успел выйти из подъезда, закурил. Захотелось заорать, словно режут! Налакаться быстро и вдрызг – несколькими большими глотками опустошив пол бутыли, желательно, водки, чтоб сразу к голове накатило, чтоб жалеть себя захотелось, а не бить самому себе морду.
Ни сделал ни того ни другого, ни третьего. Поплелся на остановку. К автобусу. На вокзал.
Уже будучи в вагоне развернул пакетик. Зажмурившись впитал аромат. От запаха свежей выпечки заурчало в животе. Он вдруг понял, что ничего не ел с самого утра. Нехотя открыл глаза. Тогда же в кишке поезда заработала перистальтика, вызванная контроллером, отчего всеобщий сон был нарушен. Приземистая, широкобедрая женщина в белой, прилипшей к телу рубашке при погонах и черной юбке с фанатично-бескомпромиссным взглядом ледоколом шла по вагонам, проверяя билеты, рассыпая людей в стороны, не обращая и малейшего внимания на недовольство иных пассажиров, трусливо высказываемые ей в спину. Бесноватую молодёжь эта процессия, конечно же, развеселила. Вернулись гвалт и неразбериха, а вместе с ними, кажется, и сама жизнь. Череда шуток и смеха сменилась пивными вливаниями.
Федор Павлович ещё плотнее вжался в угол. Тихо заскулил. Кто-то криво затянул «Пусть всегда будет солнце». Ему захотелось выпрыгнуть из электрички прямо на ходу. Взамен неосуществимого замысла, он несколько раз коротко ударил кулаком в стену, на которую облокачивался плечом, как будто в общественном месте бил под дых недруга, так чтоб никто не заметил. Его мутило, окаменел затылок, шею потрясывало от напряжения и болела голова от духоты.
И не единой слезинки. Мать отчего-то в нем это бесслезие ценила и в каждом подобающем случаю моменте восторгалась тому, как маленький Федя способен стерпеть плач. Казалось ей, что эта черта его юного характера определенно указывает на некую Федину отличительность и даже, в некоторой степени, возвышает над остальными детьми. В само же деле Федя рос бойким худосочным мальчишкой, таким, как все, с хлестким ударом и дубовыми пятками от круглосуточной беготни в «казаков», да по футбольной поляне, за которую мог сойти и кусок асфальта с разбросанными вместо штанг рюкзаками.
К старшим классам выбрал роль отвязного гуляки, учился неважно не по уму, но по лени, но потом, по причине одного потрясения, переменился, ударился в учебу. В студенчестве, перебравшись в Петербург, балагурил редко и нехотя, скорее, чтоб расчётливо стружиться с однокурсниками, дабы не стать изгоем. Вообще стал расчётливым. Всякий юношеский задор уступил бескровно место «рациональному целеполаганию». Вроде бы задышал, но после начал хиреть и от всякого общества удаляться. Слыл в студенческой тусовке одиночкой, хороших друзей так и не заимел, только «коллеги и знакомые для редких разговоров о ненасущном». Беседы поддерживал наречиями: конечно, безусловно, естественно. И так совсем истончился, как личность. Стал почти невидимкой, бликующей на свету водяной оболочкой, как у мыльного пузыря. И сам это знал и совсем этому процессу не противился. Шел на работу вполне покорно, иной раз и радостно. Возвращался по одному и тому же маршруту, ходил в одни и те же магазины, готовил себе одни и те же блюда, даже домашние дела выполнял в определенной, несменной последовательности. Иногда ему казалось, что он просто приемник света, с которым входят в его сознание образы, задерживаются немного в нем и отлетают дальше с тем же лучом, добавив свету немного своей информации: «небо и деревья красивые, люди одинаковы, мир не меняется, все мы смертны и смысла, кроме как в мелких бытовых радостях и порядке, нет никакого».
Федор Павлович, слегка тряхнул головой, словно бы возвращаясь из забытия к бытию. И, окончательно отринув поток подступавших воспоминаний, грубо развернулся, надеясь задеть кого-нибудь плечом. Однако на его пути оказался рюкзак, который он силой отпихнул в сторону, услышав от его хозяина всего лишь робкое «извините» в ответ. В тамбуре стало тише, словно все приготовились подслушивать чужие мысли. По цепочке сросшихся тел, от бока к боку, локтя к локтю, как заряд от одной частицы к другой, прокатились тревога. За ней подскочил вольтаж. Федор Павлович двинулся ближе к центру табура, где народ спонтанно сотворил подобие святилища – там на полу благотворительно складировались бутыли с водой, пиво – теперь общие для всех. А на высоком и худом походном рюкзаке, что был залит весь, кроме боков, красным цветом, возлежал пожертвованный кем-то телефон. Лежал и еле слышно стонал вымученно бодрой музыкой. Лебединая песня. Федор Павлович прошелся взором по ближним, мысленно выбирая средь рассадника приветливости и благодушия особенно радостное и оттого наиболее неприятное ему лицо, с желанием хорошенько двинуть в него, порушив тем чрезмерно благостную атмосферу. Болтливый пучеглазый парнишка, с толстыми губами, сальными завитками светлых волос, мокрым ртом и не сходящей улыбкой, чаще других пытавшийся шутить, не закрывавший рта в принципе, показался Федору Павловичу наиболее подходящей кандидатурой.
– Эй, с вами все в порядке? Может пивка? – предложил губошлеп, почуяв Федоров решительный порыв, и протянул ему бутылку пива.
Федор Павлович ещё раз прошелся взором по глупым и хмельным, потным, добрым лицам своих попутчиков. Остановился на пучеглазом. И переняв липкую бутылку в свои руки, хорошенько отхлебнул.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































