Текст книги "Иностранная литература: тайны и демоны"
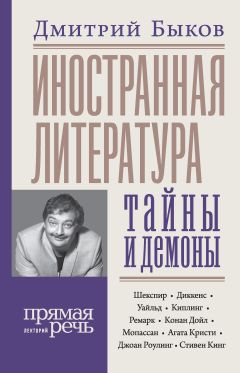
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Идея чудесного преображения Эдвина Друда кажется мне абсолютно реальной. «А как же его никто не узнавал?» – воскликнут все. Да вот так и не узнавал – ходил он в виде Дэчери рядом со всеми, и Джаспер его видел, и Грюджиус видел, и Невил Ландлес видел, и никто не понимал, что это он, потому что после того, как он побывал в загробном царстве, с ним произошло невероятное: он остался тем же и стал другим. Вот это ход! Вот из этого хода можно выстроить роман.
Потом, конечно, когда он, допустим, крикнет в склепе: «Джаспер, вот ты и пришел!» или «Вот ты и пришел, Джек», – вот тут-то Джаспер и узнает своего Нэда. Но до этого момента никому и в голову и не придет, что это он. К этому ходу прибегнет, например, Леонид Андреев в своем рассказе «Елеазар»: Елеазара (Лазаря), который «вышел из могилы, где три дня и три ночи находился он под загадочною властию смерти», даже собственная родня не узнает. Эдвин Друд побывал на грани и, может быть, даже за гранью смерти, и это сделало его неуязвимым для всех.
Есть, впрочем, и версия, вполне мне близкая и понятная, что Эдвин Друд действительно погиб, и в замечательной главе, которая называется «Когда эти трое снова встретятся?», предсказана смерть всех трех главных героев романа.
Ответ мог быть в предполагаемом финале романа. Джаспер погиб, сорвавшись с крыши собора, очень по-диккенсовски. Эдвина Друда убили. Невил – на нем с самого начала лежит печать обреченности, – наверное, погиб, защищая сестру. И встретились они, когда в их честь Роза Баттон назвала своих детей. А почему же и в честь Джаспера? А потому, что любил ее больше всех. Женщина таких признаний не забывает.
Такой финал, в котором Роза Баттон играет с тремя детьми, названными в честь трех главных героев ее жизни, кажется мне тоже очень диккенсовским. Когда убийца, убитый и нечаянный виновник примирились и играют у ног главной героини. Это по-диккенсовски, это красиво. Это утешительно и вместе с тем жутко. Вполне достойный финал для такого романа.
«Тайна Эдвина Друда» стала символом неоконченного романа именно потому, что, каков бы ни был вариант ее окончания, он разочаровал бы читателя. Поэтому Господь позволил Диккенсу написать его главную, великую книгу, оставив великую тайну неразгаданной. Правда, Чегодаева справедливо предполагает, что и в любом романе Диккенса, если оборвать его на половине, мы никогда не угадаем развязку. Это верно. Мы не угадаем развязку, но так ли уж много мы потеряем?
Конечно, оборванный на половине роман «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» не сказал бы нам всего о Копперфилде, но качество этого романа осталось бы неизменным. Это был бы гениальный, но диккенсовский роман, не выше и не ниже этой планки. А «Тайна Эдвина Друда» – роман, оборванный самим Господом на кульминационной точке, оборванный так же, как и жизнь Диккенса. Такой же прекрасный, такой же загадочный и такой же в результате продлившийся в бесконечность. Вот и сбылось пророчество старухи-опиумщицы: «Нэд будет жить вечно».
Оскар Уайльд
Уайльд и его душа
Когда говоришь об Уайльде, сталкиваешься с рядом довольно занятных предрассудков. Это заметил еще Владимир Набоков, сказавший, что эстетизм Уайльда со временем совершенно перестал восприниматься, остались только сентиментальность и довольно забавный старомодный морализм, хотя вот уж в чем Уайльда труднее всего заподозрить.
Думаю, главный парадокс Уайльда заключается в том, что его время пришло только сейчас. Ответ на вопрос, почему так вышло, дает его очень недурное эссе «Душа человека при социализме» (1891), совершенно сегодня забытое. В этом эссе есть чрезвычайно важные прозрения. Уайльд понимал социализм весьма своеобразно: как царство изобилия, равных возможностей, экономической независимости, упразднения собственности. Собственность, считал он, это проклятие, потому что ее необходимо постоянно приобретать, о ней заботиться, а человек рожден творить. Он даже вывел такую формулу: «…прошлое есть то, куда не следует возвращаться. Настоящее – то, где оставаться не до́лжно. Будущее – вот обитель художника»[28]28
Перевод О. Кириченко.
[Закрыть]. Формула эта довольно близко корреспондируется с известной мыслью Ницше, что человек есть то, что должно быть преодолено.
Чем же будет заниматься человек при социализме? Здесь Уайльд удивительно радикален. Все привыкли, что он не мыслитель, что его парадоксы, как говорил большой его любитель и пропагандист Корней Иванович Чуковский, – это общие места навыворот: «Всё навыворот, всё наоборот в этом перевернутом мире, не только образы или сюжеты, но и мысли». А между тем Горький защищал Уайльда от этого упрека и говорил, что в этих общих местах содержится блистательная жизненная программа.
При социализме, как представляется Уайльду, будет отменен существующий порядок вещей, потому что улучшать этот порядок – значит способствовать укреплению самого отвратительного, что в нем есть. Многие сегодня полагают, говорит Уайльд, что надо помогать бедным. Между тем, помогая бедным, мы лишь сохраняем их в статусе бедных; «такими средствами болезнь не излечить: можно лишь продлить ее течение». Нужно радикально изменить среду, «попытаться преобразовать общество на новой основе, при которой нищета сделалась бы невозможной». Помогая рабам, говорит Уайльд, мы делаем их еще более рабами, и в этом он абсолютно совпадает с Чеховым. «Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья… – говорит герой рассказа «Дом с мезонином» (1896) Лидии, учительствующей в деревенской школе. – <…> Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а напротив, еще больше порабощаете». Неожиданно обнаруживаешь, что Уайльд и Чехов – два странных двойника, причем двойника абсолютно во всем: Чехов тоже терпеть не может социальные проблемы и высоко ценит эстетические, он рассказы свои строит по уайльдовскому принципу – в них нет морали никогда, как свод правил Чехов мораль отрицает. И в биографиях их много параллелей. Правда, в 1895 году Уайльд отправился в Рэдингскую тюрьму не совсем добровольно, а Чехов несколько раньше, в 1890 году, поехал на Сахалин абсолютно добровольно, но то, что двух самых последовательных эстетов влекло в самое неэстетичное место, – безусловно, очень знаковое совпадение.
Уайльд говорит, что забота о бедных всегда лицемерна, «милосердие такого рода растлевает и деморализует человека»; по большей части забота эта нужна нам исключительно для того, чтобы уважать себя, а помощь нищим – это всегда форма откупа (великолепная формула, которая, по сути, ставит крест на любой благотворительности). Когда мы делаем вид, что помогаем ближнему, когда мы заботимся о чьем-то процветании, мы прежде всего избегаем наших главнейших обязанностей по воспитанию собственной души, «ибо в этом, а не в физическом труде призвание человека». И вот здесь поражаешься тому, какой Уайльд, как говорил о нем Чуковский, «уже давно наш русский, родной писатель». Ведь это наша родная толстовская мысль! Помните, Толстой, разбираясь со знаменитым тезисом Золя о том, что труд совершенно необходим, говорит: проповедь труда, работы, которая так популярна сегодня в Европе и которую так активно проводит в своих сочинениях Золя, это не что иное, как проповедь духовного сна, духовного самозабвения. Эти люди трудятся только для того, чтобы забыться, а на самом деле единственная обязанность человека – работа по совершенствованию собственной души. Самое интересное, что при этом оба автора обрушиваются на Золя, Золя им совершенно поперек души. Уайльд, к примеру, в «Упадке лжи» (в «Упадке искусства лжи» в другом переводе, 1889), еще одном своем замечательном эссе, говорит: «Г-н Раскин[29]29
Джон Рёскин (также Раскин; 1819–1900) – английский писатель.
[Закрыть] как-то сказал, что герои романов Джорджа Элиота представляют собой ошметки на полу Пентонвилльского омнибуса; так вот, герои г-на Золя куда хуже. Их добродетели по степени своей тоскливости превосходят их грехи», – и добавляет, мол, если герои Бальзака – это образная реальность, то герои Золя – сама безобразная реальность («Между “Утраченными иллюзиями” Бальзака и “Западней” Золя такая же разница, как между образным реализмом и безобразной реальностью»). Это достаточно жесткие слова. И чем же Толстому и Уайльду не нравится Золя? Да тем, что он имеет дело с грубой жизнью. А дело искусства, дело художника – эту грубую жизнь преодолевать и отходить от нее как можно дальше. И кстати, другой абсолютно русский автор, уж русее некуда, Марина Цветаева через двадцать лет пишет молодому большевику Бессарабову, который был в нее влюблен, то же самое: «…не разменивайтесь на копейки добрых дел недобрым людям, единственное наше дело на земле – Душа».
В эссе «Душа человека при социализме» Уайльд с абсолютной радикальностью отменяет не просто мораль как таковую, а мораль традиционную, ту же необходимость помогать ближнему, ту же проповедь свободы. Рабу свобода не нужна, потому что освобождение рабов, например, в США было делом аболиционистов.
Любопытно при этом отметить, – пишет Уайльд, – что со стороны самих рабов аболиционисты не только не получали особой поддержки, но даже едва ли находили сочувствие; когда же по окончании войны рабы оказались на воле, свободными до такой степени, что были обречены на голод, многие из них горько сожалели о переменах.
Уайльд знает, о чем говорит, потому что он Америку посещал и год разъезжал по ней с лекциями. И это тоже напоминает нам Чехова, его «Вишневый сад». «Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь», – говорит старый Фирс. «Перед каким несчастьем?» – спрашивает Гаев. «Перед волей».
Мысль о том, что рабу не нужна свобода, что раб не может ее оценить и ею воспользоваться, – великое уайльдовское прозрение. Именно сейчас, когда мы стоим на пороге осознания непобедимости этого рабства, нам очень и очень пригодятся уайльдовские мысли.
И еще одна замечательная мысль высказана в этом эссе. Уайльд говорит, что тираны бывают трех видов. Есть тираны, которые насилуют тело, – это государство. Есть тираны, которые насилуют душу, – это, условно говоря, папа. Есть тираны, которые насилуют и душу, и тело, – это чернь, публика. Это превосходная формула, потому что она позволяет Уайльду перейти к проблеме демократии.
Он говорит, что никакой демократии при социализме не будет, она в принципе невозможна. Демократия есть не что иное, как дубинка, переданная из рук государства в руки черни, толпы. «Демократия – не что иное, как припугивание толпой толпы в интересах толпы». А власть толпы «слепа, глуха, отвратительна, абсурдна, трагична, смешна, опасна и бесстыдна». И ничего на это не возразишь, потому что, сколько бы мы ни думали о демократии, как бы ни защищали демократию, как бы ни повторяли мысль Черчилля, что из всех наихудших видов государственного устройства демократия – наихудший, мы понимаем, что это попытка спасти старое мироустройство. А старое мироустройство уже скомпрометировало себя. Улучшать его бессмысленно. Улучшать его – значит реанимировать злодея, реанимировать смертельно больного.
Человек будущего, говорит Уайльд, окажется, наконец, свободен от любых обязанностей, кроме обязанности перед собственной душой. Но – и это тоже глубокая его мысль – и социализм в принципе может привести к диктатуре идей. Он пишет:
Многие социалистические воззрения, с которыми мне пришлось столкнуться, показались мне носителями идеи диктата, чуть ли не открытого принуждения. Если социализм станет авторитарен, если будущие Правления вооружатся экономической властью, как ныне они вооружены властью политической <…> то будущее человечества страшней, чем настоящее.
Диктатура идей, утверждает Уайльд, всегда экономически провальна и несостоятельна. Какое-то время она может продержаться, однако, если у человека не будет никакого мотива для его работы, если его работа будет принудительна, если к каждому будет приставлен часовой, заставляющий его работать, эта система экономически неэффективна. (Для того чтобы убедиться в этой простейшей мысли, нам в Советском Союзе пришлось потратить семьдесят лет.) Нельзя принудить человека ни к чему, доказывает Уайльд, в конце концов, единственное преимущество человека – это самостоятельно совершить все свои грехи и ошибки. Любое принуждение – к злу или к добру – одинаково губительно. И то, что казалось блестящим парадоксом Уайльда, сегодня кажется абсолютно очевидной истиной. Ни строй, построенный на добре, ни строй, построенный на зле, если этот строй тоталитарен, не может с человеческой душой ничего сделать.
После всех этих рассуждений Уайльд делает вывод, что будущее общество будет обществом одиночек, творящих для себя, живущих для себя, потому что единственная забота человека, единственный долг, который у него есть, – это долг реализовать себя наиболее полно. Все остальные представления о долгах, обязанностях, правах и так далее человеку навязаны и, по сути своей, ему враждебны.
У Уайльда очень радикальный подход к тому, что надо сделать с человечеством. Он считает, что оно должно быть коренным образом пересоздано, и в этом смысле он абсолютно совпадает с двумя мыслителями, которые находились под сильным влиянием Достоевского. Я говорю о Горьком и Ницше. Известно, что Горький и усы свои отпустил для того, чтобы быть похожим, по выражению Хлебникова, на моржовью голову Ницше. И Ницше, и Горький, и Уайльд утверждают: прежний мир к концу XIX века абсолютно закончился. Все естественное, что существует само по себе, – человеческая природа, человеческие инстинкты, желания, – все это животное. Естественное по́шло, убийственно, корыстно, все, что человек совершает по инстинкту, по естественному побуждению, должно быть забыто. Нашим лозунгом должна стать абсолютная искусственность. Мы должны переместиться в мир воображения, говорит Уайльд, потому что в реальном мире нет ни правды, ни красоты, ни благородства. Даже произведение искусства никого ничему не может научить, вспомните его замечательный слоган из предисловия к «Портрету Дориана Грея»: «All art is quite useless» – «Всякое искусство совершенно бесполезно». И Уайльд проводит очень точную, очень неожиданную для XIX века мысль о том, что воспитывать искусство может только силой воображения, только эстетическим шоком, потому что никакая моральная проповедь, никакая проповедь добра ничего сделать не может. Если искусство не является чудом, оно не нужно. Если книгу не стоит перечитывать, ее не стоит и читать, говорит он в «Упадке лжи». А перечитывать ее хочется только тогда, когда в ней есть элемент словесного чуда. В этом смысле, конечно, и Набоков (который вообще-то Уайльда не любил), и другие последовательные эстеты XX века – прямые уайльдовские ученики.
Но здесь мы вступаем в самую опасную и самую важную сферу: а как эти мысли Уайльда соотносятся с христианством? Уайльд называет себя правоверным христианином. «Нигилист, отрицающий любую власть, как раз и есть правоверный христианин», – говорит он, имея в виду, что христианство в конечном счете может спасти мир. И вот тут вечный спор, загадка для меня: кто лучший христианин – Уайльд или Честертон? С одной стороны, широко известна фраза Честертона, что ужаснее мыслей Уайльда только его судьба. С другой – можем ли мы назвать христианином человека, который, возмутившись неэстетичными лохмотьями нищего, решил заказать ему «идеальное нищенское рубище» – картинное и живописное?
Уайльдовский демонстративный морализм – конечно, измывательство над человечностью. Знаменитое его самоосуждение, парадоксы в области мысли стали для меня тем же, чем в области страсти стало извращение. А кутежи с богатенькими аристократами, а хорошенькие мальчики из этой среды, а знаменитые его пьесы, в которых столько подчеркнутого цинизма, правда, очень скромного, невинного цинизма, а культ красоты – разве это не выглядит вызывающе антихристианским и чрезвычайно отталкивающим? На этом фоне комнатное, плюшевое, несколько детское христианство Честертона, его культ демократии, морализаторство, его ненависть к снобам – все это ужасно привлекательно. Но вот парадокс: стоит нам попасть в мало-мальски серьезный кризис и открыть при этом Честертона, и рвотная реакция будет первой, самой адекватной. Честертон с его пивным пузом, Честертон, друг простых и добрых людей, начинает казаться нам таким фальшивым вместе с его солнцем, ветром, добрыми людьми. Мы начинаем ненавидеть честертоновского героя, который под дулом пистолета заставляет пессимиста кричать: «Жизнь прекрасна!» Больше того, нам становится ненавистен этот честертоновский инфантилизм, за которым Борхес совершенно справедливо провидит неврозы и трусость, это честертоновское умиление обывателем. Обыватель с его здравым смыслом, говорит Честертон, стоит на пути у любой революции (терроризма, в терминологии Честертона), обыватель стоит на пути у преступления, он не позволяет провокаторам и террористам изменить мир. Но мы-то прекрасно знаем, что этот обыватель охотнее всего поддерживает террористов. Нет более омерзительной фигуры в XX веке, чем обыватель, потому что он действует по формуле Маяковского: «Мы обыватели – / нас обувайте вы, / и мы / уже / за вашу власть». Обыватель проголосует за любой терроризм, если он гарантирует ему трехразовое питание. Это и есть самое отвратительное в Честертоне – массовый характер убеждений, культ массы.
Христианин – это тот, кто много потерял. Христианин – это тот, кто дорого заплатил. А Уайльд заплатил дорого. Когда перед отправкой в Рэдингскую тюрьму он стоит на вокзале и в него плюют прохожие – это образ распятого художника XX века. Честертона – с его постоянной верностью жене, с его трогательными семейными отношениями, с его доброжелательством, – попав в первую же передрягу в жизни, начинаешь так ненавидеть, как можно ненавидеть только глубоко глухого внутренне человека. А Уайльд – вечный наш утешитель, потому что он травим, он одиночка, он всего лишился. И самое главное, что его понимание христианства – это понимание веселое, свободное, в каком-то смысле гораздо более жизнерадостное. Секрет Иисуса, говорит Уайльд, в том, чтобы быть самим собой, в том, чтобы каждый предельно реализовался, и приводит в доказательство – интересно, что в своей трактовке, – евангельскую притчу о грешнице:
Иисус сказал, что ее грех ей отпущен, – не потому, что она покаялась, но потому, что любовь ее была так сильна и прекрасна. Позже, незадолго до его распятия, когда восседал Он в кругу учеников, вошла та женщина и окропила главу Его дорогими благовониями. <…> И до сих пор люди почитают ту женщину как святую.
В этом замечательном, любимом моем эссе «Душа человека при социализме» Уайльд высказывает абсолютно крамольную, но очень привлекательную мысль: если человек живет в холоде, голоде и нищете, в моральном отношении он ничем не лучше, чем человек, который живет в роскоши. Должен был пройти XX век, чтобы мы это поняли и чтобы другой последовательный эстет Варлам Шаламов, с судьбой более ужасной, чем у Уайльда, но очень близкий ему по духу, такой же ненавистник труда, считавший труд проклятием человечества, сказал: «Пусть мне не “поют” о народе. Не “поют” о крестьянстве. Я знаю, что это такое… Интеллигенция ни перед кем не виновата. Народ, если такое понятие существует, в неоплатном долгу перед своей интеллигенцией»[30]30
См. его книгу «Четвертая Вологда».
[Закрыть].
Новый человек, прошедший через соблазны и искушения демократии, благотворительности, взаимопомощи, тоталитаризма, насилия над духом, через все эти гнусные соблазны XX века, через все попытки реанимировать проект человека, должен стать, как утверждает Уайльд, художником, создателем. Он должен заботиться о себе, и тогда общество станет гармонично. Заботиться о себе, разумеется, не в смысле самообеспечения. Почему Иисус советует богатому юноше оставить всё и идти за ним? Не потому, что оставить всё – хорошо, не потому, что нищета привлекательна, а потому, что забота о собственности отвлекает богатого юношу от главных забот. «Она мешает тебе познать свое совершенство. Она помеха тебе. Твоя обуза. Личности твоей чужда она. Познать, что ты есть на самом деле и что надобно тебе, можно, лишь обратив свой взор внутрь себя, не вне себя», – опять же по-своему передает Уайльд мысль Христа. Уайльд же идет еще дальше, утверждая, что и родственные связи еще не повод заботиться о ближнем, и в доказательство приводит евангельский эпизод, когда один из учеников Иисуса просит отлучиться на похороны отца, а Иисус отвечает: «Оставь мертвым хоронить своих мертвецов». И это корреспондирует странным образом с другой фразой, исполненной великолепной, благородной гордыни. «Однажды в ответ на свои жалобы на жизнь, – вспоминал Евгений Борисович Пастернак о своем отце, гениальном Борисе Пастернаке, – <…> я получил от него письмо, где он писал: “Мне брюхом, утробой, а не только головой ближе всякой крови (т. е. родства. – Д.Б.) Фауст”». Это жестоко сказано, но это сказано правильно.
И наконец, следует поговорить о довольно странном уайльдовском инварианте, о регулярно встречающемся у него сюжете, который викторианская эпоха почему-то очень навязчиво изучает, а именно о сюжете двойничества.
Наиболее наглядно этот сюжет представлен у Стивенсона в «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда», о чем мы уже говорили. У Уайльда свой извод этого сюжета, хотя и его постоянно мучает та же самая идея объективации собственного зла. Она возникает в двух текстах – в сказке «Рыбак и его душа» (1891) и в знаменитом романе «Портрет Дориана Грея» (1890), присутствует и во многих его эссе.
«Портрет Дориана Грея» – это, в общем, роман и про Россию. Россия тоже создала себе этот идеальный, не меняющийся с годами облик, что-то вроде плаката «Родина-мать зовет!», но только на фоне поэтичного среднерусского пейзажа. Это прекрасная, не очень молодая, но с осанкой крестьянской мадонны женщина на фоне желтеющих берез, которая воплощает собой всю культуру и духовность. Правда, то, что видим мы на портрете, давно уже не имеет с Россией ничего общего. Грубо говоря, Россия распалась на свою культуру, которая остается сияющей (недаром Уайльд говорил, что единственный смысл существования России – это присутствие в ней Толстого, Достоевского, Тургенева), которая стала иконой, которая всему миру предъявлена, и реальную Россию, которая рано или поздно, подобно Дориану Грею, воткнет нож в свое изображение, уничтожив свою культуру, и только по перстням на руках – в данном случае по георгиевской ленточке – можно будет узнать мертвеца.
Попытка создать идеальный образ себя и вынести его куда-то вовне – и болезненный, и важный для Уайльда вопрос. Об этом, в сущности, и «Портрет Дориана Грея». Это история о том, как герой умудрился вычленить из своей личности, подобно Джекилу, все свое зло. Но если у Джекила есть Хайд, то у Дориана Грея страшное зеркало его души – портрет, на котором после гибели Сибилы Вейн появляется «складка жестокости у рта», после убийства Бэзила Холлуорда – «отвратительная влага, красная и блестящая, выступила на одной руке портрета, как будто полотно покрылось кровавым потом»[31]31
Перевод М. Абкиной.
[Закрыть], а после гибели брата Сибилы Дориан на портрете уже окончательно становится уродом, страшной химерой. А самое ужасное, что при попытке вернуться к цельному образу Дориан Грей погибает чудовищным стариком, а на портрете опять сияет молодой красавец.
Подобная же коллизия встречается у Уайльда в очень странной, самой длинной его сказке «Рыбак и его душа». Молодой рыбак с бронзовыми руками выходит в море, забрасывает сети, и однажды попадается ему маленькая дева морская. Она просит отпустить ее, и он, конечно, отпускает, но при условии (морские твари всегда держат слово): она должна будет по первому его зову выплывать к нему и для него петь, «потому что нравится рыбам пение Обитателей моря, и всегда будут полны мои сети»[32]32
Перевод К. Чуковского.
[Закрыть]. И каждый вечер рыбак звал ее, полюбил и попросил стать его женой. Она отвечает: «У тебя человечья душа! Прогони свою душу прочь, и мне можно будет тебя полюбить». «На что мне моя душа? – думает молодой рыбак. – Мне не дано ее видеть. Я не могу прикоснуться к ней». Но как избавиться от души? Священник не дал ему на это благословения и прогнал, и тогда рыбак идет к юной рыжей ведьме, красавице, в надежде, что она ему поможет. Но даже ведьма испугалась его просьбы, а согласилась при одном условии: он спляшет с ней в полнолуние на шабаше. Дальше следует очень избыточная и по-уайльдовски странная сцена: шабаш, неистовая пляска ведьм, рыбак видит даже дьявола с ослепительно красными губами… Но Уайльд – барочный автор, у него нередко встречаются избыточные вещи, типа одиннадцатой главы в «Портрете Дориана Грея», которая вся посвящена убранству его жилища и которую все нормальные читатели спокойно пропускают. Правда, сам Уайльд говорил, что эта книга была бы бессмысленна, если бы в ней не было эссе об украшении жилища.
Но вот прекрасная рыжая ведьма вручает молодому рыбаку хитрый ножик с рукояткой из змеиной кожи и говорит, что если он выйдет на берег в полнолуние, встанет спиной к луне и этим ножом у самых своих ног отрежет свою тень, то душа покинет его. Рыбак все это проделал, и перед ним встает его душа – тут одно из самых сильных и слезных описаний Уайльда, он прекрасно владеет даром вызывать слезы у читателя. Душа рыбака, рыдая, умоляет не прогонять ее, отдать ей сердце, потому что одна душа ничего не может, и если она останется к тому же без сердца, то погибнет. «Мое сердце отдано милой!» – отвечает рыбак. Тогда душа говорит: «Каждый год я буду являться на это самое место и призывать тебя. Кто знает, ведь может случиться, что я понадоблюсь тебе». «На что мне ты? Но будь по-твоему», – отвечает молодой рыбак и с радостью ныряет в синее море, где его поджидает с белоснежными лилейными своими грудями морская царевна. А душа, рыдая, побрела по болотам. Уайльд вообще, как все христианские авторы, большой мастер рефрена, он ценит библейский повтор, и вот эта дивная фраза «а душа, рыдая, побрела по болотам» будет сопровождать все ее скитания. Но раз в год она возвращается к рыбаку и рассказывает ему о своих приключениях, искушая его радостями мира. И каждый раз рыбак не поддается, «так велика была сила его любви» (еще один дивный рефрен).
Мы привыкли, что душа – это олицетворение совести, некий моральный компас. Но душа по Уайльду – это существо, абсолютно свободное от моральных правил. Это чистая персонификация таланта, это то, что не нужно обитателям морского дна. Душа, по Уайльду, – это ипостась творческая. Потому что сердце знает, где добро, где зло, а душа не знает. И вот на третий год душа соблазняет молодого рыбака рассказом о пляске прекрасной танцовщицы, нагие ноги которой «порхали по ковру, как два голубя» (а у девы морской хвост, и она не может танцевать), и рыбак позволяет душе войти в себя, чтобы увидеть чудесную пляску. Но по пути душа искушает его злом, подсказывая ужасные вещи: укради серебряную чашу, ударь ребенка, убей и ограбь приютившего их купца. А когда рыбак кричит: «Зачем ты так поступила со мной?» – душа отвечает: «Ты не дал мне сердца, потому и научилась я этим деяниям и полюбила их». Тогда в отчаянии от всех этих грехов и от этой злой своей души рыбак пытается опять отрезать тень, но отрезать ее во второй раз уже нельзя. Потому что тот, кто позволил своей душе хоть раз вернуться в себя, тот никогда уже от нее не избавится.
Тогда рыбак идет на берег, но сколько ни зовет он свою морскую деву, она не является на его зов. Так проходит год, и душа решает теперь искушать рыбака добром. Она рассказывает ему о «скорбях человеческого мира» и призывает его: «Избавим людей от всех бедствий, чтобы в мире больше не было горя». Но рыбак и от этого отказывается, и еще через год измученная душа говорит: «Злом я искушала тебя, и добром я искушала тебя, но любовь твоя сильнее, чем я. Отныне я не буду тебя искушать, но я умоляю тебя, дозволь мне войти в твое сердце, чтобы я могла слиться с тобою, как и прежде». Но едва рыбак сказал: «Можешь войти», – как раздается вопль, и море выносит мертвое тело морской девы, рыбак умирает. «От полноты любви разорвалось его сердце, и Душа нашла туда вход, и вошла в него, и стала с ним, как и прежде, едина». Хоронят их в одной могиле на погосте отверженных, концовка там не пришей рукав, потому что Уайльд, гениальный импровизатор, говорил, что все свои сказки он рассказывал на ночь своим детям. А когда рассказываешь детям сказки, то импровизация ведет тебя дальше и о художественной логике ты особенно не заботишься. И потому финал этой сказки, в котором священник благословляет всякую морскую тварь, конечно, абсолютно искусственный.
Строго говоря, тут две проблемы. Одна – почему для того, чтобы стать свободным и счастливым, полюбить морскую царевну, надо изгнать из себя душу, что такое эта душа? И вторая – почему с ней нельзя расстаться вторично, почему, раз впустив в себя свою душу обратно, ты не можешь больше избавиться от нее никогда? Что здесь, собственно, имеется в виду, какая бессознательная аллегория может Уайльдом владеть?
И тут как никогда верна мысль Юрия Арабова: можно быть последовательным злодеем и всегда побеждать, но стоит тебе один раз усомниться в себе, один раз проявить милосердие, попытаться перевязать узлы своей жизни – и проигрывает сражение Наполеон, и гибнет Пушкин, который начал каяться, и гибнет Дон Гуан, который впервые полюбил. Пока ты блистательный, без чести, совести и морали гений, все у тебя хорошо. Но стоит тебе один раз впустить в себя обратно свою душу, и ты, можно сказать, погиб. И мы невольно приходим к выводу о странной, преследующей Уайльда фантазии о том, что, если бы удалось располовинить свою личность, выбросить из себя талант, выбросить из себя душу или оставить где-то совесть, можно было бы остаться счастливым. Если бы отделить душу от сердца, все было бы в порядке. Если бы эту злую, любопытную, артистическую, гениальную душу отправить куда-то бродить, можно быть счастливым в личной жизни, можно наслаждаться морской царевной, можно песни петь, и вообще, все у тебя в порядке. Но главное – это избавиться от проклятой дуальности. Потому что, пока эта двойственность тебя ведет, у тебя никогда ничего не получится.
Могу понять, почему Уайльда так преследовал страх собственной грешной природы. Он был благополучный семьянин, любил свою Констанцию, у него были прекрасные дети. Но он открыл в себе неожиданно порочное влечение, и началось страшное раздвоение личности. Поэтому он и мечтает так яростно снова стать прежним Уайльдом. Но, раз изгнав душу, другой раз избавиться от нее невозможно. Видимо, он понял самое страшное, что в XX веке стало одной из главных тем литературы: человек – это существо, которое в силу дуальной своей природы не может построить для себя ни утопию, ни даже нормальную жизнь, человек обречен вечно маяться. Утопия вечного художника, который творит и заботится только о себе, неосуществима прежде всего потому, что у человека есть совесть и сострадание. И поэтому совет, который вслед за Уайльдом дает Брюсов: «Первый прими – никому не сочувствуй. / Сам же себя полюби беспредельно», – невыполним, оказывается, это сделать невозможно. Потому что, когда человек сам себя полюбит беспредельно, у него перестанет получаться искусство, и вообще он никому не будет нужен.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































