Текст книги "Акробаты благотворительности"
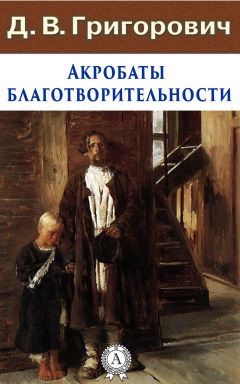
Автор книги: Дмитрий Григорович
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
IX
В субботу утром Алексей Максимыч отправился на постройку раньше обыкновенного. Он торопился вовсе не потому, что в этот день обещали приехать Воскресенский и его ассистенты Бабков и Лисичкин. Посещение этих лиц не беспокоило его, но и не радовало. Художников он мало знал; они, притом, не будучи ему сочувственны, не внушали ему уважения своими работами и мнения их не имели в глазах его значения. Иван Иваныч ничего не понимал в искусстве; он был в нем, как лососина на цветочной выставке.
Другая причина привлекала Зиновьева на постройку: внутренность церкви только накануне совсем освободилась от лесов; он успел уже вчера выяснить себе в общих чертах, насколько исполнение отвечает задаче; но работы кончились поздно: все-таки не было возможности дать себе, как бы хотелось, полного, сознательного отчета в художественном впечатлении целого; в придачу, день накануне был пасмурный. Он спешил сегодня, рассчитывая воспользоваться ясным солнечным утром.
Церковь была пуста, когда вошел в нее Алексей Максимыч; маленькую дубовую дверь в главном портале отворил ему сторож, старый солдат, помещавшийся с женою и детьми в подвальном этаже, предназначенном для служителей и их семейств, в главном корпусе будущего центрального благотворительного учреждения. Зиновьев отпустил его, сказав, что присутствие его у двери потребуется не раньше двенадцати часов, так вак только к этому времени прибудут гости.
Алексей Максимыч остался очень доволен тишиною, его окружавшей; она позволяла сосредоточиться и ясно определить впечатления.
Заняв место у главной входной арки, откуда глаз свободно обнимал всю внутренность церкви, старый архитектор несколько минут простоял в немом неподвижном оцепенении, стараясь сосредоточить свое внимание. Сердце его билось; он почувствовал на лице жар от охватившего волнения. Мало-помалу черты его успокоились, дыхание стало свободнее. Он не хотел себя обманывать: час дня и выгодное освещение, конечно, прибавляли к хорошему впечатлению; лицо его, тем не менее, оживилось улыбкой; в груди его встрепенулось давно неиспытанное чувство и подступило ему к сердцу; ноздри его задвигались, ресницы прищурились и что-то едко защекотало его в углах глаз; не успел он прикоснуться к ним пальцами, как две слезинки побежали вдоль щек, быстро расплываясь в мелких морщинках.
Было всего девять часов утра; косые лучи солнца, перехваченные тонкими колоннами галереи второго этажа, обдавали внутри здания всю левую его часть, оставляя другую половину в полусвете, смягченном отражением светлых стен и пола, собранного в клетку из белого и серого камня. В этом теплом отражении, – но только темнее его тоном, – круглились боковые арки и своды, усыпанные золотыми звездами но синему нолю. Внизу, вокруг всей церкви обходил пояс, гладко оштукатуренный под порфир, красно-бурого цвета; отсюда начиналась живопись; стены сплошь были ею покрыты; Алексей Максимыч собрал здесь все, что было лучшего и характерного в древне-греческом искусстве; отдельные лики святых, цельные изображения, сцены из священного писания рядами наполняли здание, выделяя свои очертания и краски на золотом фоне, разделанном под мозаический набор; в верхних рядах живопись казалась уже совсем темною; золото, наоборот, светлее выказывалось, приближаясь к потолку, выведенному плоско, с поперечными балками, расписанными красками и золотом, как в древних базиликах. Внутренний вид церкви особенно оживлялся цветным орнаментом, писанным также на золоте; он служил рамкой для стенной живописи, огибал все фризы, арки и ребра сводов, упиравшихся на золоченых капителях с расписанными колоннами.
В этом блеске красок и мерцании позолоты ничего не было поражающего пестротою; Алексей Максимыч больше всего этим тревожился; он мог теперь успокоиться: мастерское распределение красок и золота нигде не нарушало гармонии целого; все соединялось как нельзя удачнее и производило тот светлый, торжественный, но спокойный аккорд, которого так добивался художник.
Внимание его перешло тогда к алтарю – предмету особенной заботливости и попечения; но там, по-видимому, также все отвечало мысли строителя; там, в углубленном полукруглом пространстве, нарочно так рассчитанном, чтобы он оставался в полусвете во всякое время дня, величественно выступали строгие изображения апостолов и Спасителя, восседающего на троне; изображения эти, колоссального размера, писаны были во всю вышину стены, как в палатинской капелле в Палермо, и также на золотом фоне под мозаику; местами, в глубине, золото принимало цвет густого янтаря, за которым как бы поставили свечку; местами отражение соседних стен выдвигало тот или другой лик, сообщая углубленным частям алтаря тот таинственный оттенок, который еще в рисунках мерещился художнику.
Лицо Алексея Максимыча омрачилось тогда только, когда глаза его встретились с иконостасом. Последний действительно не удался. Но крикливая позолота и живопись слишком уже резко били в глаза и противоречили характеру других частей здания, чтобы можно было приписать такую ошибку архитектору; так, по крайней мере, должен был подумать каждый благомыслящий человек. Алексей Максимыч мало, однако ж, этим утешался; иконостас был для него тем же, чем было бы для матери бельмо или кривая нога у любимого детища. Но что было ему делать? В первоначальном проекте он хотел его оставить резным в натуральном цвете дерева; попечительный совет не допустил до этого, настоятельно требуя позолоты; Иван Иваныч, передавая волю совета, сказал, что таково было желание купца, пожертвовавшего деньги; неисполнение такого желания легко могло охладить рвение других жертвователей. То же самое произошло с образами. Напрасно, чуть не со слезами на глазах, убеждал Зиновьев, что этим все дело будет испорчено, что образа эти, своими рутинными формами и кондитерской живописью, нарушат гармонию целого, – попечительный совет, через посредство Ивана Иваныча, снова поставил вопрос ребром; образа Лисичкина были им пожертвованы и, во что бы ни стало, необходимо было их принять, чтобы поощрить жертвователя; образа, кроме того, как жертвованные, в значительной степени сокращали расход; архитектору было, конечно, все равно; имея в виду только красоту и гармонию, он готов был эгоистически принести им в жертву денежные интересы; попечительным советом, наоборот, управляла широкая общественная задача, заставлявшая каждого из его членов смотреть на пожертвованные деньги, как на свои собственные. Алексей Максимыч поневоле должен был покориться. Но не один попечительный совет отравлял ему сладость труда; чего стоила ему эта постоянная борьба против Ивана Иваныча, который, хотя мягко и вкрадчиво, но всегда назойливо старался примазать к постройке разных лиц, не имевших ничего общего с архитектурой и художеством. Цель Воскресенского была весьма понятна: ему хотелось доставить этим лицам случай получить награду впоследствии; но архитектору было не легче от этого. Зиновьев для своей цели горячо желал призыва суздальских живописцев; Воскресенский восставал против такого желания; согласие пришло после того, как Зиновьеву удалось успокоить Ивана Иваныча, нравственное чувство которого возмущалось тем, что все иконописцы горькие пьяницы и непристойно допускать их к делу благочестия. Суздальцы действительно пили мертвую; хлопот с ними было немало; но они, по крайней мере, безусловно повиновались указаниям, и живопись их отвечала характеру церковной архитектуры. Сколько раз, в самое кипучее время, приходилось отрываться от дела, чтобы исполнять частные даровые работы, делать рисунки для ковров, окладов, хоругвей, и т. д., – и все это только для того, чтобы поладить с Воскресенским, желавшим угодить разным благотворительницам, попечительницам и председательницам, которые страстно хотели жертвовать, но так, однако ж, чтобы жертвы обходились как можно дешевле.
В прошлом году Алексея Максимыча постигло горе, которое чуть было совсем его ее сокрушило. Вдова бывшего товарища по академии упросила его взять и число помощников сына; молодой человек прекрасно учился, отлично знал бухгалтерскую часть и, быв ее единственной поддержкой, находился теперь без места. Зиновьев сжалился, обласкал молодого человека и, приметив в нем старание и деятельность, мало-помалу, с свойственной ему доверчивостью, поручил ему вести приходо-расходные книги и рассчитываться с рабочими. Кончилось тем, что молодой человек обобрал его, как липку; в один прекрасный день в кассе недостало, – шутка сказать! – целых двух тысяч. Алексей Максимыч был близок к отчаянью. Что было делать? Подать жалобу в суд? Донести до сведения совета? Результатом была бы огласка; его доверчивость объяснили бы небрежением, нерадением к делу; как строитель церкви, он рисковал возбудить подозрения еще худшего сорта. Его могли лишить постройки, потому что лица, покровительствуемые Иваном Ивановичем, конечно, не попустили бы воспользоваться удобным случаем.
Движимый такими мыслями, Зиновьев решился оставить дело втайне; как ни горько было, он поспешил пополнить украденную сумму из скопленных трудовых денег. Никто ничего не узнал, кроме вдовы и самого вора, который, впрочем, перенес катастрофу не только равнодушно, но даже с некоторым достоинством; Алексей Максимыч не раз потом встречал его гуляющим с папироской и беспечно помахивающим тросточкой.
Зиновьев не вспомнил о врагах своих, подрядчиках, не перестававших ему насаливать в течение этих трех лет. Боже мой, что значили эти неприятности перед теми, какие пришлось испытать, особенно в последнее время, когда между ним и Воскресенским начались какие-то лицемерные отношения и, наконец, пошло явное недоброжелательство, сопровождавшееся, что ни шаг, новыми придирками; когда всякая мелочь должна была представляться попечительному совету и членам на обсуждение, от них переходить к Воскресенскому, от Воскресенского переходить на утверждение графа, при чем каждое из этих лиц, не отвечая ни на что точно и определительно, считало долгом заметить: «Что тут… как будто… было что-то… не совсем так… и лучше бы прибавить: а здесь, хотя и было ладно, но… казалось как будто… надо было что-то убавить…»
Но все эти воспоминания, случайно вызванные в памяти старого архитектора, промелькнули мимо, не возбуждая в ней ни желчи, ни раздражения. Он находил себя достаточно вознагражденным уже тем, что заветная мечта стольких лет не осталась праздною мечтою; она осуществилась, получила осязательную, желанную форму, дала удовлетворительный художественный результат; Алексей Максимыч недаром, стало быть, прожил; труды его не пропали; имя его останется…
Зиновьев был слишком скромен, чтобы придавать своей работе преувеличенное значение. Он трудился много, трудился от всего сердца, с любовью, с увлечением, но относился к своему труду просто, не священнодействуя или не кутаясь в плащ глубокомыслия, как теперь часто делают художники, приступая к портрету чиновника или изображению мужичка, тупо созерцающего древесный, пень.
Не страдая излишком самолюбия, он не поддавался самообольщению. Он знал очень хорошо, насколько в построенной им церкви неуместно было гордиться самобытным творчеством. Все здесь было не им выдумано, давно создавалось веками и встречалось на множестве памятников греко-византийской эпохи. На долю его выпало только собрать и соединить материалы.
Но, рядом с этим, они представляли совершеннейшие образцы, и выбором их несомненно должны были управлять вкус и знание; простой смысл говорил здесь о трудностях, которые надо было превозмочь, чтобы распределить разрозненные части, связать их общим смыслом, приспособить их к настоящей задаче; здравый рассудок указывал, что тут трудом одним ничего не возьмешь: нужно было художественное дарование, нужен был талант, чтобы слить эти части в одно целое и привести их в полное, гармоническое сочетание.
Алексей Максимыч мог бы повторить себе то же самое и гордо приподнять голову; он ограничивался тем, что потирал руки и мягко, добродушно улыбался; но и того чувства, которое наполняло теперь согретое сердце, довольно было, чтобы вытеснить тяжелые воспоминания всех неудач, разочарований, обид и горьких испытаний. Все это прошло, слава Богу; оставалось утешаться и радоваться, именно радоваться, потому что перед глазами сияло во всем блеске произведение, – плод собственной мысли и труда, – а на душе было также светло, благодаря чистой совести и честным побуждениям.
В таком счастливом настроении духа находился старый архитектор, когда в глубине церкви зашумела дверь и в светлом ее пятне показались сначала Иван Иваныч, а вслед за ним Бабков и Лисичкин.
Алексей Максимыч пошел им навстречу.
X
Не успел он сделать трех шагов, как уже издали послышался разнеженно-умиленный голос живописца:
– Здравствуйте, дорогой, – дорогой и многоуважаемый Алексей Максимыч. Честь вам и славя! Честь и слава… Ах, какая прелесть!..
Зиновьев приветливо раскланялся с гостями и всем пожал руки; обратясь затеи к живописцу, он только прибавил:
– Погодите хвалить; дальше, может-быть, еще и не понравится…
– Нет, уж извините: отсюда уже вижу, какое наслаждение нас дальше ожидает! – с сияющим видом заговорил Лисичкин, придвигаясь вместе с другими к середине церкви. – Что я говорил? Как есть – праздник для глаз; сласть просто!
При этом он даже зачмокал губами, как бы действительно ощутил сладость во рту.
– Какой блеск! Сколько характера и, вместе с тем, какая везде гармония! – продолжал Лисичкин, останавливаясь в восторженном экстазе, но на самом деле поглядывая сбоку на свои образа в иконостасе.
Удовлетворив себя с этой стороны, он неожиданно принял намерение расцеловать Зиновьева, но серые его глазки встретились с прищуренными глазами Бабкова, и он остановился; восторг должен был, однако ж, чем-нибудь выразиться; он поспешно завладел рукою старика и, нежно пожимая ее между мягкими своими ладонями, снова стал обдавать его медом и елеем.
Бабков, между тем, продолжал молчать. Он всегда завидовал «находчивости лукавого блондина», умевшего притвориться к случаю, пригнать к нему подходящие слова, лицо и даже голос; Бабков, как известно, был человек прямой, основательный; прежде чем что-нибудь сказать, ему надо было осмотреться, взвесить, обсудить дело. Он ограничился пока тем, что осклаблялся во весь рот, когда встречался глазами с лицом Зиновьева, при чем показывал ряд крепких зубов, которые хотя никогда не чистились, – но белели между его толстыми губами.
Ивану Ивановичу нечего было высказывать своих впечатлений. Следя за постройкой и наезжая сюда время от времени, он давно успел вывести свои заключения. Он был, притом, умственно и нравственно озабочен: в три часа надо было ехать в заседание, временно председательствовать и провести весьма сложный вопрос. Кроме того, ему сегодня как-то нездоровилось; а тут еще эти сырые степы новой, только что отстроенной церкви, сжатый воздух, пропитанный запахом извести и красок! Несмотря на резиновые калоши, он почувствовал холод в ногах, едва переступил порог паперти. Все это, естественно, не могло способствовать хорошему расположению духа. Бережливо кутаясь в теплое пальто с приподнятым воротником, углубляя подбородок в шерстяное кашне, он с нахмуренным видом следовал за художниками, упрашивая их идти вперед и не стесняться его присутствием.
Беседа их, по-видимому, мало его занимала; уловляя на лету восторженные восклицания Лисичкина, он направлял в его сторону белые зрачки свои, смотревши выше очков, и что-то похожее на улыбку появлялось тогда на губах его. Остальное время черты Ивана Иваныча сохраняли унылую неподвижность; на вытянутом, болезненно-золотушном лице ничего нельзя было прочесть, кроме скуки и того брезгливого выражения, какое встречается чаще всего на лицах людей, заседающих в комитетах и вынужденных возвращаться к вопросам, давно разрешенным и подписанным.
Осмотр постройки продолжался около часу.
Воскресенский присоединился к общей группе, когда художники возвратились к прежнему месту, на середину церкви.
В эту минуту голоса присутствующих неожиданно смолкли. Всеми овладела вдруг не то неловкость, но скорее какое-то колебание, точно каждый хотел сказать что-то, но не решался начать. Воскресенский, державшийся похвального обычая выслушивать чужие мнения, прежде чем высказать собственные, вопросительно посматривал на Лисичкина и Бабкова; те, в свою очередь, поглядывали на Воскресенского, выразительно показывая глазами, что прежде желали бы услышать его слово.
Молчаливый, но полный телеграфного значения обмен этих взглядов, хотя и прошел незаметным Зиновьева, но молчание присутствующих, видимо, его стесняло.
– Прекрасно-с… Очень хорошо-с, разрешился наконец, Иван Иваныч, произнося слова носовым голосом и умышленно их растягивая, с тем успеть обдумать то, что хотел сказать. – Мне присоединиться к господам художникам, коллегам вашим, и повторить вместе с ними: прекрасно-с.
– Мне остается только радоваться, весело возразил Зиновьев.
Иван Иваныч медленно снял замшевую перчатку с правой руки и подал ее старому архитектору.
– Об одном разве пожалеть можно, прибавил он, отводя глаза в другую сторону. – Я, впрочем, уже прежде сколько раз упоминал вам об этом, уважаемый Алексей Максимыч!..
– Скажите, живо подхватил Зиновьев, – вы знаете, я всегда исполнял ваши желания и советы; время еще есть: можно исправить.
– Нет, то, что я хотел сказать, не касается вовсе искусства; я выражаю только сожаление, что раньше не поспело… Освящение церкви, вы знаете, назначено было к Святой; мы теперь в июне… и… и все еще не готово!.. Посмотрите-ка, сколько еще остается работы…
Работы оставалось совсем не много: надо было, на входе в церковь, достлать пол, который пока забран был досками; оставалось положить ступени для соединения алтаря с церковью и украсить их балюстрадой; последняя была, впрочем, совершенно готова и частями сложена по углам; на одной из нижних боковых арок недоставало также расписного орнамента. Но все это не стоило даже упоминания и если кого-нибудь надо было винить в этом, во всяком случай не архитектора, а скорее Воскресенского, который в последние три месяца всячески старался задерживать окончание постройки. Кредит Алексея Максимыча настолько был вдруг сокращен, что он едва мог рассчитаться с поставщиками материала и рабочими.
Как ни прискорбно было старому архитектору, он терпел, – терпел, ободряя себя надеждой, что совет[5]5
Иван Иваныч всегда на него ссылался.
[Закрыть] и сам Воскресенский поймут, наконец, всю несообразность останавливать работы перед самым их окончанием. Старания его изведать настоящие причины такого распоряжения остались бесплодны. Ему постоянно повторяли: «денег нет, подождите!» И, между тем, его же теперь обвиняли!
Слова Воскресенского задели его за самое больное место. Он на этот раз уже не выдержал. Сначала сдержанно, но потом вдруг разгорячаясь, так что краска выступила на щеках, он высказал Ивану Иванычу все то, что давно накипело в его душе.
Как только начались эти объяснения, Бабков и Лисичкин осторожно отошли в сторону. Показывая вид, что осматривают детали украшений, оба начали производить в воздухе фантастические пояснительные жесты; они продолжали упражняться пантомимой до тех пор, пока не рассудили, что пора поспешить на выручку Ивану Иванычу.
Он поблагодарил их взглядом; но глаза его тут же опустились и выражение смирения, с каким истинному христианину подобает выслушивать горечь несправедливых обвинений, изобразилось в чертах его.
– Вот, господа, упавшим голосом проговорил он, обращаясь к подошедшим художникам, – оказывается, меня теперь винят в том, что церковь не поспела к сроку…
– Я не говорю, что вы собственно виноваты, подхватил Зиновьев, заметно смягчаясь, – я повторяю, что так как все от вас зависело и зависит, вы могли бы больше содействовать…
– Позвольте, многоуважаемый Алексей Максимыч, продолжал Иван Иваныч тихим голосом, отвечавшим кроткому выражению его лица, – вам не угодно вникнуть в одно обстоятельство; скажу более; вы его совсем забываете; если мне было поручено заведывание постройкой, то это потому собственно, что так было угодно совету… Здесь совет хозяин… Власть моя ограничена… На каждом шагу, встречаются обстоятельства, которым я, скорбя душевно, – именно душевно, – должен покоряться… В деле этой постройки[6]6
Иван Иваныч печально обвел глазами стены церкви и подавил вздох.
[Закрыть] мною, как всегда, впрочем, руководило одно чувство: желание добра и пользы!.. Хотя мы знакомы не со вчерашнего дня, Алексей Максимыч, но, по-видимому, вы меня еще не знаете, подхватил он, как бы растроганно и с сожалением. – Я вам помешал! Я не содействовал! И в чем же? В достижении богоугодной, благочестивой цели?!. Позволю себе сказать: я бы желал видеть вас более справедливым! Если я позволял себе иногда торопить вас; если сегодня еще высказал сожаление, что церковь не готова, то и здесь, поверьте, скорее действовал в видах вашего же собственного интереса… Граф чуть ли не каждый день спрашивает и всякий раз сердится…
– Желал бы я посадить его на мое место; посмотрел, что бы он тут сделал! воскликнул Зиновьев, снова начинавший горячиться.
– Успокойтесь, успокойтесь, многоуважаемый Алексей Максимыч, вмешался Лисичкин, – вы должны, вы можете быть спокойны! Вы поставили себе памятник! Мы сейчас говорили об этом: прелесть! Честь вам и слава! Честь и слава! подхватил он, овладевая рукою старика и нежно пожимал ее между ладонями.
– Полноте, батенька, уговаривал со своей стороны Бабков, – я человек простой, никаких этих закрутасов не знаю; прямо скажу: отменно, отменно отличились! Соорудили, так сказать, в честь свою… Какой тут граф? Тут вы, батенька!
Иван Иваныч, желавший прекратить как можно скорее объяснения, вынул часы и прибавил, стараясь придать своим чертам смиренно-грустное выражение:
– Именно сожалею, что вам угодно было объяснить себе таким образом слова мои… Единственным желанием моим всегда было… и будет – угождать вам… Я постарался бы окончательно оправдать себя в глазах ваших, но, к сожалению, должен теперь торопиться; у меня сегодня заседание в три часа… Остается искренно поблагодарить вас за удовольствие, которое вы нам доставили; говорю нам потому, что господа художники такого же мнения…
– Еще бы! Повторяю: честь и слава Алексею Максимычу! Отменно, батенька, спасибо! – заговорили в одно время Бабков и Лисичкин, подступая к Зиновьеву, который провожал Воскресенского.
На паперти Иван Иваныч снова взглянул на часы и остановился.
– Перед уходом позвольте мне еще раз повторить вам, многоуважаемый Алексей Максимыч: вы, я вижу, меня еще не знаете… не знаете! промолвил он, как бы глубоко сожалея об этом. – Если бы вы меня лучше знали, поверьте, вы были бы ко мне справедливее… Он хотел еще что-то сказать, но опять вздохнул и, пожелав присутствующим всего хорошего, начал осторожно спускаться по ступенькам паперти. Бабков и Лисичкин хотели было поддержать его, но он смиренно поблагодарил их, прибавив: «У меня есть свободное место, господа; не угодно ли кому-нибудь?»
Как живописцу, так и Бабкову желательно было воспользоваться предложением; но они переглянулись и поняли, что тот, кто займет место, легко может увлечься случаем и изменить другому. Не желая, вероятно, нарушать прямоты взаимных отношений, они предпочли отказаться; поблагодарив Ивана Иваныча, оба сели рядом на дрожки и, подхватив друг друга за талию, покатили вслед за коляской.








































