Читать книгу "Акробаты благотворительности"
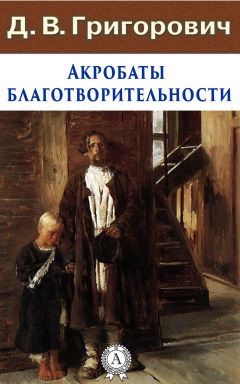
Автор книги: Дмитрий Григорович
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XIV
Постройка церкви, между тем, приближалась к концу.
– Слава Богу! говорил граф, улыбаясь своей приятной улыбкой всякий раз, как Иван Иваныч докладывал ему о новых успехах работы.
– Слава Богу, ваше сиятельство, повторял за ним Иван Иваныч, с выражением благочестия во взгляде.
– Зиновьев – прекрасный человек, но с ним мы бы никогда не кончили, говорил граф.
– Никогда бы не кончили! утверждал с убеждением Иван Иваныч.
Граф никогда больше не расспрашивал о старом архитекторе; он искренно сожалел о нем в первое время и даже вздохнул, когда Воскресенский, в разговоре о нем, молча, но выразительно пошевелил влажными своими пальцами по лбу, показывая, что тут как будто у старика что-то было не совсем в порядке; узнав от того же Воскресенского, что Зиновьев теперь, кажется, поправился и считает себя вполне вознагражденным за труды тем, что представлен к знаку отличия, граф окончательно успокоился и перестал о нем расспрашивать. И где же, в самом деле, было ему думать о Зиновьеве, когда поневоле всякий вечер приходилось забывать множество лиц, являвшихся с просьбами в течение дня; когда едва было возможно придти в себя, среди многочисленных и разнообразных вопросов, ежедневно предлагаемых на обсуждение в различных комиссиях и заседаниях?
Хорошо еще, что у графа была сестра, одаренная большой энергией. Она неожиданно являлась в кабинет, усаживалась против брата и не говорила ему, как делала большая часть родственников: «Mon cousin или cher Pierre, вы решительно себя убиваете!» – что, мимоходом сказать, доставляло всегда графу большое удовольствие, – но прямо отрезывала: «Довольно! Assez, mon frére!» – и как только брат начинал возражать, прибавляла: «Россия не погибнет, если ты оставишь ее на несколько часов в покое!», после чего насильственно увозила его куда-нибудь за город, предупредив заранее, что приедет сегодня с графом обедать.
К многочисленным заботам графа прибавились с некоторых пор семейные неприятности. Его снова начинал беспокоить сын. На пути в южную Францию, куда отправили молодого человека для ознакомления с отраслью, обещавшей в будущем столь важные последствия для Кавказского края, молодой человек застрял в Париже. С тех пор, как он оставил Петербург, – назад тому два месяца, – отец и тетка не получали никаких известий; знали только, что он в Париже.
Граф и графиня обратились тогда к родственнице, княгине Завадской, жившей большую часть года в столице Франции, прося ее отыскать молодого графа и дать о нем какое-нибудь сведение. Княгиня, никогда прежде не писавшая петербургским родственникам, пожелала как бы за один раз исправить свою ошибку; ответ ее, на многих страницах, мог бы быть короче, если принять во внимание впечатление, сделанное им на графиню и особенно на графа.
Прежде всего, княгиня жаловалась, что Флу-Флу[11]11
Так звали в обществе молодого графа за его разварную наружность и неясное произношение, происходившее от несоразмерной толщины языка, неловко как-то шлепавшего во рту.
[Закрыть] ни разу к ней не показался, «не плюнул даже». Дальнейшие строки уведомляли родителей, что Флу-Флу каждый день встречают проезжающим в коляске по Елисейским полям с знаменитой Berthe la Blonde, едва ли не опаснейшей из парижских актрис-кокоток. Она, говорят, совсем им завладела; он был с ней неразлучен и всюду являлся; утром – на скачках, перед обедом – в tir aux pigeons, вечером – в театре, и всегда на видных местах; в последние дни он окончательно себя компрометировал, войдя с ней под руку на благотворительный концерт, куда допускались только дамы известного круга…
– Мальчик этот истинно послан мне в наказание! За что только, не знаю! воскликнул граф, опрокидываясь на спинку кресел.
– Я полагаю, вздыхать и охать теперь напрасно: ни к чему не послужит, – произнесла графиня, сдвигая брови.
– Что делать, право, не знаю!.. Знаю только, что он всех нас разорит и сам погибнет! Прямо идет к этому… Боже мой, Боже мой, за что мне все это?!..
Графиня поднялась на ноги, несколько раз прошлась по кабинету и тут же решила немедленно ехать за племянником. Она посмотрит, какая там такая Berthe la Blonde могла окрутить племянника настолько, чтобы заставить его забыть отца, тетку, приличия и, наконец, заставить делать долги! Посмотрит она, как Флу-Флу, – эта тряпица, а не человек, – не послушает ее, когда она обрежет ему все ресурсы и принудит его возвратиться домой!
Отъезд графини весьма обрадовал Ивана Иваныча. Он думал и так, и этак, и решительно не знал, как выпутаться в глазах графа, которому внушил поездку сына за границу. Граф нисколько на него не сердился, убежденный в его добром намерении, но положение, все-таки, было не совсем ловкое.
Воскресенский писал молодому графу, прося его захватить в Париже такую-то брошюрку, специально трактующую о пробочном производстве в Алжире, и прибавляя, что в этом заключается, главным образом, суть его поездки за границу, но не получил никакого ответа. Зная энергический, решительный нрав графини, он не сомневался в скором возвращении ее племянника.
В ожидании этого, он распорядился выпиской помянутой брошюры и поручил перевести ее, как можно скорее, на русский язык: сделав в рукописи кое-какие выправки и изменения, он заметно успокоился. Иван Иванычу не обманывал себя в трудности будущей задачи; он предвидел, сколько будет хлопот, чтобы поймать молодого графа в Петербурге, залучить его часа на два к себе в кабинет и заставить его прочесть при себе перевод. Составить потом докладную записку о полезном труде молодого человека… Боже мой! да это была такая безделица, о которой не стоило даже думать…
Как только граф выражал беспокойство насчет сына, Иван Иваныч всякий раз спешил его утешить; но уже теперь в голосе его заметно было больше уверенности. Он придерживался того убеждения, что в этих слухах из Парижа было много преувеличенного; похождения молодого графа были не что иное, как мимолетное и совершенно естественное увлечение молодости. Очень жаль, конечно, что молодой граф не воспользовался поездкой в южную Францию; но собственно практическая сторона дела, для которого он был послан, не имеет большой важности; суть дела заключается в теоретических данных. Все, что касалось этого предмета, находилось в руках Ивана Иваныча; он ни на минуту не сомневался, что молодой человек, приехав в Петербург, с примерным усердием примется за работу. Вопрос будет подготовлен, Иван Иваныч лично с ним займется; графу-отцу, – Воскресенский ручался за это, – останется только, в конце концов, радоваться за сына.
– И вы думаете, Иван Иваныч, он будет в самом деле на это способен? недоверчиво качая головою, спрашивал граф.
– Убежден, ваше сиятельство! с твердостью во взгляде и голосе возражал Воскресенский.
– Благодарю вас, благодарю!
Граф протягивал руку, но, прикоснувшись к влажным пальцам Ивана Иваныча, напоминавшим ему всегда лягушку, не мог победить себя и, несмотря на растроганные чувства, тут же спешно, запрятав руку в карман, украдкой утирал ее о носовой платон.
В частных беседах своих с графом Воскресенский не упускал случая также убеждать его осмотреть здание нового центрального приюта; мысль эта всегда встречала живое сочувствие; граф обещал, назначал даже день, но всякий раз по какому-нибудь непредвиденному обстоятельству, – больше по недостатку времени, – не мог исполнить обещания. Воскресевский приступил тогда настоятельнее, как говорится: сильнее нажал клапан. Все в центральном приюте было готово: открытие назначено через месяц самим графом; необходимо было показаться, хотя бы с тем, чтобы произнести свое последнее слово, поощрить участников, которые столько раз уже собирались и ждали только, как бы увидеть высокого своего покровителя.
День был, наконец, безотлагательно назначен. Граф, пригласив заблаговременно Ивана Иваныча ехать вместе, находился в прекрасном расположении духа. Приметив, что Иван Иваныч ежится в углу кареты, граф поспешил закрыть окно, извиняясь, что раньше не подумал об этом.
День был действительно сырой и холодный. Убедительнейшим доказательством могли служить скорченные фигуры и синие носы на лицах персонала центрального приюта, собравшегося у входа главного здания в ожидании приезда их покровителя. Ожидали, однако ж, недолго; все, по-видимому, тотчас же оживились и согрелись, как только карета графа остановилась у подъезда. Тут во фраках и белых галстуках находились будущие наставники, доктор, фельдшера, сиделки, две кормилицы в голубых кокошниках и красных сарафанах, несколько сестер милосердия и значительная группа служителей, большею частью с шевронами на рукавах и в форменной одежде.
У графа был всегда достаточный запас приветливости для тех, кто заставал его в хорошем расположении духа. Он здесь очаровывал всех без исключения: кому весело кивнул, кому сказал несколько слов, кому пожал руку.
Он шел впереди; подле него, сбоку, едва слышными шагами подвигался Иван Иваныч, изредка оборачиваясь, когда шум следовавшей толпы становился слышнее.
Больше часу продолжался обход здания. Ничего не было пропущено. Граф остался всем очень доволен. Особенной похвалы удостоился, впрочем, двор, крытый стеклом и заключавший в себе детский сад и гимнастику. Граф внимательно осматривал каждый предмет, расспрашивал обо всем. С большим одобрением встречено было также осуществление мысли оклейки стен нравственно-назидательными картинками, сценами из отечественной истории, долженствовавшими «поднять дух», как говорилось в программе, и душеспасительными печатными изречениями; перед некоторыми из них граф так долго останавливался, что уже под конец у Ивана Иваныча начали гореть пятки и подкашиваться ноги.
– Теперь, ваше сиятельство, не угодно ли будет в церковь пожаловать? проговорил Воскресенский, делая за спиною знаки, чтобы скорее отворили дверь, сообщавшую церковь со столовой.
Но дверь оказалась уже отворенною. Ивана Иваныча сначала неприятно поразило, что в дверях никто не встретил почетного посетителя, но неудовольствие его продолжалось всего секунду. Одобрительная улыбка показалась на лице его при виде Лисичкина и Бабкова, стоявших на местах своих. Последние только, казалось, ничего не видели, ничего не замечали: до такой степени каждый увлечен был своей работой. Стоя на табурете подле одной из арок с палитрой и кистями в левой руке и поддерживая правую руку муштабелем, Лисичкин усердно водил кистью и, сколько можно было заметить, все по одному и тому же месту; на щеке, руках и передней части сюртука виднелись следы красок. Бабков, пригнувшись к одной из каменных балясин над ступеньками, соединявшими пол с алтарем, как бы усиливался добиться, насколько все это твердо было установлено; он был в холщовой блузе, надетой сверх сюртука, и весь также испачкан известкой, хотя вокруг было совершенно чисто и трудно было запачкаться.
Тихо ступая на плоских своих подошвах, Воскресенский наклонился к графу и, улыбаясь, указал ему глазами на художников; граф остановился, приложил палец к губам и неожиданно кашлянул.
– Ах! вскричал Лисичкин, чуть не сваливаясь с табурета от неожиданности.
Он не упал, однако ж: с палитрой в одной руке, с муштабелем в другой, он приблизился к именитому посетителю, выказывая на лицу смущение человека, застигнутого врасплох.
– Простите великодушно, ваше сиятельство… Я перед вами в таком виде…
– И меня также… Уж не взыщите, проговорил Бабков, подходя, в свою очередь, и растопыривая пальцы перепачканных рук.
– Напротив, вы извините, что прервал вас так неожиданно, сказал граф, любезно улыбаясь, – у вас, как я вижу, прекрасно идет дело… подвигается…
– Работаем, ваше Сиятельство, трудимся, с нежностью во всех чертах сказал Лисичкин.
– Пачкаемся, ваше Сиятельство! Надо прямо сказать: пачкаемся!
– Давай Бог каждому пачкаться так, как вы, господа, это делаете ради общественной пользы, заметил граф, посылая каждому приветливый знак рукою, – и искренно благодарю вас! С своей стороны, я также постараюсь… И давно уже вы здесь занимаетесь?..
– Третий месяц…
– Как? Разве так много оставалось работы?
– Довольно-таки, ваше сиятельство! Много было сделано, но многое пришлось переписать заново… В одном месте требовалось смягчить… в другом усилить, тут придать вкусу, здесь придать теплоты тону, начал Лисичкин, выводя палитрой и муштабелем по воздуху нежные, округленные линии.
Бабков неожиданно перебил его.
– Что говорить, ваше сиятельство, – приступал он к графу, который любознательно осматривал стены, – надо правду сказать: были такие здесь грешки да прорешки… Вы меня великодушно извините; я человек простой, как есть ломоть ржаного хлеба, но я всегда правду скажу: пришлось-таки здесь повозиться… Вот теперь извольте сами посмотреть: прорешек-то и нет; сладили, значить!..
– Считаю долгом предупредить ваше сиятельство, что здесь очень сыро… и легко, очень легко простудиться… Гг. художники привыкли к этому, но вам… считаю долгом предупредить вас, – произнес Иван Иваныч, желавший сократить посещение церкви, так как, с одной стороны, цель была достигнута, с другой – он начинал чувствовать холод в ногах, несмотря на то, что просил у графа позволения остаться в резиновых калошах.
Поблагодарив еще раз художников, граф вышел из церкви. Толпа, ожидавшая его в столовой, снова сомкнувшись за его спиною, сопровождала его до той минуты, пока он не сел в карету.
Граф был очень доволен. Во время пути он несколько раз признательно жал руку Ивану Иванычу, который всякий раз, от избытка чувств, моргал увлажненными глазами.
XV
В середине ноября Алексей Максимыч получил официальное печатное приглашение на освящение церкви и открытие центрального образцового приюта, имевшего целью «всеобщее, всестороннее распространение благотворительности в Российском государстве». Приглашение получено было во время вечернего чая; вся семья находилась в полном составе.
Алексей Максимыч аккуратно вложил приглашение в конверт, снял очки и произнес с расстановкой:
– Скоро же это они состряпали!.. Молодцы!.. Посмотрим… посмотрим! – подхватил он, стараясь казаться веселым; он попробовал даже улыбнуться, но улыбка вышла менее удачна.
Сережа и Маруся переглянулись.
– Ты, дедушка, так говоришь, как будто собираешься туда ехать, – сказал племянник.
– Пойду, конечно… благо приглашают… Неучтиво было бы отказаться, – прибавил он с добродушной иронией.
Племянник поднялся с места в начал ходить по комнате, нетерпеливо проводя ладонью по волосам.
– Нет, ты не шутишь?.. Ты в самом деле собираешься ехать? – спросил он, неожиданно останавливаясь.
– В самом деле поеду, – спокойно отозвался дедушка. Племянник вспыхнул.
– Тебе, вероятно, снова хочется встретиться с этими прекрасными господами… которые… которые так благородно с тобою поступили! – заговорил он резким голосом. – Решительно не понимаю тебя!.. Скажи на милость, что влечет тебя туда? Что ты будешь там делать? Зачем? С тем, разве, чтобы, как я говорю, полюбоваться лишний раз на милого г. Воскресенского?.. Кстати, один знакомый архитектор, имевший с ним дело, прозвал его «Тартюфом из Средней Мещанской улицы». Чего тебе от них надобно? Что ты там потерял?
– На твоем месте, я бы ни за что не поехала, дедушка, – сказала Маруся.
– Ну, сговорились… Как и следует, впрочем, быть, – перебил Алексей Максимыч. – Ты, мой дружок, полно волноваться; сядь-ка лучше и не горячись… Очень понимаю, что заставляет вас обоих так говорить. Людей, которых я там встречу, уважаю я не больше вашего; знаю, что они, по большей части, не… нег… нехорошие люди…[12]12
Он хотел сказать другое слово, но удержался; резко выражаться было вообще не в его характере.
[Закрыть] Скажу вам, с своей стороны: оба вы превратно понимаете причину, которая – не то чтобы заставляла меня туда ехать, но располагает к этому; не ехать значило бы прямо показать им: как, дескать, вы меня глубоко обидели, и смотреть-то на вас не хочу! Мне, напротив, приятно показать им мое полное равнодушие к их поступку; смотрите, дескать: и жив, и здоров, и пришел на вас полюбоваться…
Сережа и Маруся не верили как будто в искренность такого довода. Дедушка был теперь совершенно здоров и, по-видимому, окончательно успокоился; но им было известно также искусство его скрывать перед ними свои тяжелые ощущения и показывать улыбающееся лицо, когда на душе скребли кошки. Кто поручится в том, что горе изгладилось окончательно и не живет где-нибудь в тайном углу его сердца?
Оба всеми силами старались уговорить его; внутреннее чувство подсказывало им, что эта поездка не обойдется без вредных последствий, без нового потрясения.
Опасения их могли быть весьма основательны. Оскорбленное чувство не столько самолюбия, сколько справедливости слишком глубоко проникло в самую глубь существа старого архитектора, чтобы успеть так скоро вымереть; больное место еще оставалось. Алексей Максимыч сам себя обманывал, объясняя племяннику повод, располагавший его к такой поездке; больное место еще не зажило; оно-то собственно и влекло его…
В нравственной и физической природе человека существует большое сходство ощущений; к больному месту тянет прикоснуться; есть даже удовольствие бередить рану. То же самое бывает с горем, с минувшим нравственным потрясением; вопреки рассудку, больное чувство не хочет успокоиться: оно рвется к предмету своего раздражения. Могила зарыта, все кончено, ничем уже не вернешь к жизни, – нет, надо бежать к этой могиле, надо растравлять воспоминания, надо прибавить себе терзаний: в этом есть также своя отрада…
Когда наступил день освящения церкви и открытия центрального образцового приюта, Алексей Максимыч, несмотря на все свои старания казаться равнодушным, не мог ввести в заблуждение племянника и Марусю, которые внимательно за ним следили. Он, очевидно, провел ночь без сна, суетился как-то особенно, выказывал нетерпение и был рассеяннее обыкновенного. Сережа и Маруся, каждый с своей стороны, снова было коснулись вопроса поездки; старик окончательно заупрямился. Он послушал их только в том, что тепле закутался; в остальном не было никакой возможности уговорить его.
О чем он думал во всю дорогу, решить трудно; во всяком случае мысли его не были веселы. Да и все вокруг не располагало к веселью. День был холодный и пасмурный; тучи стояли неподвижно и низменно; их цвет предвещал, что вот-вот сейчас закружатся в воздухе первые хлопья снега. По городским улицам все еще было сносно: ходили и ехали люди; но там, в глухих местаx, где-нибудь на конце Петровского острова, по берегу залива… Боже мой, как там теперь должно быть уныло и безотрадно на Петербургской стороне!..
Алексея Максимыча опередило несколько экипажей с разряженными дамами и кавалерами в мундирах; в открытой коляске, но плотно закутанный в шубу, проехал в треугольной шляпе с белым плюмажем господин, поразивший Зиновьева сходством с птицей пеликаном: такой же длинный и плоский, прижатый к подбородку нос и крошечные глазки, близко поставленные один к другому… Все это, очевидно, устремлялось туда же, куда направлялся сам Зиновьев.
Подъехав к воротам громадного здания центрального образцового приюта, на одном конце которого высоко подымалась крыша церкви, Алексей Максимыч должен был отпустить извозчика: до такой степени двор был заставлен экипажами; одни подъезжали, другие устанавливались кричавшими жандармами.
Прихожая, несмотря на ее вышину и размеры окон, показалась Зиновьеву несколько темною. Правда, день был такой, да и стены вокруг казались совсем черными от повешенных шуб и шинелей. Много также шуб и всякой верхней одежды виднелось на руках многочисленных лакеев, большею частью ливрейных; многие из них укладывали свою ношу на скамьи и усаживались на ней с большим комфортом; некоторые успели уже задремать и клевали носом; один у печки, так тот совсем уже, как говорится, закатился и пускал такой храп, что надо было удивляться, как никто не будил его. Между лакеями виднелись городовые, которые также, казалось, сильно скучали.
Из прихожей вела во второй этаж широкая парадная лестница; перила ее, еще не конченные, покрывались коврами, отчасти присланными графом, отчасти взятыми на прокат.
Служба в церкви давно уже началась, но Алексей Максимыч не старался даже войти; густая толпа заслоняла дверь; проходя мимо, можно только было видеть над головами блеск свечей, тускло горевших в воздухе, насыщенном ладаном и человеческим дыханием, к которому примешивался запах духов; из дверей несло жаром, как из жерла раскаленной печки; вместе с ним приносилось пение, то умолкавшее и как бы заглушаемое густотою атмосферы, то снова поражавшее слух и как бы подымавшееся в высоту, когда подхватывали дисканты. В столовой, перед церковью, происходила также порядочная суета; целая половина ее заставлена была сдвинутыми накрытыми столами, вокруг которых суетились официанты. К ним поминутно выскакивали откуда-то и одновременно два маленькие чиновника, совершенно похожее один на другого, точно их выбили по одному штампу; у каждого на левом отвороте вицмундира красовался бант из лент одинакового цвета; они хлопотливо осматривались во все стороны, отдавали какие-то приказания, наскоро шептались и снова разбегались в разные стороны, как дробинки, внезапно брошенные на каменный пол.
Алексей Максимыч прошел мимо и стал бродить по всем комнатам, двери которых были теперь настежь отворены. Лицо его было скорее задумчиво, чем встревожено печалью. Раз только оно как будто несколько омрачилось, когда глаза его случайно встретили портрет графа, висевший в роскошной золотой рамке на стене в зале совета. Он прочел на фоне портрета, внизу, имя Лисичкина; имя это напомнило ему то, о чем он прежде старался не думать.
Он собирался уже перейти в соседнюю комнату, когда неожиданно увидел в нескольких шагах от себя господина небольшого роста, несколько кривобокого, несколько прихрамывающего, который любознательно к нему присматривался, нетерпеливо моргал маленькими, живыми глазками, заострял носик и вообще показывал непреодолимое желание вступить в разговор, но не решался начать без явного поощрения. Он был во фраке и единственным его украшением был кисейный галстук сомнительной белизны. Наконец, он уже не мог совладать с собою и, забрасывая вперед левую ногу, ковыляя, подошел к Зиновьеву.
– Извините меня, милостивый государь, заговорил он в ту самую минуту, как Алексей Максимыч готовился пройти дальше, – если не ошибаюсь… я, кажется, имею честь говорить с архитектором, г. Зиновьевым…
– Точно так…
– Вы, вероятно, меня не помните, но я уже имел честь встречать вас… Раз даже мы сидели рядом на лекции о спиритизме в Соляном городке… Моя фамилия Бериксон… Андрей Андреевич… Хотя окончание на сон, но я не еврей, смею уверить! Дед из Курляндии, отец петербуржец, мать москвичка!.. Очень, очень рад встретить вас, м. г.; вдвойне рад, чтобы высказать вам… Знаю, м.г., знаю, я все знаю! Знаю, как с вами здесь поступили… и вполне выражаю вам свое сочувствие… Позвольте пожать вашу руку… Все они, я вам скажу…
Тут Бериксон схватил обе руки Зиновьева и, пригнувшись к его уху, шепнул какое-то слово.
– Помилуйте, я совсем не так о них думаю, промолвил, краснея, Зиновьев.
– Думайте, как хотите, но это так!.. Поверьте, я их всех знаю! Этот Воскресенский, это, помилуйте-скажите, просто…
Он снова быстро пригнулся к уху собеседника и снова ввернул какое-то крепкое слово.
– Нам надо бы, однако ж, направиться ближе к церкви, иначе мы опоздаем к выходу из не я, заметил Алексей Максимыч, которому начинали казаться странными выходки незнакомца.
– Пойдемте, пойдемте! с живостью воскликнул Бериксон, захватывая в поспешности одною ногою больше пространства, чем следовало, – я расскажу вам, между тем, что сделал со мною этот самый Воскресенский. Было, знаете, такое предприятие: нашли в одном месте руду; составилась компания; меня послали к нему, как доверителя; подал ему докладную записку. Прекрасно. Проходит месяц, – нет ответа, другой месяц, третий, – помилуйте-скажите, – все ничего! Что ж бы вы думали он сделал? Воспользовался нашим проектом! Кое-что в нем поправил, да и подал от себя в тех видах, изволите ли видеть, чтобы казна этим делом воспользовалась… Казна, понимаете, ему наплевать; шутка вся в том, чтобы выказать усердие, – да-с! Ему, конечно, за это сюда[13]13
Тут он дал щелчок по отвороту фрака.
[Закрыть], а нам шиш! Шиш, м. г., и ничего больше!.. Но ведь, кажется, служба кончилась и начали выходить из церкви…
Прежде всего выскочили из толпы два маленькие чиновника, которых Бериксон тотчас же указал Зиновьеву, назвав их попугайчиками; он объяснил, что хлопотливость их особенно возбуждалась в этот день опасным соперничеством одного красивого камер-юнкера и чиновника по особым поручениям, некоего Стрекозина, которым тоже хотелось выказать свое усердие в качестве распорядителей. За попугайчиками потянулись ряды детей – питомцев центрального образцового приюта; они, во всему было видно, не успели еще вкусить от благодеяний нового учреждения; лица их были тощи и зеленовато-бледного отлива; обстриженные гладко под гребенку, в длинных серых кафтанчиках, они казались точно наскоро набранными из больниц; в суете, предшествовавшей торжеству настоящего дня, многим из них вероятно перемешали обувь, потому что некоторые из маленьких, очевидно, путались в огромных сапогах, тогда как другие пожимали ноги от боли в узкой обуви… Их наскоро устанавливали по обеим сторонам выхода; больше других суетились попугайчики и регент, громадный человек с пучком черных волос на голове и таким лицом, как будто он только что кого-то зарезал.
Из дверей церкви вышел дьякон со святой водой и священник; дальше повалили певчие в казачьих кунтушах с перекинутыми за спину рукавами. За ними вышло несколько лиц из духовенства и выставились шитые мундиры, фраки и разноцветные дамские шляпки; вперед выдвинулся красивый камер-юнкер, также с бантом на груди; к нему мгновенно подскочил Стрекозин; оба поспешно начали упрашивать всех выходивших становиться крыльями по сторонам выхода.
Наконец, дальше показался граф: его приветливая улыбка на устах, в глазах, во всех чертах как бы светилась над головами, который наклонялись по мере его приближения.
Граф вел под руку княгиню Зинзивееву, председательницу комиссии «для предварительных мер против распространения золотухи и родимчика между детьми сельского населения»; за ним шла графиня под руку с дряхлым стариком, который едва передвигал ноги, изнемогая под бременем орденских знаков. Рядом с графиней, – и несколько пригибаясь к ней, – шел Воскресенский, державший в руке ее шаль. «Взгляните, у него опять новая звезда… Помилуйте-скажите, за что же?» шепнул Бериксон на ухо Зиновьеву. Иван Иваныч на ходу любезно разговаривал с баронессой Бук, председательницей «общества для снабжения дешевыми игрушками детей болгарского населения» и т. д.; тут же подле выступали величественная княгини Чирикова и рядом с нею томная благотворительница г-жа Бальзаминова. Дальше теснились другие пары, между которыми, играя локтями, старалась выскочить вперед госпожа Шилохвостова; неподалеку выставилась бледная тоскующая голова молодого графа, недавно привезенного теткой из Парижа; он был в камер-юнкерском мундире.
– Уж испекли, готовь! С которых это пор? шепнул опять кривобокий Бериксон. – Впрочем, прибавил он как бы мимоходом, – истинные, подобные ему таланты, не нуждаются в покровительстве!..
Еще дальше, как волны, надвигались члены совета, попечители, наставники, купцы, среди которых, на аршин выше других головою, выставлялся Блинов, воспитанник Воскресенского по части уменья возбуждать великодушие жертвователей. У всех решительно лица и шеи были красны и влажны, как у выходящих из бани; всем приятно было освежиться; удовольствие это выражалось приятными улыбками, поклонами, пожатием рук, приветствиями.
Выйдя на средину столовой, граф остановился. Е ту же секунду Иван Иваныч отделился от графини и сделал головою выразительный знак; регент сдвинул брови, взмахнул руками, как бы хотел взлететь на воздух, и сотня тоненьких голосов пропела кантату, арочно сочиненную для этого торжественного случая.
– Trés bien! – проговорила княгиня Зинзивеева.
– Lis sont pourtant bien laids, – заметила графиня.
– Прекрасно, мои милые… прекрасно! поспешил загладить граф, кивая головою и детям, и регенту.
После этого шествие опять тронулось в обход по всем залам учреждения.
Алексей Максимыч отошел в сторону, но случилось так, что граф его заметил и прямо подошел к нему.
– Очень рад вас видеть, г. Зиновьев, сказал он, останавливаясь, между тем как следовавшие за ним лица обступали его вокруг. – Вот, продолжал он, обводя ласковыми глазами присутствующих, – вот кому мы обязаны прекрасной церковью, которою сейчас восхищались; он ее выстроил, он же так прекрасно ее и украсил! Еще раз благодарю вас, благодарю и поздравляю! прибавил он, намекая на знак отличия, к которому представил Зиновьева.
Шествие пошло дальше. Зиновьев увидел в толпе белокурую голову Лисичкина, но заметил также, что он тщательно старался избегать его взгляда; как только глаза их случайно встречались, Лисичкин изгибался как вьюн и пропадал за соседними спинами. Пред Алексеем Максимычем раз-другой промелькнула также волосатая голова Бабкова и сверкнули его крупные зубы; но и тот также старательно избегал встречи. От внимания старика не ускользнуло, однако ж, что многие останавливали лукавого блондина и хитрого мужика и начинали с чем-то поздравлять их; один из поздравляющих подсунул даже пальцы под орден Лисичкина и несколько раз приподнял его на ладони, как бы желал узнать, сколько было в нем весу.
Но задние пары надвигали на передние и все снова двигались за графом по дороге, расчищаемой перед ним двумя маленькими близнецами и старавшимися сбить их с выгодной позиции красивым камер-юнкером и Стрекозиным, которым также хотелось попасть в луч зрения графа. Он уже исчез вдали, но в задних рядах все еще напирали; шествию, казалось, конца не было; только с того места, где стоял Зиновьев, показывались теперь уже одни спины, шитые воротники и затылки; изредка разве выставлялась из-за бакенбард профиль головы, любезно наклонявшаяся к соседу.
Время от времени из двигавшейся вперед толпы отделялось несколько человек и составлялись у окон отдельные группы. Одна из таких групп образовалась невдалеке от Алексея Максимыча; в ней, – как объяснил ему всесведущий Бериксон, – больше всех заслуживал внимания Блинов. Из того, что говорил теперь Блинов, следовало заключить, что покровитель его, Иван Иваныч, на этот раз обманул его ожидания.
– Помилуйте, твердил Блинов, напирая то на одного из своих слушателей, то на другого и нисколько не скрывая своего негодования, только понижая голос из предосторожности, – помилуйте, я ли не хлопотал для этого заведения? Обещано было и то, и сё, – что ж вышло? Все получили, – я ничего!.. Главное, что обидно? Труды и время потеряны! То, что здесь было мне обещано, я мог получить из другого ведомства…









































