Текст книги "Русский моностих: Очерк истории и теории"
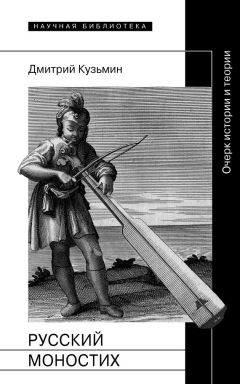
Автор книги: Дмитрий Кузьмин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
3. История моностиха в России: от Николая Карамзина до Николая Глазкова
Первый русский литературный моностих точно известен[145]145
Не лишне отметить, что речь идет не только о первом моностихе на русском языке, но и о первом моностихе русского автора, вопреки гипотезе П.Н. Беркова [Берков 1962, 53–55], согласно которой Михаил Ломоносов в 1756 году сочинил однострочную латинскую эпиграмму в подражание Джону Оуэну (см. след. прим.), попавшую на листы с подготовительными материалами к ненаписанной книге «Теория электричества»:
Si vir es atque vires, cape vires et cape vi res. – по причине игры слов текст практически непереводим (дословный перевод Я. Боровского: «Если ты муж и процветаешь, то собери силы и силою бери вещи» [Ломоносов 1952, 238–239]). «В просмотренных мною работах о новолатинской поэзии ‹…› мне не удалось обнаружить данной эпиграммы. Поэтому я склонен считать этот моностих произведением Ломоносова», – не без осторожности пишет Берков; нам, в цифровую эпоху, проще обнаружить источник: цитируемая Ломоносовым строка встречается, в разных вариациях, в нескольких источниках XVII–XVIII веков – напр., [Nihus 1642, 163].
[Закрыть]. В 1792 г. Николай Карамзин (1766–1826) опубликовал в 7-м выпуске своего «Московского журнала» пятичастный цикл «Эпитафии», завершавшийся однострочным текстом:
Покойся, милый прах, до радостного утра!
Цикл был предварен авторским предисловием, сообщавшим: «Одна нежная мать просила меня сочинить надгробную надпись для умершей двулетней дочери ея. Я предложил ей на выбор следующие пять эпитафий; она выбрала последнюю, и приказала вырезать ее на гробе» [Карамзин 1792].
Печатные отзывы современников на эту публикацию нам неизвестны. Однако само их отсутствие свидетельствует о том, что текст Карамзина не воспринимался как нечто из ряда вон выходящее: в «лапидарном слоге» – особой категории текстов, включающей надписи на надгробьях, монументах, иных архитектурных сооружениях и произведениях искусства, – однострочность была широко распространена со времен Античности[146]146
Вопрос об однострочных стихотворениях Античности мы специально не рассматриваем, а обзорной литературы по этому вопросу, видимо, не существует [Chamoux 2004, 758]. Уместно, однако, отметить, что совершенно твердых свидетельств задуманной однострочности дошедших до нас с древних времен в однострочном виде текстов нет: практически всегда вполне вероятно, что уцелевшая строка представляет собой осколок более обширного текста. Это обстоятельство, однако, зачастую оказывалось безразличным для позднейших авторов – равно как и происхождение из письменной литературы или эпиграфики: так, Бен Джонсон в начале XVII века иллюстрирует свою мысль о том, что «даже единственный одинокий стих может составить превосходное стихотворение», двумя эпиграммами Марциала и стихом из «Энеиды» Вергилия – подписью Энея к щиту Абанта, прибитому ко входу в святилище Аполлона в Акциуме [Johnson 1906, 120]. В любом случае надписями и эпиграммами представление о возможностях моностиха совершенно ограничивалось: так, составленный Э. Филлипсом, учеником и племянником Джона Милтона, толковый словарь «The New World of English Words» (1658) определял моностих как однострочную эпиграмму, а Дж. Г. Льюис двести лет спустя замечал, тоже со ссылкой на Марциала, что «редкость моностихов вызвана трудностью втискивания в одну строку всех обстоятельств, необходимых для объяснения шутки, и самой шутки» – также подразумевая, тем самым, жанровую определенность формы [Lewes 1845, 459]. Более того, в значительной мере моностих понимался как возможность, присущая именно латинской эпиграмме: так, популярный эпиграмматист XVII века Джон Оуэн (1564?–1622?) мог вслед за тремя прецедентными однострочными эпиграммами Марциала (II. 73, VII. 98 и VIII. 19) обратиться к этой форме и включить в свое четырехтомное собрание (1606–1613, свыше 1500 эпиграмм) три однострочных текста (IV. 256, V. 56 и V. 75 [Owen 1766, 152, 188, 191]), но в полном переводе этого собрания на английский язык (1677) им, разумеется, соответствуют двустишия; впрочем, и однострочные эпиграммы самого Марциала переводились если не прозой, то как минимум двустишиями – а то и четверостишиями, как, например, в относящихся к XVIII веку немецких переводах Эфраима Мозеса Ку и Готхольда Эфраима Лессинга [Martial 1787, 187, 189]. Любопытно, что Лессинг, чьи эпиграммы в целом создавались под явным влиянием Марциала [Nisbet 2008, 201], сочинил-таки однострочную эпиграмму-экспромт «Эпитафия повешенному»:
Он здесь покоится, пока не дунет ветер.Hier ruht er, wenn der Wind nicht weht. – опубликованную, однако, спустя многие десятилетия [Joerdens 1812, 41]. Первые же однострочные переводы однострочных эпиграмм Марциала были напечатаны лишь в 1825 г. Бенедиктом Вильманом [Martial 1825, 150, 156].
[Закрыть], «надписи-моностихи давно были вполне в порядке вещей» [Кормилов 2012a, 8]. «Лапидарному слогу» отдавали дань многие, в том числе ведущие представители русской поэзии 2-й половины XVIII века, прибегая в том числе и к однострочной форме, особенно тогда, когда это диктовалось условиями размещения надписи – например, на триумфальной арке (подробнее см. в [Кормилов 1993]). Жанры «лапидарного слога» – такие, как эпитафия или подпись к портрету, – параллельно существовали и в литературе. Однако среди многочисленных эпитафий и подписей, появлявшихся в печати до Карамзина, моностихов нет. Возможно, это связано с тем, что большинство этих текстов писалось не для того, чтобы действительно попасть на монумент или другое сооружение, а в видах публикации или иного обнародования автономным образом[147]147
Ср. другой взгляд на вещи у С.И. Николаева, полагающего, что «отграничить “реальную” эпитафию от “литературной” довольно сложно, а иногда и просто невозможно» [РСЭ 1998, 7].
[Закрыть]. Карамзин, по-видимому, первым реализовал изначальную функциональную и категориальную амбивалентность подобного текста, предназначив его как для публикации, так и для использования «по назначению» – впрочем, в письме друга Карамзина, переводчика Александра Петрова можно усмотреть сомнение относительно подлинности рассказанной Карамзиным истории: «Из надписей твоих последняя ‹…› нравится мне отменно… Она проста, нежна, коротка и учтива к прохожему… Однако ж, мне кажется, критического мнения даром оказывать не можно: и потому ты необходимо должен сообщить нам подробное и обстоятельное описание монумента, к которому она сделана» [РСЭ 1998, 496]. Легко предположить, что новизна карамзинского подхода ускользнула от внимания современников; возможно, с этим связано и то, что данный карамзинский текст не создал традиции литературного моностиха, хотя в «лапидарном слоге», по наблюдениям С.И. Кормилова, вызвал волну дериватов и подражаний [Кормилов 1991][148]148
Но вряд ли прав С.И. Кормилов, утверждая (хотя и без полной внятности) на этом основании, что моностих Карамзина принадлежит исключительно «лапидарной» традиции: «Русская культура практически до конца XIX столетия не знала моностиха литературного… Эта [карамзинская, – Д.К.] попытка перевода лапидарного слога в литературу не удалась, ‹…› и более века еще литературный моностих не появлялся» [Кормилов 1995, 71]. Любопытно, что как раз в «лапидарной» традиции к единственной карамзинской строке часто дописывали вторую – например: «Душа твоя востанет в блаженстве заутра» [РСЭ 1998, 9]. Напротив, сложно увидеть карамзинское влияние в совершенно естественном для «лапидарного слога» читательском моностихе – однострочном фрагменте многострочного стихотворения, хотя именно такую логику рассуждений демонстрирует О.И. Федотов: «В.Н. Топоров обращает наше внимание на весьма примечательный факт: по аналогии с данным произведением Карамзина в дальнейшем были использованы как кладбищенские моностихи изолированные строчки из его же “полнометражных” текстов. Например,
Прохожий, помолись над этою могилой! – не что иное как заключительная строка его перевода Элегии Грея» [Федотов 2002, 20], – библиографическая ссылка на В.Н. Топорова у Федотова отсутствует, но вряд ли это Топоров приписывает Карамзину строку Василия Жуковского и называет заключительной первую строку заключительного четверостишия.
[Закрыть]. С другой стороны, на беспоследственность карамзинского моностиха может проливать свет раннее замечание Ю.М. Лотмана: «Художественное восприятие этого моностиха подразумевает в читателе ясное чувство того, что перед ним в качестве законченного стихотворного произведения выступает отрывок… Но поскольку в этом, лишенном почти всех признаков поэзии, тексте читатель безошибочно чувствует поэзию, и очень высокую, автор тем самым утверждает мысль, что сущность поэзии вообще не в ее внешней структуре, что упрощение, обнажение текста поэтизирует его» [Лотман 1966, 40]. Замечание это, объяснимое в контексте общих размышлений Лотмана о характере поэтических новаций Карамзина, кажется ничем не подкрепленным в отношении данного конкретного текста, в котором «признаки поэзии» – будь то «признаки стихотворности» в виде шестистопного ямба или «признаки поэтичности» в виде построения полустиший на перекличке эпитетов – налицо; важнее, однако, мысль Лотмана о том, что однострочная эпитафия Карамзина отрывочна, что в ней по сути чего-то недостает для завершенности высказывания: мысль эта, видимо, ошибочна, но ошибочна ввиду проецирования на карамзинский текст 1792 года эстетики фрагмента, бурное развитие которой началось, благодаря Фридриху Шлегелю и Новалису, буквально несколько лет спустя и наложило заметный отпечаток на трактовку малых жанров в романтической традиции – к которой, однако, данный текст не принадлежал.
В этом отношении характерно, что единственным безусловно литературным моностихом в жанре эпитафии – то есть непосредственно продолжающим карамзинскую традицию – оказался текст более чем далекого от романтических веяний Дмитрия Хвостова (1757–1835), опубликованный в 1804 г. в журнале «Друг просвещения»:
(последний польский король Станислав Понятовский после третьего раздела Польши был вывезен в Петербург, где и умер в 1798 году). Обращают на себя внимание кавычки, в которые заключена единственная строка: вероятнее всего, они оформляют восклицание как своего рода цитату – то ли передавая впечатление от автора любому условному прохожему, то ли представляя надпись как будто бы имеющуюся на надгробии в самом деле. В том же номере журнала, хотя и за иной, криптонимической подписью, опубликована и заметка Хвостова «О краткости надписей»[150]150
На нее обратил наше внимание М.А. Амелин.
[Закрыть], обосновывающая минимизацию надписей лапидарного слога: «В Санкт-Петербурге в Александровской Лавре, на месте, где погребен победитель турков, низложитель Польши, спаситель Италии, сказано:
“Здесь лежит Суворов”.
Ничто не может быть простее и величественнее таковых надписей. Истинная слава умеренна и не требует пышных украшений, она светоносна сама по себе. ‹…› Нет нужды изъяснять ни о чинах, ни военачальстве покойного Генералиссима: ибо в уме любопытствующего видеть его гробницу одно имя рождает понятия о его нравах, о суровой жизни и победах» [Хвостов 1804b, 153–154], – трудно счесть соседство этих двух публикаций совпадением, однако краткость хвостовской надписи и надписей, приводимых в его статье, очевидно разноприродна: редукцию текста к одиночной метафоре едва ли возможно мотивировать стремлением избавить его от «украшений». При всем том в итоговом собрании сочинений Хвостов, спустя 26 лет, печатает другую, четырехстрочную версию своей эпитафии Понятовскому:
Кто ведает, костьми где ляжет?
Смиренно мудрый скажет,
В Петрополе зря прах сарматов короля:
На берегу чужом кормило корабля.
[Хвостов 1830, 318]
Между тем столь одобрительно встреченная Хвостовым эпитафия Суворову, предложенная Гаврилой Державиным (1743–1816) в 1800 году, также рассматривается некоторыми учеными в качестве одного из ранних русских моностихов: так, В.Ф. Марков помещает ее в свою антологию, указывая в обоснование своего решения, что «в изданиях Грота и Гуковского она с полным основанием печатается среди стихов» [Марков 1994, 345][151]151
В действительности авторство этой идеи принадлежит Владиславу Ходасевичу, также ссылающемуся на Грота и на то, что «наброски державинской эпитафии не раз встречаются как раз в тех тетрадях Державина, где записывались черновики стихов» [Ходасевич 1991, 515]; эту заметку Ходасевича, опубликованную в 1933 г. в парижской газете «Возрождение», Марков упоминает, но время ее публикации называет неверно: 13 августа вместо 23 июля ([Марков 1963, 254]; в [Марков 1994] эта ссылка вообще снята).
[Закрыть]. С.И. Кормилов замечает в связи с этим, что «основание здесь не такое уж полное», хотя бы потому, что «3-стопный хорей в XVIII в. крайне редок: 10 текстов ‹…› у пяти поэтов из 25-ти <обследованных> – и отнюдь не легко узнаваем в однострочии» [Кормилов 1993, 19][152]152
Аналогичные подсчеты М.Л. Гаспарова дают 17 текстов в промежутке с 1740 по 1830 гг., из 3260 учтенных [Гаспаров 2000, 316].
[Закрыть]. Но и литературность данного текста, высеченного на надгробной плите Суворова в Александро-Невской лавре и явно не предназначенного автором для публикации, – не менее проблематична, чем его стихотворность, тем более что Я.К. Грот, на авторитет которого ссылается Марков, особо не настаивает ни на той, ни на другой, комментируя первую публикацию этого текста (в подготовленном им полном собрании сочинений Державина, соответствующий том которого вышел в 1866 году)[153]153
Сообщение Кормилова о публикации этой надписи в журнале «Друг просвещения» (№ 10 за 1805 г.) [Кормилов 1993, 19] основано на недоразумении: в действительности в этом издании на стр. 25 (а не 222 – у Кормилова, видимо, опечатка) помещен другой текст Державина – четверостишие «На кончину графа Суворова-Рымникского князя Италийского» (в [Державин 1866, 380] под названием «На смерть Суворова»).
[Закрыть] следующим образом: «Эта надпись ‹…› встречается отдельно в тетрадях нашего поэта, и мы помещаем ее таким же образом в подтверждение, что она точно принадлежит Державину»[154]154
Полемический характер этого утверждения направлен, вероятно, на широко распространившееся благодаря мемуарам Е.Б. Фукса мнение, что такую эпитафию Суворов сочинил себе сам [Фукс 1827, 9].
[Закрыть] [Державин 1866, 380]. Более того, хотя этот том «Сочинений» и озаглавлен «Стихотворения», несколько выше в примечании к надписи «На мраморную колонну, в Красной мызе Нарышкиных…» Грот замечает: «Здесь в первый раз встречается у Державина надпись, написанная в прозе так называемым лапидарным слогом. Ниже будет напечатано еще несколько подобных надписей» [Державин 1866, 346], – констатируя, таким образом, присутствие в томе текстов, не являющиеся ни стихотворными (в понимании Грота), ни литературными (в теперешнем понимании). Мы не обязаны соглашаться с Гротом: прозаичность подобных надписей с сегодняшних позиций может быть оспорена уже применительно к тексту, вызвавшему данное его замечание (он обнаруживает сильную ямбическую тенденцию и представляет собой, согласно Кормилову, «полуторастишие» [Кормилов 1995, 54]); с другой стороны, принадлежность текста к «лапидарному слогу» для Грота, возможно, совсем не означала его «нелитературности». Совершенно очевидно, однако, что подкрепить авторитетом Грота отнесение державинской эпитафии Суворову к литературным моностихам не удается[155]155
Другая эпитафия Суворову, написанная Николаем Гнедичем и отнесенная к моностихам С.Е. Бирюковым [Бирюков 1994, 60], в действительности является двустишием [Гнедич 1832, 204]; в [Бирюков 2003] пример из Гнедича снят, но в вузовский учебник [Федотов 2002, 20] успел попасть.
[Закрыть].
С куда бóльшим основанием можно говорить об этом по поводу державинского же текста «На гроб князю Петру Михайловичу Голицыну»:
Стой, Зависть, стой – и устыдись!
[Державин 1866, 490]
Здесь перед нами гораздо более частотный по сравнению с трехстопным хореем предыдущего случая четырехстопный ямб, эффектный звуковой повтор – признаки стихотворности налицо; что же касается литературности, то случай остается проблематичным, но следует отметить, что на реальном надгробии Голицына этой надписи нет (и, по предположению Кормилова [Кормилов 1993, 17–18], надпись для этого и не предназначалась), зато намерение Державина, хотя и гораздо более позднее, опубликовать данный текст зафиксировано (он включен автором в состав подготовленной, но не успевшей выйти из-за смерти Державина «Части VII» его сочинений [Державин 1866, 490 и VIII][156]156
В связи с этим фактом вызывает некоторое недоумение замечание Кормилова о том, что публикация данной надписи не была осуществлена потому, что после 1791 г. (года смерти Г.А. Потемкина, убившего Голицына на дуэли – спровоцированной им, согласно тогдашним слухам, из зависти) «это потеряло смысл» [Кормилов 1993, 18].
[Закрыть]). Тем не менее и Марков, и Бирюков обходят этот текст молчанием[157]157
Кормилов же пишет о нем (и о других державинских моностихах) в [Кормилов 1993] как о лапидарном (а не литературном), а затем в другом месте, упоминая о «первых русских литературных моностихах Державина и Карамзина» [Кормилов 1996, 145], отсылает к этой своей работе.
[Закрыть]. Сопоставление двух державинских текстов проводит только Ю.Б. Орлицкий, рассматривая их, однако, специфическим образом – с точки зрения ритмического соотношения собственно текста и заглавия: «Заглавие <эпитафии Суворову>, как и текст, обладает силлабо-тоническим метром: это анапест, в то время как сама эпитафия написана трехстопным хореем. То есть произведение в целом (заглавие + текст) при традиционном подходе (курсив наш, – Д.К.) можно было бы трактовать как своего рода полиметрическую стихотворную композицию» – рассуждения этого рода приводят Ю.Б. Орлицкого к признанию «удетеронной природы как обоих однострочных текстов, так и их заглавий» [Орлицкий 2002, 564]. Между тем описанный подход никак нельзя назвать традиционным: апелляция к ритмике заглавия при определении ритмической природы собственно текста – прием абсолютно нетрадиционный[158]158
Хотя в отдельных случаях ритмическая корреляция текста и названия, безусловно, имеет место: см. стр. 39–40 и 332–333.
[Закрыть] и методологически сомнительный.
Вернувшись, спустя полтора столетия после Я.К. Грота, к рукописному архиву Державина и, в частности, к проекту «Части VII» его сочинений, Н.П. Морозова в недавнее время дополнила разряд державинских однострочных надписей еще двумя (отчего Грот воздержался от их публикации, сказать трудно):
На гроб князя Дмитрия Михайловича Пожарского
Прочь, злоба!
Надпись к портрету адмирала Федора Федоровича Ушакова
Не раз он потрясал перунами Стамбул.
[Морозова 2010, 302]
В первом случае, однако, как указывает сама Морозова, отдельно зафиксированная Державиным эпитафия лишь воспроизводит элемент финала известной оды «На коварство французского возмущения и в честь князя Пожарского» (1789, опубл. 1798):
А на твоей покрышке гроба
Простую надпись лишь: Прочь злоба!
Отечества напишет друг.
– но если в составе строки четырехстопного ямба с женским окончанием финальный спондей после ослабленного третьего икта, заполненного склонным к энклитизации наречием «лишь», прочитывается как эффектный ритмический пуант, то в изолированном употреблении ритмическое взаимодействие этих двух слов можно искать разве что в перекличке групп «сонорный + ударный ‘о’» – кажется, что считать на этом основании стихотворным неметрический трехсложный текст рубежа XVIII–XIX веков было бы по меньшей мере анахронизмом. Во втором тексте из публикации Морозовой, напротив, шестистопный ямб не оставляет иного выбора, кроме как признать надпись стихотворной и, наряду с надписью «На гроб князю Петру Михайловичу Голицыну», прибавить ее к немногим достоверным образцам литературного эпиграфического моностиха.
Наименьшая определенность существует в случае с однострочными текстами из неопубликованых рукописей Ивана Хемницера (1745–1784). Восемь таких текстов впервые напечатаны в «Полном собрании стихотворений» Хемницера, в разделе «Двустишия и афоризмы», в комментариях к которому Л.Е. Боброва и В.Э. Вацуро пишут: «Часть двустиший Хемницера являются, несомненно, самостоятельными законченными произведениями. Однако возможно, что среди публикуемых двустиший и афоризмов есть и поэтические “заготовки”…» [Хемницер 1963, 351]. В этом комментарии обращает на себя внимание нерешительность ученых, опасающихся не только назвать однострочные фрагменты стихотворными (в результате чего само название раздела оказывается заметно неоднородным), но даже предположить их (в отличие от двустиший) самостоятельность. Все восемь строк строго метричны (шестистопный ямб), отличаются синтаксической и логической законченностью и в принципе вполне могли бы функционировать самостоятельно; однако очень похожая по структуре строка «По взгляду не суди: обманчив внешний вид.», сохранившаяся в тех же рукописях Хемницера, имеет при себе помету автора «В баснь» [Хемницер 1963, 271], что, конечно, не может не вызвать аналогичного предположения и в отношении других хемницеровских однострочных фрагментов[159]159
И наоборот: в произвольно выбранных 50 баснях Хемницера нами зафиксированно 12 стихов, обладающих логической и синтаксической самостоятельностью аналогично спорным фрагментам. Все они представляют собой шестистопный ямб (хотя вообще ямб хемницеровских басен вольный), да и в других отношениях сходство очень сильное (ср., напр.: «От зла нередко зло другое происходит.» – «От зла и одного чего не отродится!»)
[Закрыть]. Поэтому мы полагаем, что готовность В.Ф. Маркова и вслед за ним С.Е. Бирюкова (а до них – С.А. Матяш) причислить тексты Хемницера к моностихам [Матяш 1991, 43; Марков 1994, 345, 354; Бирюков 2003, 93] не вполне основательна: вопрос об их статусе остается (и, видимо, останется) открытым (так считает, кажется, и С.И. Кормилов [Кормилов 1993, 16]).
Близкое вплоть до неразличимости родство первых русских литературных моностихов с «лапидарным слогом» обеспечило им естественность и бесконфликтность вхождения в культурный контекст – и вместе с тем предопределило скорое пресечение едва начавшей складываться традиции однострочной формы: движение поэзии от классицизма к сентиментализму, от сентиментализма к романтизму и далее вывело эпитафию из числа активно функционирующих в литературе жанров.
Вышесказанное не означает, однако, что идея однострочного стихотворения не возникала в XIX веке. Чрезвычайно интересное свидетельство[160]160
На этот источник обратил наше внимание М.И. Шапир.
[Закрыть] находим в письме Петра Вяземского (1792–1878) Константину Батюшкову (от 9 декабря 1811 г.): «Позвольте еще спросить: что такое смерть опередить[161]161
Из стихотворения Батюшкова «Мои Пенаты»: «Упьемся сладострастьем / И смерть опередим».
[Закрыть]? Оно мне кажется ‹…› дурным подражанием известному некоторым охотникам стиху его сиятельства князя Петра Андреевича “И смерть свою предупреждая!” Вы, может быть, надеетесь, что этот стих, не имея ни предшественников, ни потомков, как и большая часть стихов его сиятельства, может быть присвоен, – но нет, вы ошибаетесь, и страшитесь последствий! Он мне велел вам сказать, что он от этого стиха не откажется ни за какую цену, и даже что обстоятельства, гонения людей и Судьбы не позволят ему прибавить хотя бы еще стих, чтоб, по крайней мере, сделать дистих, то он решится напечатать его одиноким! Не примут в журналы – в прибавления “Московских ведомостей”, не примут и тут – в особом издании!» [Вяземский 1994, 126]. Конечно, 19-летний Вяземский шутит; но за этой шуткой видна важная черта его творческого сознания: внимание к отдельной строке, способность придавать ей отдельное, самостоятельное значение, – этой черте суждено было вполне развиться много позже.
Мотив единственной строки, к которой нужно (или не нужно) дописать вторую, встречается далее у Александра Пушкина (1799–1837) в прозаическом наброске «Роман в письмах» (1829), герой которого Владимир – как принято считать, до известной степени автобиографический персонаж [Цявловская 1958, 282, 287] – пишет из деревни в столицу приятелю следующее:
Наконец и я пустился в поэзию. Намедни сочинил я надпись к портрету княжны Ольги (за что Лиза очень мило бранила меня):
Глупа как истина, скучна как совершенство.
Не лучше ли:
Скучна как истина, глупа как совершенство.
То и другое похоже на мысль. Попроси В. приискать первый стих и отныне считать меня поэтом.
[Пушкин 1960, 490]
– надпись к портрету может рассматриваться как подвид «лапидарного слога» и как таковая вполне могла бы быть однострочной – однако в данном случае мыслится ее вымышленным автором исключительно как заготовка для будущего двустишия, так что для замечаний о пушинских моностихах (например, [Строганов 1999, 189]) оснований тут нет.
Шутки Вяземского и Пушкина на тему однострочности никак не связаны с обращением к этому приему Карамзина, Державина и Хвостова. Это, однако, не значит, что у них совершенно нет претекста. 13 февраля 1783 года ежедневная французская газета «Journal de Paris», литературный отдел которой вел по большей части один из ее соредакторов Оливье де Корансе (1734–1810), опубликовала следующий материал [Journal de Paris 1783, 181–182]:
ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА ПРИ ПАРИЖСКОЙ ПОГОДЕ, СТИХОТВОРЕНИЕ В ОДНУ СТРОКУ, ПРЕДОСТАВЛЕНО БЕЗВОЗМЕЗДНО В ПАРИЖЕ, ИЗ ПОРТФЕЛЯ ОДНОГО БЛАГОРОДНОГО ВОИНА
(se trouve gratis à Paris, dans le porte-feuille d’un Gentilhomme Fantassin)
Предварительное замечание от автора
Вопреки господам Томсону и Сен-Ламберу[162]162
Имеются в виду Джеймс Томсон (1700–1748) и Жан Франсуа Сен-Ламбер (1716–1803), авторы одноименных поэм «Времена года» (1730 и 1769 соответственно).
[Закрыть], чьими дарованиями я восхищаюсь, дерзну заявить со всей убежденностью, что никогда еще не доводилось мне видеть подлинной Весны в этих областях Европы, где нам суждено обитать.Обаяние этой поры знакомо лишь Малой Азии, [Эгейскому] Архипелагу да берегам Средиземного моря. Греки научили нас воспевать Весну; сырые же и леденистые ветры, властвующие у нас над головой, учат нас без этого обходиться.
Соловей отнюдь не поет в окрестностях Парижа; нет, он стонет от ужаса и изумления. Да и как бы он мог толковать о любви промозглыми и пасмурными ночами, истребляющими почти всегда большую часть наших весенних плодов и весенних радостей?
Лето в нашем умеренном климате представляет собой не что иное как оргию жары и пыли.
Достохвальная наша осень обильна засухами и грозами и едва дозволяет земледельцу собрать жатву, избегнувшую разрушительных причуд погоды. Что же касается зимы, то предоставляю моим читателям (исконным парижанам и иным жителям столицы) судить, верно ли говорит о ней мое стихотворение.
Впрочем, если мое творение и не доставит всем удовольствия, то оно по крайней мере, льщу себя надеждой, обладает уж тем достоинством, что никому не наскучит.
Этот текст был также перепечатан в издававшемся дважды в месяц дайджесте французской прессы «Journal politique, ou Gazette des gazettes» (выпуск за первую половину марта 1783 г.) [Journal politique 1783, 45–46]. А в 1787 году Пьер Жан-Батист Нугаре (1742–1823), плодовитый французский литератор, выпустил в Лондоне сборник анекдотов «Живая картина Парижа, или Забавные разности», где воспроизвел стихотворение вместе с предисловием, прибавив также ценные сведения о его дальнейшей судьбе:
Один поэт, о котором известно лишь, что зовется он Римайе[164]164
Rimaillet – от глагола rimailler «рифмачить, сочинять плохие стихи». В одном из позднейших источников автором этой переделки назван Анри де Каррион-Низа (1767–1841) [Maurice 1856, 247].
[Закрыть], член Общества литераторов, предложил прибавить еще стих к этому, единственному в своем роде, стихотворению, какого даже и Древние не могли себе представить и какое могло бы сделать эпоху в нашей литературе. Вот в чем состояли перемены, которые желал бы произвести мсье Римайе:
В любой сезон, Париж, иного ты не жди:
Дожди или ветра, ветра или дожди.
(Dans les quatre saisons à Paris l’on essuie
De la pluie et du vent, du vent et de la pluie.)
Другой поэт, большой любитель точности, отнюдь не желая ничего добавлять к этому особенному шедевру, потщился доказать, что, напротив, следует отсечь от него половину, и таким образом тема явится с новой силой:
Дожди или ветра.
Славный же гений, которому мы обязаны сим стихотворением, хранит молчание, скромно утаив свое имя, в то время как его обожатели и его завистники усиливаются или прилепиться к его славе, или навести тень на ее сияние; и тщетно в Journal de Paris, по обычаю театральной публики, требуют автора [Nougaret 1787, 36–38].
На протяжении последующих 25 лет этот анекдот еще несколько раз появлялся в печати, с незначительными изменениями[165]165
Циркулируя, по-видимому, и изустно, с различными искажениями и дополнениями; отметим цитирование моностиха Жаном-Батистом Гурье с атрибуцией его неаполитанскому посланнику в Париже Доменико Караччоли (1715–1789) [Gouriet 1806, 155].
[Закрыть], пока в 1813 году не был напечатан, снова в Лондоне, в третьем томе «Мемуаров исторических, литературных и анекдотических» – книги, основанной на ежемесячном журнале «Литературная корреспонденция», выпускавшемся Фридрихом Мельхиором Гриммом (1723–1807) для полутора десятков подписчиков со всей Европы, преимущественно королевской крови. В этом журнале история про удивительное однострочное стихотворение помещена под февралем 1783 года – к этому времени, на 30-м году издания, сам Гримм уже в значительной степени утратил к нему интерес, и журналом занимался его секретарь Якоб Генрих Майстер (1744–1826). В этой редакции, однако, заключительная часть новеллы выглядит иначе, поскольку сообщение обращено к другому кругу читателей:
Этот шедевр принадлежит графу де Ла Турай[166]166
Жан Кризостом Ларше, граф де Ла Турай (1720–1794), в 1755–1790 гг. состоял адъютантом (а поначалу, особенно во время начавшейся через год Семилетней войны, отчасти и воспитателем) при принце Конде (1736–1818), однако не последовал за ним в эмиграцию, а удалился в деревню работать над новой книгой, где затем был арестован, препровожден в Париж и гильотинирован; известен, главным образом, своей перепиской с Вольтером [Bellevüe 1911].
[Закрыть], состоявшему при Его Высочайшей Светлости принце Конде. Он его прочитал одному из своих друзей, обладавшему весьма взыскательным вкусом, примолвив при том: Ручаюсь, вы не сочтете это сочинение слишком длинным. Прошу меня извинить, отвечал ему друг Север (Sévèrus)[167]167
Вероятно, имелся в виду Сульпиций Север, римский христианский писатель рубежа IV–V веков, знаменитый изысканной лаконичностью стиля. С другой стороны, франц. sévère – «строгий, суровый».
[Закрыть], оно вдвое длиннее, чем нужно. Дожди или ветра – этого достаточно. [Mémoires 1813, 29–31]
– исчезли незадачливый сторонник традиционных форм Римайе и литературная общественность, разыскивающая автора через газету, а имя остроумного сочинителя предано гласности, но самое главное – пуант уже не в том, что изобретено однострочное стихотворение, какого и Древние не видывали[168]168
Можно довольно уверенно утверждать, что замечание Нугаре о беспрецедентности однострочных «Времен года» для классической поэзии относится не к самому факту однострочности, а к однострочному стихотворению, свободному от жанрового канона. Так, в 1816 году Жозеф Никола Барбье-Вемар (1775–1858) в своем журнале латинских стихотворений «Hermes Romanus» опубликовал сочиненный по просьбе читателя (!) моностих – подпись к известному бюсту Мольера скульптора Жана-Антуана Гудона, – явно понимая этот жест как вполне естественный [Hermes 1817, 807]. Характерно, что в словаре французского языка, составленном на основе записей Антуана Ривароля (см. след. прим.), моностих определяется как однострочная эпиграмма [Rivarol 1827, 639].
[Закрыть], а в том, что на всякую краткость найдется еще большая краткость[169]169
Возможно, такой вид сюжету придала контаминация с другим анекдотом, рассказывавшимся про писателя Антуана Ривароля (1753–1801), отозвавшегося будто бы о прочитанном ему двустишии: «Неплохо, но есть длинноты», – этот анекдот вроде бы был впервые опубликован в 1803 г. [P.M. 1803, 176]. Во всяком случае, спустя сто лет французский справочник крылатых слов и выражений рассказывает эти две истории вместе и выражает предположение, что в первой из них Ривароль вполне мог быть «другом Севером» [Alexandre 1901, 121]. Кроме того, Риваролю же принадлежит язвительная шутка по поводу еще одного одинокого стиха – строки из стихотворения Антуана Лемьера (1723–1793) «О торговле» (Sur le Commerce, 1757):
Тризуб Нептуна – скиптр над всем подлунным миром.(Le trident de Neptune est le sceptre du monde.) – этот стих, предмет особой гордости автора, широко цитировался современниками и даже именовался «стихом века» (не только в связи с собственными поэтическими достоинствами, но и как афористическое выражение геополитической доктрины): по воспоминаниям М. Кюбьера-Пальмезо, Ривароль ответил на вопрос об этой строчке: «Да, это одинокая строка» (Oui, c’est le vers solitaire), подразумевая посредственность стихотворения в целом, – пуант шутки, однако, в том, что vers solitaire (одинокий стих) звучит так же, как ver solitaire (ленточный червь) [Palmézeaux 1803, 294]. Среди других возможных претекстов моностиха де ла Турая можно назвать относящуюся к 1703 году и опубликованную в 1770 году переписку Никола Буало с младшим коллегой и будущим издателем Клодом Броссетом, в которой обсуждался перевод Буало однострочной эпиграммы из «Палатинской антологии» (IX. 455, вдохновлявшей многих эпиграмматистов [Добрицын 2008, 247] и переведенной на латынь с сохранением однострочной формы Томасом Мором): Буало превратил ее в заключительный стих десятистрочного стихотворения, но в самой строке сократил одно слово, что и привело к дискуссии о краткости и избыточности в поэтической миниатюре [Boileau 1770, 264, 268–270, 275].
[Закрыть].
Все периодические издания, приложившие руку к распространению этого анекдота, активно читались в России, а различные сочинения Нугаре пользовались известной популярностью начиная с 1780–1781 гг., когда вышел русский перевод одного из его собраний анекдотов, под названием «Тысяча и одно дурачество» [Кукушкина, Лазарчук 2010, 151]; среди русских переводчиков Нугаре был двоюродный дядя Батюшкова Платон Соколов, – словом, вероятность знакомства Пушкина и Вяземского с какими-то из указанных французских источников весьма велика[170]170
Консультацией по этому вопросу мы обязаны И.А. Пильщикову.
[Закрыть] (хотя документально зафиксировано только чтение ими следующего переиздания «Correspondences» Гримма, вышедшего в 1829–1830 гг. – напр., [Пушкин 1969, 34][171]171
Впрочем, том 11 этого издания, в котором содержится данный эпизод, остался в личной библиотеке Пушкина неразрезанным [Модзалевский 1910, 214]. Однако направить фантазию молодых Вяземского и Пушкина в эту сторону могли и какие-то иные прецеденты минимизации и эрозии формы и содержания, явившиеся во французской литературе последней трети XVIII века зримым свидетельством культурной и эстетической революции, – ср., напр., [Moore 2009, 16–25] о пародийной пьесе (названной к тому же «стихотворением в прозе») Шарля Жоржа Кокле де Шоспьера (1711–1791, известен прежде всего как цензор, разрешивший «Женитьбу Фигаро») «Добродетельный распутник» [Coqueley de Chaussepierre 1770], каждое из пяти действий которой представляет собой немногочисленные никак не связанные слова и знаки препинания, разбросанные по пустой странице (или, если угодно, разделенные обширными пробелами); характерно, что для современников (в лице, например, М.Ф. Пиданза де Меробера [Mémoires 1783, 153]) эта публикация была едкой пародией, тогда как для новейших исследователей она выступает провозвестником кардинальных изменений в соотношении текста и фона у Стефана Малларме, дадаистов и т. д. [Andel 2002, 24–27]
[Закрыть]).
Следующим любопытным и важным этапом в становлении взгляда на однострочный текст как на правомерную форму стихотворного произведения стала работа Льва Мея (1822–1862) над переводами анакреонтики, проходившая в 1850-е гг. Полностью анакреонтика Мея, собранная самим автором, появилась в печати уже после его смерти, в 1863 году, в заключительном томе 3-томных «Сочинений» поэта, и затем несколько раз переиздавалась вплоть до 1911 г. В рамках подраздела с характерным названием «Надписи, эпитафии, эпиталамы и отрывки» Мей по сравнению со своими предшественниками увеличил корпус русской анакреонтики более чем на 40 фрагментов, 15 из них в переводе однострочны. Разумеется, это не было таким радикальным эстетическим жестом, каким стало появление спустя 30 лет знаменитого моностиха Брюсова; не следует, впрочем, и приуменьшать решительность Мея: его работе предшествовали пять больших публикаций других переводчиков, каждый из которых стремился дать читателю полное представление о поэте, – и все они обошлись без однострочных фрагментов[172]172
Т.е., вопреки безоговорочному заявлению В.Ф. Маркова о том, что «наше сознание воспринимает как однострок случайно дошедшие до нас обрывки из древних поэтов» [Марков 1994, 347], этот подход вовсе не является самоочевидным. Корректнее формулирует Е.И. Зейферт: «Ненамеренная фрагментарность текста (его частичная потеря, незаконченность, публикация фрагмента произведения) в сознании творческого человека может вызвать ощущение намеренного приема – отрывочности, оборванности текста как атрибута художественной формы с богатыми возможностями: множеством вариантов интерпретации смысла, стимулированием читательского сотворчества – и стать… примером для подражания» [Зейферт 2014, 17].
[Закрыть]. Однако поучительнее всего – не сам факт появления однострочных античных фрагментов в русском переводе, а то обстоятельство, что при сопоставлении их с подлинниками выявляется совершенно определенная переводческая тенденция[173]173
Консультациями по этому вопросу мы обязаны В.В. Зельченко и С.А. Завьялову.
[Закрыть]: сознательно или бессознательно Мей стремится придать отрывкам максимально законченный характер. Чаще всего это проявляется в элиминировании различных служебных слов – γὰρ, δε, τε и т. п., в подлиннике явно связывавших сохранившийся текст с предшествовавшим. Но для нас особенно ценны те случаи, когда Мей приводит к метрически и синтаксически полноценному виду отрывки, метрический статус которых сомнителен. Так, строкой пятистопного дактиля:
Вязями лотосов перси они украшают…
[Мей 1863, 93]
– Мей передает отрывок, сохранившийся в книге Афинея «Пир мудрецов» и не позволяющий однозначно установить метрическую структуру, в силу чего и графическое решение различается в различных публикациях греческого оригинала, от двустишия в основополагающем [Bergk 1843, 674] до новейших изданий, выносящих первое слово в предыдущий стих:
Еще более разительный пример – гексаметрическая строка Мея
Если бы мне умереть!.. я другого исхода не знаю.
[Мей 1863, 89]
– соответствующая двустишию подлинника:
’Από μοι θανεῖν γένοιτ’∙ οὐ γὰρ ἂν ἄλλη
λύσις ἐκ πόνων γένοιτ’ οὐδαμά τῶνδε
[Bergk 1843, 677][175]175
Более ранний перевод Василия Водовозова и позднейший Викентия Вересаева также двустрочны; для колебаний в графике подлинника здесь нет оснований: фрагмент дошел в составе трактата по метрике «Гефестион», где он фигурирует как пример двустишия ямбическим триметром [Campbell 1988, 90–91].
[Закрыть].
Все это свидетельствует о том, что единственный стих – при наличии определенной логической и синтаксической законченности – представлялся Мею способным к самостоятельному существованию, основой которого оказывался его версификационный статус полноценного русского стиха.
Опыт Мея долго оставался уникальным – вплоть до 1910-х гг., когда к мельчайшим фрагментам античных авторов – Архилоха, Алкея, Сапфо и др. – стали охотно обращаться Вячеслав Иванов и Викентий Вересаев (впрочем, в 1891 г. два однострочных текста[176]176
Из трех имеющихся в каноническом корпусе сочинений Марциала однострочных фрагментов (самостоятельных или нет – в точности неизвестно), без откровенно непристойного II. 73.
[Закрыть] включает в свой перевод «Эпиграмм» Марциала Афанасий Фет). Судить о том, насколько работы Мея повлияли на Брюсова, едва ли возможно, хотя сам Брюсов в одном из позднейших автокомментариев к своим однострочным опытам ссылается на античный моностих как пример для подражания[177]177
«У римлян были законченные стихотворения в одну строку… Я просто хотел сделать такую попытку с русским стихом» [Измайлов 1911, 395]. Брюсов, очевидно, имеет в виду латинские эпиграммы, литературность которых с сегодняшней точки зрения сомнительна; сборник таких эпиграмм (среди которых целый ряд однострочных) был в домашней библиотеке Брюсова. Находились в поле зрения поэта и греческие однострочные фрагменты; в имевшейся у него книге «Anthologia lyrica graeca» один из таких фрагментов, содержащий характеристику Сапфо, данную Алкеем, несет следы брюсовской работы по его переводу (ОР РГБ, ф.386:Книги:628, л.117об). Существенно позже Брюсов переводил однострочные фрагменты раннелатинских авторов (см. [Брюсов 1994, 795]).
[Закрыть]: история брюсовского обращения к моностиху убедительно показывает, что интерес к античной однострочности не был здесь первопричиной, а, скорее, одним из проявлений общей тенденции – наступающей эпохи модернизма – «времени широчайшего обновления и перестройки всей системы поэтических средств», эпохи, когда «поэзия отчетливо противопоставляет себя прозе и сосредотачивается на тех художественных заданиях, которые прозе недоступны» [Гаспаров 2000, 214][178]178
От обсуждения присущих этой эпохе особенностей в восприятии слова и текста нам хотелось бы, в рамках нашей гораздо более специальной темы, уклониться, но и без подробного обсуждения понятно, что повышенный интерес к формальной стороне искусства способствует перемещению в фокус внимания авторов, читателей и исследователей малой формы и малых единиц текста.
[Закрыть].
Традиция приписывает Валерию Брюсову 8 или 9 моностихов [Марков 1994, 345; Кормилов 1991а, 72; Брюсов 1973, 568; Брюсов 1974, 236–237 и др.], из которых, впрочем, он рискнул напечатать лишь один – знаменитое
О закрой свои бледные ноги.
Еще семь были опубликованы в 1935 г. А.Н. Тер-Мартиросяном[179]179
В предисловии к этому изданию анонсированы всего четыре «одностишия»: «Мы не воздержались также от включения в сборник четырех одностиший, подобных ставшему в свое время притчей во языцех: О, закрой свои бледные ноги…» [Брюсов 1935, 7]. Первоначально составитель планировал публикацию только текстов 1894 г., три текста 1895 г. были вписаны И.М. Брюсовой в гранки (РГАЛИ ф. 613 оп. 1 ед. 5755 л. 72).
[Закрыть]; в собрании сочинений 1973–75 гг. добавлен еще один однострочный текст (правда, один из напечатанных в 1935 г. исключен). Однако эта традиционная точка зрения[180]180
К которой, к сожалению, доверившись академическим авторитетам, присоединились и мы в нашей ранней публикации [Кузьмин 1996, 72].
[Закрыть] должна быть оспорена.
Хронологически первыми брюсовскими моностихами считаются две строки, датированные 27 ноября 1894 г. Комментаторы Собрания сочинений указывают, что они представляют собой перевод двух строк из сонета Шарля Бодлера «Красота». При обращении к автографу этих строк в записной книжке Брюсова «Мои стихи» (ОР РГБ, ф. 386, ед. 14.5/1, л. 28) выясняется, что он имеет своеобразный вид: вверху листа расположена строка
затем оставлено свободное место (что вообще для записных книжек Брюсова нехарактерно: обычно текст в них идет очень плотно), далее следует вторая строка:
Никогда не смеюсь, никогда я не плачу.
– вписанная поверх зачеркнутого варианта:
И смех мне незнаком и незнакомы слёзы.
– и, наконец, далее оставлено пустое место до конца страницы. Такое расположение текста с неопровержимостью свидетельствует о том, что перед нами – не два моностиха, выборочно переведенные Брюсовым из Бодлера, а перевод всего бодлеровского сонета, оставленный Брюсовым на ранней стадии работы: вначале им был переведен 8-й стих, легко укладывающийся в шестистопный ямб, затем – 1-й, хорошо легший в четырехстопный анапест (ближе отвечающий ритму бодлеровского оригинала: ср. Je suis belle, ô mortels! comme un rêve de pierre), после чего 8-й стих также переделывается Брюсовым под этот размер, но дальше работа почему-то не пошла, и место для стихов 2–7 и 9–14 осталось пустым[182]182
Позднее этот бодлеровский сонет был все же переведен Брюсовым полностью, в шестистопном ямбе (см. [Брюсов 1994, 271]).
[Закрыть]. Однако затем И.М. Брюсова, составляя для этой записной книжки «Оглавление № 1» (там же, л. 1–6), указывает каждую из двух строк как отдельное стихотворение – и отсюда, по-видимому, берет начало ошибочная интерпретация.
Следующими по хронологии считаются два моностиха от 29 ноября 1894 г. Их самостоятельность также проблематична. Первый из указанных текстов –
Я знаю искусство, страданья забыв
– в автографе имеет на конце вовсе не точку, как в публикации А.Н. Тер-Мартиросяна (и у следующих за ним В.Ф. Маркова и С.Е. Бирюкова), а сокращение «etc.» (ОР РГБ, ф. 386, ед. 14.5/1, л. 45об), употреблявшееся иногда Брюсовым для обозначения неоконченных произведений (ср., напр., там же, л. 13об); видимо, поэтому в собрание сочинений Брюсова 1970-х гг. эта строка не включена.
Есть ряд любопытных особенностей и у автографа второго текста:
На пике скалы у небес я засну утомленно.
С одной стороны, перед ним вместо заглавия стоит число «XII» римскими цифрами; с другой – после него стоит в скобках слово «Кошмар», и к этому слову сделана помета «в огл<а>вл<ение?>»[183]183
Комментаторы Собрания сочинений, интерпретируя «Кошмар» как вариант заглавия, ошибочно относят его к другому моностиху, написанному почти годом позже [Брюсов 1974, 595].
[Закрыть]. Номера с I по XI, которых естественно было бы ожидать в непосредственной близости от текста под номером XII, в указанной записной книжке отсутствуют. В каком оглавлении рассчитывал Брюсов поместить заглавие «Кошмар» – также совершенно неясно. Наконец, слабо прослеживается связь текста и названия: в том, чтобы заснуть в таком не совсем привычном месте, еще нет ничего особенно кошмарного, если же предположить, что кошмар лирическому герою приснился, то удивляет непрописанность этого мотива. Отсюда, в свете истории с двумя бодлеровскими строчками, несложно предположить, что перед нами – еще один перевод, не продвинувшийся дальше первого стиха. Этим легко объясняются и номер, и помета: и то, и другое относится к иноязычному подлиннику (гипотетический текст-оригинал значился в некоей книге под номером «XII», а в ее содержании – под заглавием «Кошмар»). Брюсов, как правило, никак не отделяет в своих записях оригинальные сочинения от переводов, но если отделяет, то, в частности, как раз указанием на номер текста в книге-источнике (обычно, правда, называя и саму книгу – см., напр., там же, лл. 88, 89). Разумеется, такое предположение остается гадательным до тех пор, пока вышеприведенная строчка не будет сверена с начальными строками «XII-х номеров» во всех книгах, откуда Брюсов мог переводить стихи в ноябре 1894 г., – эту задачу мы оставляем грядущим брюсоведам; до тех пор, однако, утверждать самостоятельность и этой брюсовской строки оказывается невозможным.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































