Текст книги "Русский моностих: Очерк истории и теории"
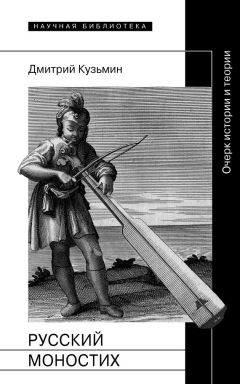
Автор книги: Дмитрий Кузьмин
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Наконец, автор может предпринять целенаправленные шаги по затемнению стихотворной либо прозаической природы текста. Так, в книге избранных стихотворений Доналда Джастиса [Justice 1995, 104] находим цикл «Из блокнота» (From a Notebook), где безусловно стихотворные миниатюры соседствуют с очевидной малой прозой, которая в практике американского поэтического книгоиздания легко встраивается в поэтический сборник, не претендуя никоим образом на стихотворность. Шестая часть в цикле из девяти текстов выглядит так:
Рецензент книги Джастиса особо останавливается на этом тексте, отмечая, что поэт «даже фразу из шпионского романа превращает в меланхоличное (wistful) однострочное стихотворение» [Dirda 2004]. Но стихотворение ли это? Пояснение по поводу происхождения данной фразы дано в одной строке с самой фразой, но оформлено той же капителью, какой названия некоторых других частей цикла, и отделено значительно увеличенным пробелом, побуждающим читателя усомниться в соотношении двух частей текста. В рамках выработанного выше подхода мы должны сказать, что установка на поиск в тексте сигналов стихотворности Джастисом создана, однако присутствующие в тексте сигналы нарочито противоречивы, не могут быть однозначно расшифрованы – а потому мы так и не знаем твердо, следует ли нам рассматривать структурные элементы, позволяющие стихотворную интерпретацию (например, кольцевую аллитерацию [məi] / [əim]), как релевантные или как нерелевантные, случайные. Похоже, что в этом тексте оппозиция стих/проза нейтрализуется.
Другой интересный случай неотчетливости сигнала можно усмотреть у Пабло Неруды. Принято считать, что он включил два моностиха в свою первую книгу «Собрание сумерек» (Crepusculario, 1923). Однако Неруда действовал тоньше. В первом издании сборника (и ряде его переизданий) моностих, графически оформленный так же, как и другие стихотворения книги, только один (напр., [Neruda 1942, 119]):
Спящая вода
Прыгать люблю в воду, чтобы упасть в небо.
Ему предшествует ([Neruda 1942, 99]) название одного из разделов, вынесенное на отдельную полосу и данное соответствующим шрифтом, однако совершенно нетипичное по длине и характеру:
MI ALMA ES UN CARROUSEL VACÍO EN EL CREPÚSCULO
(МОЯ ДУША КАК КАРУСЕЛЬ ПУСТАЯ СРЕДИ СУМЕРЕК)
Традиционная установка не предполагает стихотворности названий, и названия предыдущих разделов (предшествующий, например, называется «Сумерки Марури», по названию улицы, на которой жил Неруда, сочиняя книгу) не ставят эту установку под сомнение. Но подаваемый этим названием сигнал противоречит установке – и позволяет обнаружить у строки стихотворную структуру: как отмечал позже Л. Марио, она явно распадается на рифмующиеся полустишия [Mario 1991, 473]. Это в какой-то степени подготавливает появление однострочного стихотворения, способное вызвать непонимание у латиноамериканского читателя 1920-х годов, прежде с этой формой в испаноязычной поэзии не встречавшегося (см. стр. 189–190). Однако в позднейших изданиях (можно предположить, в связи с нормализацией моностиха как формы: какая-то специальная подготовка читателя с расшатыванием установки более не нужна) эта строка печатается уже не как название раздела, а как моностих (с точкой в конце и первыми двумя словами, повторенными как название текста) [Neruda 1973, 62].
К сожалению, понятия сигнала и установки не были в должной мере усвоены литературоведением из семиотики, хотя к соответствующей проблематике многие авторы так или иначе подходили: например, в сходном направлении размышляли Ж. Женетт [Genette 1969, 150] и Дж. Каллер [Culler 1975, 161–164], пользовавшиеся, однако, терминологически нестрогими формулировками (attitude de lecture у Женетта, type of reading у Каллера)[47]47
Ср. также анализ формального метода в литературоведении (в том числе тыняновской теории стиха) в последующей теоретической (в том числе семиотической) перспективе у О. Ханзена-Лёве [Ханзен-Лёве 2001, 294–326].
[Закрыть]. Поэтому их применение к литературным текстам может оказаться неоднозначным. Мы исходим из того, что установка предшествует восприятию текста (ср. у Ю.М. Лотмана: «Представление о том, что воспринимаемый нами текст – поэзия, ‹…› – первично» [Лотман 1964, 133]), побуждая искать в нем сигналы его стихотворной природы (поскольку мы рассматриваем поэзию как маркированный член оппозиции). Поэтому, относя к сигналам на равных правах «позу говорящего и название произведения», Лотман, очевидно, не различает сигнал и установку: ведь название является хотя и специфической, но частью текста, а значит, может нести сигнальную функцию, поза же декламатора, безусловно, относится к сфере установки. Близкие соображения встречаются и других исследователей. Так, О.И. Федотов (со ссылкой на Й. Грабака) замечает: «Графическая сегментация служит прежде всего особого рода сигналом установки на стих, следуя которому наше сознание “вдвигает” предлагаемый ему текст в определенную внетекстовую структуру, в определенную историческую традицию» [Федотов 1997, 38]. Наиболее последовательно останавливается на этом круге вопросов М. Червенка, в разных работах возвращающийся к «сигналам включения соответствующих текстов в традицию стихотворной словесности (поэзии), т. е. восприятия их звуковой организации как ритмической» [Червенка 2011, 144], – но и он, вслед за Лотманом, в свой «реестр “возбудителей” ритмической интенции» на равных правах включает «издание книги в поэтической серии», «тематические элементы, обычные для поэтического текста», «звуковые последовательности и повторы» и «характерное разделение текста на строки» [Червенка 2011, 147–148], то есть элементы установки (вне текста), сигналы (в тексте), элементы ритмической структуры (звуковые повторы)[48]48
Для Червенки ритмическими являются только факторы, обладающие предсказующим действием, то есть Ритм сводится к метру, тогда как «инструментовка в стихе в большей степени действует как фактор ритмической дифференциации, нежели как один из носителей ритма» [Червенка 2011, 248], и в этом отношении Червенка делает шаг назад сравнительно со своим учителем Я. Мукаржовским, отмечавшим, что «хотя эвфония кажется наиболее внешним элементом поэтического текста, как и всякий иной элемент, она может играть роль структурной доминанты, то есть элемента, который приводит в движение все остальные элементы и определяет меру их актуализации» [Мукаржовский 1996, 94]; по-видимому, это отступление связано с представлением об особой стиховой интонации как основном языковом выражении стихового ритма [Червенка 2011, 152–157], – представлением, акцентирующим выбор в пользу эйхенбаумовской, а не тыняновской парадигмы.
[Закрыть] и более или менее иррелевантные ритмике стиха факторы (поскольку для современной поэзии вопрос о выделении «обычных для поэтического текста тем», очевидно, не стоит); впрочем, встречающееся в другой работе Червенки замечание о том, что «графическая форма текста, разбивающая его на строки, заканчивающиеся еще до начала страничных полей, располагается на границе между внутритекстовыми и внетекстовыми сигналами ритма» [Червенка 2011, 113], возможно, следует интерпретировать как альтернативную терминологическую возможность (установка = внетекстовый сигнал), едва ли удачную в связи с тем, что внутритекстовый сигнал выполняет обязательную посредующую функцию между установкой и структурой. В любом случае семиотическое осмысление стиха остается недостаточным и требует дальнейшего развития и систематизации[49]49
В частности, представляют особый интерес различные способы рассогласования установки и сигналов, историческая изменчивость установки (ср., по Ю.М. Лотману, изменение произведения при неизменности текста [Лотман 1964, 157]), и др.
[Закрыть].
Итак, в предложенных терминах наше разногласие с позицией С.И. Кормилова по вопросу о моностихе можно сформулировать так: Кормилов полагает, что в «маргинальных системах» и, в частности, в моностихе установка является необходимым и достаточным условием стихотворности, два же других звена триады (сигнал и структура) могут отсутствовать или, во всяком случае, нерелевантны; мы, напротив, полагаем, что моностих характеризуется этой триадой точно так же, как и «основные системы стихосложения», дефектность же триады в любом ее элементе конституирует явления, принципиально не относящиеся к стиху (как, например, упоминавшиеся выше опыты Всеволода Некрасова и Ры Никоновой).
Таким образом, маргинальность явления моностиха для поэзии следует понимать в том смысле, что моностих маркирует тот край, тот минимум условий, за которым мы имеем дело уже не со стихом. Моностих – тот пробный камень, на котором проверяется справедливость любых претендующих на общезначимость суждений о поэзии. Лучшим тому подтверждением может служить подобная проверка цитированного выше тезиса Б.В. Томашевского: «Ритм может быть наблюдён и в отдельной строке, но только ряды стихов создают в нас впечатление общего ритмического закона» [Томашевский 1929, 25–26]. В самом деле: ритмический закон (т. е. метр) выявляется только в ряде стихов[50]50
Согласимся, однако, с важным дополнением В.Ф. Маркова: «Ямбическая строка ощущается как ямбическая не только на фоне других напечатанных, но и воображаемых» [Марков 1994, 349].
[Закрыть], ритм же обнаруживается и в отдельной строке, но Ритм может манифестироваться и непосредственно ритмом во всей его индивидуальной неповторимости[51]51
На возможность «ритма вне метра» указывал еще А. Белый (см. [Шапир 1990, 81–82]).
[Закрыть].
Ближе всех к такому пониманию ритмической природы моностиха подходит, по-видимому, Ж.Л. Жубер, отмечающий хотя и вскользь, но со ссылкой на Тынянова, что стиховая природа моностиха обусловлена взаимозависимостями и повторами в его структуре [Joubert 2010, 187]. Из отечественных авторов на то, что ритм моностиха «создается звуковыми, или синтаксическими, или собственно метрическими повторами», указывает Б.П. Иванюк [Иванюк 2008, 127]. Не вдаваясь в вопрос о том, могут ли синтаксические повторы выступать как первичный порождающий фактор стихового ритма, важно отметить отраженную в формулировке Иванюка несводимость Ритма к метру. Однако дальнейшее замечание Иванюка о том, что такая ритмическая природа отличает «классический моностих» от «неклассического, занимающего промежуточное положение между стихом и прозой» (со ссылкой на В.П. Бурича и С.И. Кормилова), влечет за собой, кажется, некоторую терминологическую невнятицу, возвращая к размышлениям М.В. Панова и других о том, что не всякий моностих есть стих.
Необходимо указать еще на одно обращение отечественной филологии к вопросу о ритмическом строении единичного стиха. А.З. Лежнев начинает с рассуждения, непосредственно перекликающегося с позицией Кормилова: «Отдельно взятые стих, строка, фраза не имеют ритмической природы. Она создается контекстом. То, что было бы стихом в стихотворной строфе, становится повествовательной фразой в прозаическом абзаце. ‹…› Поэтому стихотворение должно состоять по меньшей мере из двух строк. Если брюсовское “О, закрой свои бледные ноги!” воспринимается как стихи, то это потому, что оно подано как стихи и на стиховом фоне, да и то оно возбуждало долгое время недоумение своей однострочностью» [Лежнев 1937, 192]. Но сразу вслед за этим утверждением Лежнев поправляет себя: «Это не совсем точно. Дело в структуре стиха. ‹…› В длинной строке, например, гекзаметрической, волнообразный рисунок ритма намечен так определенно и полно, что уже единственный изолированный стих дает о нем представление. ‹…› Важнее, чем протяженность метрической строки, ее внутреннее строение. Возьмем строку: “Мчатся тучи, вьются тучи”. Она будет воспринята как стиховая при всяких условиях. Действительно, изменим текст следующим образом: “Мчатся тучи, вьются тучи, идет дождь”. Ритм все еще ощущается. ‹…› Это происходит оттого, что ритмическая структура подчеркнута сильными добавочными средствами. Стих распадается на две симметрические половины, состоящие из одинаково построенных коротких фраз, где повторение (слова “тучи”) создает “нагнетательное” действие, смысловое и ритмическое, поддержанное к тому же густой звукописью. Это – законченный в себе кристалл, сгусток ритма, стиховая природа которого очевидна. Попробуем ослабить его ритмическую интенсивность, не нарушая метра. Возьмем эквиритмическую фразу: “Воет ветер, мчатся тучи, идет дождь”, – стихотворный ритм уже почти не чувствуется. ‹…› А ведь мы только уничтожили повторения и несколько ослабили густоту звукописи, оставив синтаксический параллелизм коротких фраз, сохраняющих свою самостоятельность. Поэтому слабый отзвук метра еще отдается здесь. Уничтожим параллелизм и заставим метрическую строку врасти в прозаический текст: “Надвигался вечер. Посвежело. Мчались тучи, роняя на бегу крупные и редкие капли дождя”. Вряд ли бы кто, читая абзац, догадался, что в нем заключена правильная ритмическая строка (“Посвежело. Мчались тучи”), и выделил бы ее в чтении» [Лежнев 1937, 192–194].
Эти размышления А.З. Лежнева принадлежат к нескольким страницам, посвященным стиху, в его книге «Проза Пушкина» (и по причине своего происхождения в поле зрения стиховедов обычно не попадают). Поскольку Лежнева в первую очередь интересует возможность опознания стихотворных элементов в прозаическом тексте (то есть, в отсутствие установки на стих), постольку метр выступает для него совершенно обязательным элементом (то есть тем элементом структуры, который принимает на себя сигнальную функцию). Но нам важно отметить у Лежнева отчетливое понимание того, что Ритм не сводится к метру и не исчерпывается им – а значит, работа Ритма может быть обнаружена и в отдельно стоящем стихе, на чем настаиваем и мы.
Заявленная нами теоретическая позиция требует, естественно, проверки анализом конкретных текстов, обнаруживающим работу Ритма в моностихе. Выразительным примером такого анализа, предпринимаемого в отношении однострочных текстов крайне редко, может послужить разбор моностиха У. С. Мервина:
Elegy
Who would I show it to
Элегия
Кому я это покажу
– принадлежащий известному американскому литературоведу и критику Хелен Вендлер и наглядно демонстрирующий, что методологическая корректность лежит в основе точности и глубины интерпретации:
«Название указывает на жанр: это стихотворение, выражающее скорбь о недавно умершем. Мы замечаем, что нисходящий ритм названия отвечает теме стихотворения: “El-e-gy”. Сущностными тематическими элементами всякой элегии выступают оплакивание и восхваление ушедшего, – и здесь мы видим жалобу поэта на то, что он утратил кого-то, кого он воспевает (eulogized) в качестве наиболее значимого спутника жизни – читателя, чьему вкусу и интуиции прежде всего были адресованы стихи. Теперь этот самый необходимый друг умер, и незачем сочинять… Стихотворение заключено в рамку финальным “to”, которое эхом откликается на начальное “Who”… Вообразим это крохотное, но пронзительное стихотворение переписанным в иной форме. Название его пусть будет, допустим, “Dirge” (погребальная песнь, – Д.К.) – односложное, неметрическое слово, – а сам текст пусть будет написан в восходящем ритме: “To whom would I show it?” Нет больше никаких соответствий между содержанием и формой: название ритмически не коррелирует с текстом; живое, разговорное обращение к близкому заменено примером из учебника по грамматике; нет звуковой связки между начальным и финальным словом. Достраиваемая воображением лирическая ситуация и сущностные тематические элементы не изменились: стихотворение по-прежнему говорит о том, что незачем больше писать, когда лучший читатель умер, но художественная необходимость (conclusiveness), словесная аранжировка, врезающаяся в сознание, утрачена. Чувство осталось, искусство ушло» [Vendler 2001, 389–390][52]52
Следует отметить, впрочем, что анализ Вендлер перекликается с получившим в это же время распространение в американской литературно-критической мысли представлением о собственной выразительности отдельного стиха вообще, а не только самостоятельного моностиха, – ср., например, замечание Э. Фултон, автора концепции «фрактальной поэзии», о том, что «каждая строка, как обнаруживается при ближайшем рассмотрении, столь же богато отделана (detailed), сколь и целое стихотворение, из которого она взята» [Fulton 1999, 58].
[Закрыть].
Сходные рассуждения встречаем у Е.К. Озмителя, анализирующего моностих Василия Субботина:
Окоп копаю. Может быть – могилу.
«Моностих В. Субботина двучленен, состоит из двух фраз, одна из которых выступает преимущественно в качестве информационной предпосылки, а вторая – эстетической интерпретацией ее и одновременно уточняющим информантным комплексом, который вносит мотив неопределенности в развитие образа-мысли. Однако уже первая часть по сути дела не только лишь информационна; ее инверсионное построение (“Окоп копаю”) обозначает наличие дополнительного информационного шума, семантическая значимость которого заключается в передаче авторских чувств, переживаний. Поэтому уже здесь создается возможность сделать предположение, что перед нами не только мысль-образ, но и образ-переживание. ‹…› В каждой части – по одной предметной детали, одной из которых произведение открывается, а второй – завершается. Это своеобразное предметно-детальное кольцо (“Окоп… могилу”) придает во многом ту смысловую завершенность стиху, которую мы ощущаем как наиболее характерную для лирической структуры. ‹…› В обеих частях моностиха опущены, но подразумеваются единицы, закономерные в естественном языке, – притяжательные местоимения, что усиливает экспрессивность и динамичность моностиха, рождает эффект сжатия, форсирования речевого потока, способствуя, если говорить другими словами, возникновению “тесноты стихового ряда”. ‹…› Аллитерирование различает и разделяет две знаковые подсистемы (к, п; к, п – м, л), а ассонансы их сочетают в единое эстетически-эмоциональное целое (о, о; о, у – о, о, у). Таким образом, устанавливается наличие системы знаковых повторов, которые не только несут познавательную, но и эмоционально-эстетическую информацию; последняя предопределяет тот факт, что в процессе коммуникации данный код воспринимается в его лирической функциональной определенности» [Озмитель 1972, 8–10][53]53
Своеобразным подтверждением соображений Озмителя «от противного», близким если не по предпосылкам, то по методу и к Вендлер, выступает более раннее замечание А.И. Мамонова, обсуждающего однострочные тексты в японской модернистской поэзии 1920-х гг. и приходящего к выводу, что их отличие от прозы полностью лежит в сфере образности: «выпуклость и многогранность образа мира достигается еще и особой связью слов в стихотворениях, подчиненной идее: стих – это скульптура»; сопоставляя моностих Субботина с японскими аналогами, Мамонов указывает: «Впечатляющая образность этого стихотворения бесспорна. И если снять инверсию (“окоп копаю”), тем самым разрушив строгий метр (пятистопный ямб), которым написано стихотворение, сходство строки-стиха с японскими прозаическими танси окажется стопроцентным» [Мамонов 1971, 119].
[Закрыть].
Анализ Озмителя может, кажется, вызывать некоторые частные несогласия (квалификация вокализма субботинского моностиха как ассонанса выглядит проблематичной, потому что в трех из пяти случаев буква «о» обозначает безударный редуцированный звук[54]54
Впрочем, возможность или необходимость опираться при анализе звукового строя стиха не только на фонемный, но и на графемный состав текста находилась в поле зрения специалистов: см. [Червенка 2011, 238–239] и [Ляпин, Пильщиков 2013, 57–58] с указанной литературой.
[Закрыть]; довольно сомнительна обязательность в естественной речи притяжательных местоимений в подобной фразе – во всяком случае, вариант «копаю свой окоп» явно воспринимается как избыточный), но общий вектор его логики совпадает с нашим: моностих обнаруживает в себе структурные особенности, присущие стиху и относящиеся к Ритму в широком смысле термина.
В этой теоретической перспективе мы будем далее рассматривать историю русского моностиха как стихотворной формы и, в частности, целый ряд отдельных текстов. Перед этим, однако, необходимо уделить несколько больше внимания вопросам отграничения моностиха от некоторых других форм и явлений.
2. Моностих и смежные явления
О границе между моностихом и прозаической миниатюрой в значительной степени уже шла речь в главе 1. Добавим лишь, что эта граница не является совершенно непроницаемой относительно влияний и заимствований: не случайно, например, отмечается прямое воздействие прозаической микроминиатюры Жюля Ренара на последующую традицию французского хайку [Agostini 2001, 47][55]55
А Р. Барт, напротив, специально указывает, что взаимосвязь между ними не стоит преувеличивать – апеллируя, однако, не к формальному, а к содержательному различию [Barthes 2003, 100, 131].
[Закрыть] – причем в качестве наиболее выразительного примера фигурирует однострочный текст:
Le Ver Luisant
Cette goutte de lune dans l’herbe!
– конечно, чисто прозаический контекст книги «Естественные истории», откуда этот текст извлечен, не ведет к его опознанию как стихотворного, да и в метрические схемы французской силлабики он укладывается с трудом[56]56
Девятисложник в ней крайне редок, а если и встречается, то требует цезуры после мужского окончания в третьем, четвертом или пятом слоге; ритмико-синтаксический профиль, представленный в этой строке Ренара, современное ему стиховедение квалифицировало как характерный для итальянских и испанских девятисложников и невозможный для французских [Tisseur 1893, 119–121].
[Закрыть], однако звуковая и акцентологическая структура строки обнаруживает ритмические эффекты, которые в ином контексте вполне могли бы конституировать стихотворный текст[57]57
В русском переводе Агнессы Коган эти эффекты сглажены:
СВЕТЛЯЧОК
Это капля луны в траве.[Ренар 2003, 82]
[Закрыть].
Настаивая, как это делаем мы, на отчетливости границы между прозой и поэзией, следует особо отметить существование ряда разновидностей литературных текстов, для которых эта дихотомия, по-видимому, не имеет определяющего значения. Таковы, например, палиндромы, для которых предписанная последовательность букв (симметричная относительно середины текста или его участка) выступает, в терминах М.Ю. Лотмана и С.А. Шахвердова, вторичным кодом [Лотман, Шахвердов 1973, 174][58]58
Здесь будет уместно заметить, что конкретная трактовка М.Ю. Лотманом поэзии как вторичного кода достаточно небезусловна, однако для нас принципиальное значение имеет сама интерпретация разнохарактерных литературных текстов в этих категориях.
[Закрыть], ритмическая же структура, присущая поэзии, может возникать как код третьего порядка. Как отмечают те же авторы, дешифровка трех кодов в одном сообщении представляет серьезные трудности, читателю приходится выбирать приоритет; мы можем предположить, что ритмический код, гораздо более привычный, считывается легче, чем экзотичный палиндромический, однако при эксплицированности установки и сигнала для палиндромичности (а палиндромы практически всегда публикуются в специализированных изданиях и т. п.) считывание палиндромной структуры получает приоритет перед считыванием ритмической. Вследствие этого можно говорить о том, что палиндром, даже метрический, – это, по меньшей мере, не совсем поэзия. Теоретик палиндрома А.В. Бубнов замечал по этому поводу, что «палиндром ‹…› может сочетаться как со стихами, так и с прозой; или принимать их личину» (курсив наш, – Д.К.) [Бубнов 2000, 16]; на целесообразность выведения палиндрома за пределы дихотомии «стих vs. проза» указывал и Д.М. Давыдов [Давыдов 2004, 122]. В полной мере относится это и к однострочным палиндромам – включая те из них, в которых стихотворная структура опознаётся без труда:
Тарту дорог как город утрат[59]59
Авторство этого монопалиндрома оспаривается: составителем авторитетной «Антологии русского палиндрома XX века» В.Н. Рыбинским принят приоритет Ильи Фонякова [АРП 2000, 159], тогда как А.В. Бубнов указывает на приоритет Владимира Гершуни [Бубнов 2000, 41]. Для нескольких наиболее известных русских монопалиндромов эта ситуация типична.
[Закрыть]
То же можно сказать про развивающиеся в самое последнее время смежные с палиндромом формы, также основанные на жесткой регламентации буквенного или звукового состава текста (в последнее время для такого рода форм утверждаются обобщающие названия «комбинаторная поэзия» [Федин 2002; Чудасов 2009] и «литература формальных ограничений» [Бонч-Осмоловская 2009][60]60
Оба термина не слишком удачны, поскольку и формальные ограничения, и, тем более, комбинаторный принцип являются, прежде всего, непременными свойствами стиха.
[Закрыть]), – прежде всего, речь идет про творческую практику Дмитрия Авалиани, разрабатывавшего целый ряд таких экспериментальных форм, нередко реализовывавшихся в однострочном тексте, – например, анаграммы (пары слов или словосочетаний идентичного буквенного состава):
Апельсином опламенись!
Симметрия – имя смерти.
Демократия моет дикаря.
[Авалиани 2011, 36, 37, 42]
– или омограммы (пары словосочетаний идентичной буквенной последовательности, различающихся только расположением словоразделов):
Однако зачастую в ту же обобщающую категорию «комбинаторной поэзии» попадают типы текста с менее жесткой формализацией – например, так называемые «заикалочки» (дисфемиграммы, фонетические репризы), требующие обязательного многократного повтора группы звуков в середине строки:
Нет банана на нанайца.
Цитата та татарская.
Николай Байтов[Чудасов 2010, 38]
– и эти тексты затруднительно квалифицировать как тексты тройного кодирования, поскольку в них всегда присутствует не регламентированный дополнительным кодом словесный (буквенный, звуковой) остаток[62]62
И.В. Чудасов справедливо отмечает сходство этой игровой формы с известным моностихом Даниила Хармса [Чудасов 2010, 38] (см. стр. 175).
[Закрыть].
К текстам тройного кодирования относятся и стихотворные тексты, оформленные визуальными средствами, отличными от конвенциональных средств поэтической (и, тем паче, прозаической) графики. Наиболее древней и распространенной разновидностью этой категории текстов являются фигурные стихи, т. е. стихотворные тексты, визуальная форма которых отлична от канонической и эстетически значима. Среди текстов этого рода встречаются и такие, которые в отсутствие визуальной составляющей были бы с полным основанием отнесены к моностихам. Собственно, есть даже прецедент такого «вычитания» визуальной составляющей: Карен Джангиров напечатал в «Антологии русского верлибра» моностих Андрея Кирсанова:
гордый как путь
[АРВ 1991, 250]
– записанный в оригинале в виде положенного набок вопросительного знака[63]63
Аутентичное написание данного текста – в авторском сборнике Кирсанова [Кирсанов 1993, 63]; здесь же еще несколько «фигурных моностихов».
[Закрыть]. Наиболее известные эксперименты в этой форме принадлежат в новейшей русской традиции Андрею Вознесенскому (прежде всего, текст «Чайка плавки Бога», записанный в форме силуэта чайки [Вознесенский 1991, 232]; против причисления этого текста к моностихам см. [Кормилов 1995, 80]).
Другой разновидностью текстов с третьим визуальным кодом являются тексты, включающие дополнительные визуальные элементы, т. е. собственно визуальная поэзия. Здесь также известны сочинения с минималистской тенденцией, тяготеющие (если вынести за скобки визуальный элемент) к моностиху. Помимо уже упоминавшихся хорошо известных произведений Всеволода Некрасова и Ры Никоновой яркими примерами могут служить миниатюры Германа Лукомникова (времен его работы под псевдонимом Бонифаций):
дыр о чка
Там темно.
– в первом тексте буква «о» выколота насквозь, во втором зачернено очко буквы «а». И эти тексты моностихами в строгом смысле слова, на наш взгляд, не являются[64]64
Грань между визуальностью как самостоятельным кодом и визуальными эффектами стихового кода – тонкая, но вполне поддающаяся определению, и нельзя не согласиться с С.В. Сигеем, что «необходимо строгое различение именно визуальной поэзии и визуализации стиха» [Сигей 1991, 10]. Осторожно предположим, что воспользоваться при этом следует тем же принципом, который обсуждался выше для палиндрома: в произведениях визуальной поэзии визуальный код нейтрализует различие между стихом и прозой.
[Закрыть] – не говоря уже о более радикальных жестах, позиционированных как визуальная поэзия, вроде известного «Моностиха» Бернара Вене (Bernar Venet; род. 1941), представляющего собой сложную математическую формулу [Allan 2002, 179].
По другую сторону от моностиха (по отношению к текстам, в которых к стихотворной структуре добавлено нечто ее девальвирующее) находятся тексты, которым этой структуры недостает, – «удетероны», поскольку мы условились пользоваться термином В.П. Бурича для однословных текстов принципиально неопределимого статуса (следуя, по сути, за Ю.Б. Орлицким, предложившим расширительно использовать термин «удетерон» для «минимальных текстов, не поддающихся корректной интерпретации как стих или проза» [Орлицкий 2002, 32], – с той разницей, что Орлицкий включает в число таких текстов моностих, а мы нет).
Число однословных текстов в литературе новейшего времени не так незначительно, как можно было бы подумать[65]65
И уж никак не подтверждается предположение Э.М. Береговской о том, что «случаи, когда текст сводится к одному слову, возможны только в рамках визуальной поэзии» [Береговская 2002, 129].
[Закрыть]: так, в 1967 г. шотландский поэт Йен Хэмилтон Финлей (Ian Hamilton Finlay; 1925–2006) посвятил «однословным стихотворениям» специальный выпуск своего журнала «Poor.Old.Tired.Horse», в США в 1972–1975 гг. вышли 13 выпусков журнала однословной поэзии «Matchbook» (дословно «спичечный коробок»: листы миниатюрного формата с текстом и именем автора вкладывались в спичечные коробки), над которым работал поэт и перформер Дэйв Морайс (Dave Morice; род. 1946), использовавший для этого проекта литературную маску поэтессы Джойс Холланд (Joyce Holland).
Любопытно, что в этих двух изданиях преобладают тексты совершенно разного типа. Авторы Старого Света, редуцируя собственно текст к единственному слову, сталкивают его с названием, кратким или развернутым (см. также прим. 458 на стр. 322):
Апрель
проявление
Валери Джиллис
Якорь облака
ласточка
Йен Хэмилтон Финлей[Atoms 2000, 163, 164]
К этому типу принадлежит и самый, вероятно, известный однословный текст в мировой литературе, написанный еще в 1924 г.:
Pourquoi J'Écris?
Parce que…
Почему я пишу?
Потому…
Блез СандрарПер. с франц. Михаила Кудинова[Сандрар 1974, 129]
– здесь, однако, название и текст связаны и риторической конструкцией, и совокупным метром (полустишие александрийского стиха передано по-русски через трехстопный анапест); Б.П. Иванюк в связи с этим квалифицирует стихотворение Сандрара как моностих [Иванюк 2008, 128].
Американская традиция однословных текстов строится на других основаниях. Часть авторов журнала «Matchbook» обращалась к технике found poetry, «присваивая», публикуя за своей подписью, разные более или менее экзотические слова и фокусируя внимание на их самоценной выразительности:
апокатастасис
Аллен Гинзберг
ацетилхолинэстераза
Джон Батки
Другие конструировали свои собственные слова с более или менее прозрачным смыслом – по большей части сложного состава, хорошо встраивающиеся в один ряд с вышеприведенными:
психазм
Том Вейтч
метафория
Розмари Уолдроп
армадилдо
Билл Заватски
тиктактильный
Айра Штейнгрут
Близкий подход выработал одновременно Рон Силлиман (Ron Silliman; род. 1946), включивший в свою книгу стихов «Nox» [Silliman 1974] полтора десятка однословных текстов, образованных посредством словесных деформаций, особенно усечений:
ганизатор
ефть
Наиболее известный однословный текст в американской поэзии, написанный Арамом Сарояном (Aram Saroyan; род. 1943) в 1965 году и вызвавший политический скандал четырьмя годами позже[66]66
Текст вошел в состав изданной в 1969 году антологии современной американской литературы, составленной известным литературтрегером Джорджем Плимптоном, и его автор, как и все другие участники антологии, получил от Национального фонда поддержки искусств гонорар в 500 долларов. Группа политиков инициировала в связи с этим слушания в Конгрессе США о разбазаривании Фондом государственных денег, Плимптон, в свою очередь, отправился в избирательный округ лидера этой группы агитировать против его избрания на новый срок, и т. д. [Daly 2007]. Буря возмущения в провинциальных американских газетах не может не вызвать ассоциаций со шквальной реакцией российской прессы на моностих Валерия Брюсова (см. стр. 125–128), вплоть до негодующих читателей, заявляющих о том, что придуманное ими ответное однословное стихотворение «darark» ничуть не хуже оплаченного из кармана налогоплательщиков шедевра [Fowler 1970, 63].
[Закрыть], несколько отклоняется от этой линии:
lighght
– здесь семантизируется особенность английской орфографии с ее непроизносимыми буквами: по мнению Б. Граммена, «Сароян ставит нас лицом к лицу с невыразимостью (ineffability) света, таинственной сущности, чьи составляющие некоторым образом здесь и при этом отсутствуют, подобно тому как “ghgh” присутствует (и неуловимо мерцает), но не произносится в слове, ‹…› и односложное слово намекает на беззвучное и невесомое распространение света, одно “gh” за другим» [Grumman 1997]. Именно эта линия, названная Грамменом «инфравербальной поэзией» (см. также [Kostelanetz 2001, 304])[67]67
Далее Граммен подразделяет ее еще на несколько разрядов (ср. прим. 359 на стр. 232 и стр. 352), из которых текст Сарояна относится к самой сложной разновидности – «азбуконцептуальной» (alphaconceptual).
[Закрыть], получила наиболее обширное развитие в однословной литературе рубежа XX–XXI веков, главный импульс которой был задан поэтом Джефом Хатом (Geof Huth; род. 1960), экспериментировавшим с этой формой с 1987 года и предложившим для нее термин «псолэомвы» (pwoermds). Хат составил и выпустил сперва антологию «&²» (2004), а затем ряд других сборников однословной литературы, с 2008 года каждый апрель в Интернете проводится Международный месячник сочинения псолэомв (http://napwowrimo.blogspot.ca/). И сам Хат (например, [Huth 1993, 75]), и пишущие о его текстах и проекте критики (например, [Tabios 2010]) отмечают в псолэомвах близость к визуальной поэзии – Э. Тэйбиос, например, обращает внимание на то, что в тексте
eithier
добавленная в слово «either» (тот и другой) буква i создает зеркальное отражение ei|ie, иконически выражающее его значение; еще очевиднее этот эффект в другом тексте Хата, где замена i на j мотивирована формой графемы, напоминающей о рыболовном крючке:
fjshjng
Во всех рассмотренных случаях характеризующая поэзию структура в тексте обнаружена быть не может – в остальном же случаи эти весьма различны, и дальнейшее исследование типологии и эстетического функционирования однословных текстов, постепенно выделяющихся в особую разновидность литературы, представляет существенный интерес. Среди прочего следует отметить, что на формирующихся границах этой разновидности литературы с гораздо более традиционными поэзией и прозой, в свою очередь, существуют немногочисленные, но любопытные с теоретической точки зрения тексты, та или иная квалификация которых дополнительно затруднена. В частности, при отграничении однословных текстов от неоднословных (и, следовательно, поэтических либо прозаических) затруднение представляют тексты, в которых под сомнением само количество слов[68]68
См. также обсуждение маргинальных в этом отношении текстов Александра Галкина и Василия Каменского на стр. 150–154 – особенно прим. 246.
[Закрыть], – таковы миниатюры, построенные на трансформации единственного слова, и по меньшей мере одна их разновидность – основанное на перетекании одного слова в другое «кругозвучие» (по [Бирюков и др. 1998]) – обладает несомненными признаками Ритма:
АлтайАлтайалтаялтаялтаЯлта
Бонифаций (Герман Лукомников)
Другой класс явлений, требующий сопоставления с моностихом и отграничения от него, – это строки стиховой структуры, не являющиеся самостоятельными произведениями. Простейший случай здесь – одностишие, то есть однострочная строфа или, в другой терминологии, «изолированный стих» в составе целостного стихотворного произведения. Стиховедческая наука с большой неохотой признавала на протяжении XX века правомерность выделения однострочной строфы – не в последнюю очередь потому, что такая строфа может существовать только на фоне других строф большего объема, представленных в том же тексте (впрочем, Ж. – Л. Аруи указывает на стихотворение Поля Элюара «Комендантский час»[69]69
Couvre-feu, «Затемнение» в русском переводе Мориса Ваксмахера.
[Закрыть], вроде бы написанное однострочной строфой: в контексте авторской книги увеличенный интерлиньяж одного текста на фоне стандартного интерлиньяжа остальных не может не прочитываться как структурно значимый [Aroui 1994, 109–110]; встречаются подобные соображения и у других исследователей[70]70
Некоторые из них выглядят небесспорными: так, при квалификации как написанного однострочной строфой стихотворения Володимира Свидзинского «Дочка Билитиды» В.А. Соколова апеллирует только к графике текста (в собрании сочинений, составитель которого заявил о сохранении графических особенностей оригинала) [Соколова 2010, 184], но совершенно не учитывает его метрику (между тем стихотворение написано элегическим дистихом).
[Закрыть]). Между тем П. Павличич, исследовавший этот случай наиболее подробно [Pavličić 1993, 9–56], отмечает, что «изолированный стих имеет особую силу воздействия на ритм стихотворения, на организацию его композиции и на концентрацию его смысла», так как в малом объеме сосредотачивает энергию, эквивалентную энергии целой строфы [цит. по: Кормилов 1991а, 271][71]71
Стремление придать еще больший вес изолированному стиху приводит некоторых авторов к специальным приемам: так, Мария Каменкович часто отделяет его звездочками от остального текста [Каменкович 1996] (в большинстве случаев этот стих оказывается композиционно маркированным – первым в стихотворении либо последним; ср. чуть ниже соображения В.С. Баевского).
[Закрыть]. Нетрудно увидеть, как такое явление готовит почву моностиху в сознании автора, читателя, исследователя[72]72
В новейшее время справедливо и обратное: так, Р. Гилберт, констатируя растущее количество публикаций с удвоенным интерлиньяжем в американской поэзии 1990-х гг., отмечает, что образцом (underlying paradigm) для такого графического решения выступают моностих и (существующая в тексте на фоне строф другого объема) однострочная строфа [Gilbert 2001, 245]; об однострочной строфе в своих стихах как следствии пристального внимания к моностиху пишет американская поэтесса Кимико Хан [Hahn 2011, 116].
[Закрыть]. Интерес к выразительным возможностям изолированного стиха породил, между прочим, такое любопытное явление, как «горизонтальная поэзия» Леонида Виноградова: рифмованные стихотворные миниатюры, в которых каждый стих занимает подчеркнуто изолированное положение – расположен на отдельной странице [Виноградов 1998] (подробнее см. стр. 207–208 и прим. 306 на стр. 190).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































