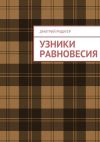Текст книги "Этот вечер, это утро. Рассказы"

Автор книги: Дмитрий Лагутин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
– Возьми другую, их там море, – добавила она.
Но другой такой не было, и я долго еще горевал о пропаже.
Рыжий, весь в веснушках, Кирилл по прозвищу Винтик, живший через улицу, где-то раздобыл книжку про север, и мое внимание – как и внимание всех окрестных мальчишек – обратилось к ней. Новая драгоценность вытеснила из памяти горечь о старой.
В книге было множество иллюстраций, куда более интересных, нежели текст, их сопровождающий. Столбики мелкого шрифта рябили цифрами и безжизненным научным языком сообщали какие-то статистические данные, которые нам были даром не нужны. Но вот художник постарался на славу – хвойные леса, заснеженные поля, фантастические виды неба, собаки, несущие за собой упряжку – со страниц буквально веяло холодом. На одном из разворотов была изображена извилистая река, испещренная порогами, вьющаяся между серыми скалистыми берегами. Над рекой нависал лес, по воде бежали хлопья белой пены. В самом центре чернела крохотная узенькая лодчонка – в ней угадывались две фигурки с веслами.
Когда – в очередной приезд дяди – мы показали ему реку, он махнул рукой и сказал:
– Это пустяк, а не река. Бывают и посерьезнее.
Потом поскрипел страницами, посмотрел на обложку.
– А что это у вас за трофей? – спросил он. – Где взяли?
Рыжий Винтик забормотал что-то про Москву.
– Хорошая книга, – протянул дядя, рассматривая иллюстрации. – Только, – ткнул он пальцем в текст, – сухая, ненастоящая.
Вздохнул.
– Север, братцы, это вам не циферки эти, не справочки… это…
Он раскинул руки в стороны, словно обхватывал что-то колоссальное, но нужного слова подобрать не смог.
– А вы на собаках катались? – спросил робко Винтик.
Дядя посмотрел на него обиженно.
– Без собак, брат, никуда.
Сделал паузу и добавил.
– А лодки, бывает, запрягаем осетрами.
Мы закивали уважительно, но не поверили. Если мне не изменяет память, это был единственный раз, когда мы усомнились в дядиных словах.
Рыжий Винтик после университета несколько лет провел на севере – инженером на станции. Но не прижился, не смог. Куда ему.
Я годами хранил в себе чудесную мечту – когда-нибудь да переехать В какой-то момент мне показалось, что мечте лучше оставаться мечтой, и я оставил всякие рефлексии на эту тему. туда.
Я все ждал, что дядя позовет меня к себе – я взрослел, но смотрел на него с тем же восхищением. Пару раз намекал на то, что хотел бы уехать, он смотрел задумчиво и обещал поговорить с отцом. И все, никакого результата. Завертелось с учебой, подвернулась недурная работа – и я отвернулся от севера. Потом появилась семья, и было уже совсем не до того. Холодные дали не ушли из моего сердца, но просочились в какую-то сокровенную его глубину, – не исчезая из виду, но и не притягивая к себе особенного внимания.
За последние несколько лет я виделся с дядей дважды: на похоронах отца и – не так давно – в его московской квартире. На похоронах дядя был молчалив и угрюм. На бледное, сухое лицо отца смотрел с каким-то недоумением, растерянно. Подошел к гробу, постоял молча, коснулся холодной руки, что-то пробормотал из-за седой бороды. Отошел, ссутулившись.
Перед отъездом – теперь я провожал его на поезд – мы, стоя на перроне, разговорились. Было зябко, свистел ветер, и казалось, что вот-вот пойдет дождь. Вспомнили былые времена, домик на дереве, кузнеца Илью. Дядя глухо кашлял, голос звучал суше – он стремительно старел. Он говорил, а я смотрел в его глаза – теперь взгляд почти целиком состоял из того непередаваемого, что так влекло меня в той фотографии. неопределимого,
– Так-то, брат, – закончил он фразу, начало которой я не слышал.
В этот момент к нам подполз поезд.
Обнялись, пожали руки, дядя, легко подхватив тюки, зашагал к вагону, и после короткой заминки исчез.
Вторая встреча произошла в Москве. Дядя уже около года жил в столице – здоровье не позволяло продолжать работу на севере. Ему выделили уютную двушку, вменили из уважения какие-то обязанности, которые можно выполнять дистанционно.
Я на тот момент давно уже обитал за границей – далеко от Москвы. А тут оказался проездом совсем рядом, выкроил день и нагрянул к дяде в гости.
Он состарился, но выглядел весьма крепким. Волосы стали белыми как лунь, веки отяжелели, он плохо слышал. Увидев меня на пороге, чуть не заплакал от радости, обнял, чуть не сломав мне спину, проводил в кухню. В квартире царил идеальный порядок, по стенам висели картины, в каждой комнате тикали громко часы. Дядя засуетился, зашаркал по кухне, заваривая чай, накрывая стол. Я отметил, как много в нем стало стариковского, и загрустил.
– А я тут сижу, как сыч, – заявил он. – Тоска смертная.
Засвистел чайник, дядя вывалил в плошку горсть баранок.
Я вспомнил, что оставил телефон в пальто, извинился и вышел в прихожую. Проходя мимо открытой двери, заглянул внутрь. Диванчик, шкаф, письменный стол. На столе ровные стопочки бумаг, часы в форме башенки и фотография в рамке.
Я не поверил своим глазам. Это было то самое, утерянное мое сокровище – два мальчика смотрят в объектив, один с вызовом, другой – испуганно. В одно мгновение на меня нахлынуло давно забытое – наш дом, клен, отец, невероятные истории, север.
Чудесный, далекий север.
– Дядя, – сказал я, вернувшись в кухню, – откуда у Вас та фотография – что на столе стоит. Где Вы с отцом.
Старик провел широкой ладонью по бороде.
– Сережа подарил, – сказал он.
Я не сразу понял, о каком Сереже речь. Отца никто, кроме матери, так не звал, да и от нее такое обращение можно было услышать редко.
Выходит, это отец взял тогда карточку из альбома. Почему не сказал?
Дядя принялся дуть на чай, от которого бежали струйки пара.
Разговорились. Обсудили нынешнее положение, родню, работу. В какой-то момент вернулись к воспоминаниям. Дядя говорил с жаром, увлеченно – словно соскучившись по общению.
А я смотрел в его глаза и не мог разобрать, где повседневное, а где – , таинственное? Все слилось, смешалось. Я в одно и то же время видел далекую, неуловимую загадку, и простые переживания одинокого старика. оно
В конце концов, дядя принялся говорить о севере. И не было отца, чтобы вошел и прервал его, махнув рукой. Но это и не потребовалось бы – очень скоро дядя стал запинаться, встряхивать головой, и я понял, что он не может – или не желает – высказать всего, что скопилось в душе; понял, что ему тесно здесь, что он тоскует – по настоящей своей жизни, по прошлому, по молодости. По нам.
– Дядя, – перебил я его. – А переезжайте к нам. Сын уже учится – живет в общежитии, дом у нас просторный, двор есть.
Дядя замолчал. Глаза его заблуждали.
– Дров Вам навезем, – пошутил я, – колоть будете.
Дядя нахмурился, поджал губы. Потом лицо его просветлело, он улыбнулся.
– Спасибо, братец. Подумаю.
И мы продолжили разговор.
За окном темнело, шумели машины. В домах напротив теплились огоньки окон. Дядя, опершись о стол, встал, задернул занавески, зажег лампу.
Я рассказал о том, как представлял себе север, о волках, вьюгах и вагончике. Дядя смеялся, качал головой, но в какой-то момент задумался и притих.
Я замолчал вслед за ним. Несколько минут сидели в тишине, а затем я спросил снова:
– Зачем Вы приезжали? Из года в год. Ведь мы все видели, что Вам неуютно здесь. Зачем же было все это?
Дядя потер переносицу. Посмотрел на меня своим удивительным взглядом. Пожал плечами.
И ничего не ответил.
Когда мы встали из-за стола, был глубокая ночь. Дядя уговорил меня переночевать у него. Постелил на диванчике в комнате с фотографией, сам ушел в соседнюю.
Я влез под колючий плед и сжался на коротком жестком диванчике. На столе тикали часы, в комнате было темно. В щель между шторами я видел черное небо и точки звезд. Растревоженные воспоминания не давали спать. Образы мелькали перед глазами, в груди щемило. Я вспомнил отца и впервые за долгое время заплакал.
За стенкой раздался какой-то шум – как будто дядя ходил по комнате. Через несколько минут воцарилась тишина.
Я не мог спать. Дернул шнурок торшера, сел за стол.
И долго, очень долго – мне казалось, целую вечность, – сидел и смотрел на фото. О чем я думал, сейчас не могу сказать наверняка. Может быть, все вспоминал, может быть, просто смотрел, может быть – пытался разгадать-таки дядин взгляд. И еще мне кажется, что я искал в глазах отца. Нашел ли? это
Когда черная полоска, соединяющая шторы, стала светлеть, я погасил свет, рухнул на диванчик и уснул.
Мне снилось, что все мы: отец, мать, рыжий Винтик, ватага местной ребятни, моя жена, мои дети, – все мы ютимся в тесном вагончике посреди ледяной пустыни. И только дяди с нами нет. Я хожу от окошка к окошку, тру запотевшее стекло ладонью и вглядываюсь в ночь, пытаясь высмотреть знакомую фигуру, но пурга белой стеной встает передо мной. А где-то далеко слышится звон – бо-ом, бо-ом. Это кузнец бьет по своей наковальне. Хоть бы дядя пошел на звук – и переждал бурю в кузнице.
Я открыл глаза, но еще долю секунды слышал угасающее эхо далекого звона. Было светло. На кухне присвистывал чайник.
Перед уходом я напомнил дяде о своем предложении. Он пожал мне руку и сказал, что предложение весьма заманчиво и что он хорошенько его обдумает.
Уже на пороге я вдруг спохватился и, смущаясь, спросил, нельзя ли мне взять на память – или хотя бы на время – карточку в рамке. Дядя вдруг как-то замялся, посмотрел растерянно.
– Да-да, конечно, – пробормотал он и зашаркал в комнату.
Я видел, как он застыл у стола, потом медленно взял фотографию, поцеловал уголок, и крепко держа обеими руками, вышел ко мне.
В эту секунду я получил ответ на вопрос, мучивший меня все эти годы.
– Простите меня, – сипло произнес я. – Простите. Пусть… останется у Вас.
Дядя смотрел на меня, неловко перебирая пальцами по рамке. И вдруг я понял, что вот сейчас его взгляд – тот самый, взгляд мальчика, прижавшегося к старшему. Горечь подступила к горлу, я обнял дядю еще раз и вышел.
Когда за спиной хлопнула дверь подъезда, я обернулся и задрал голову. Дядя стоял у окна и махал рукой. У моих ног приземлился окурок, спланировавший с одного из балконов.
Спустя три недели я нашел в почтовом ящике письмо. Дядя просил прощения за отказ переезжать ко мне – и сообщал, что возвращается на север.
«Здоровье… а что с него толку, коли сижу в этой коробке – и тоска заедает. Не могу больше, не выдержу».
Почерк плясал. Письмо было длинное, искреннее. Выстраданное.
Кроме него в конверте ничего не было.
***
ИДА
Лидия Егоровна, или, как звали ее правнучки, Ида, в очередной раз проснулась от холода – соскользнувшее одеяло лежало на полу. Она, не открывая глаз, повернулась, свесила руку, и втащила его обратно. Повела плечами, устраиваясь поудобнее. Холодное и неприятное, точно сырое, одеяло обожгло щеку.
В щель между шторами полз бледно-серый свет, спать не хотелось.
Иде шел восемьдесят пятый год. Несколько лет назад дочь привезла ее к себе, в Петербург. Из квартиры Ида почти не выходила – климат не баловал, а здоровье в какой-то момент ухудшилось. Да и желания особенного не было – город уже не удивлял, а родным так и не стал.
Где-то зазвонил телефон. По коридору простучали шаги, и Ида услышала густой бас Сережи – зятя. Постукивали несмело настенные часы. Четверть девятого.
Угловатые, громоздкие мысли толпились в Идиной голове, а среди них в самом центре ворочалась неясная тревога. Причиной тревоги был странный, неожиданный сон – непохожий на те сны, которые Ида привыкла видеть.
Обычно ей снились разговоры с домочадцами, ни слова из которых запомнить не удавалось. Или ее комната, залитая серым светом. Или стол с клетчатой скатертью. Снились бесконечные коридоры, пыльные тряпки, белый потолок и собственные руки. Сниться могло многое, но сны казались какими-то вялыми, тусклыми и вымывались из сознания через минуту после пробуждения. В этот раз все было иначе.
Не к месту приснилась Ирка Калачева, школьная приятельница, озорница и хохотушка, проучившаяся с Идой два года, а затем увезенная родителями то ли в Америку, то ли в Австралию. Во сне Ирка, на вид лет сорока, показывала Иде свою квартиру – пустую, с высоченными потолками. Ни мебели, ни ковров, ни даже картин – бледные обои с невыразительным рисунком и скрипящий под ногами паркет.
– Ирка, – спросила Ида и вздрогнула от зазвеневшего эха, – а мебель где?
Ирка подняла брови:
– Мебель?
И вышла из комнаты.
Ида шагнула к окну – напротив громоздились небоскребы. Верхние этажи терялись в облаках. Сотни черных окон равнодушно смотрели на Иду.
Зашумели шаги, вернулась Ирка с двумя платьями в руках.
– Ида, – сказала она, – так какое надеть?
Ида прищурилась – все было как в тумане.
– Ну что ты щуришься? – всплеснула руками Ирка и скривила губы. – Слушай, душно как.
Она проскользила к окну и дернула ручку. В комнату хлынул ледяной воздух – Ида вздрогнула и проснулась.
Она лежала в кровати, тянула одеяло к подбородку, смотрела на щель между шторами, прокручивала в мыслях странный сон. Ирку она не видела со школьных лет и в памяти она так и осталась тощей, рыжей и бледной; какой она выросла, Ида не знала и знать не могла. Ида силилась связать какие-то нити, сложить какие-то образы, но чем сильнее она напрягалась, тем тоньше становились черты и тем дальше уплывало от нее Иркино лицо; мысли дрожали и тонули в мягком сыром тумане.
Из-за стены раздался звон – на кухне что-то упало. Ида медленно села, потерла лицо сухими ладонями. Опираясь о тумбочку, встала и принялась одеваться.
Когда она вошла на кухню, завтрак был уже окончен. Сережа допивал кофе, листая журнал, Марина, Идина дочь, мыла посуду. С подоконника сыпался непрекращающийся бубнеж радио.
– Привет, мам, – обернувшись, окликнула Иду Марина.
– Доброе утро, – поздоровался Сережа.
Ида улыбнулась, кивнула и села.
– Как спалось? – поинтересовалась Марина сквозь плеск воды.
Сережа вдруг заинтересованно вскинул голову и нахмурился; потом протянул руку под занавеску – и радио забубнело громче.
– Ничего, – пожала плечами Ида.
Перед ней возникла чашка с бледным, желтоватым чаем и тарелка с кашей. Марина зазвенела ящиками и вручила матери ложку.
– Горячая, ешь аккуратно, – сообщила она.
Ида, зачерпнула из тарелки, поднесла к губам, подула.
– А у нас, – заговорила Марина, – старая песня. Клавдия опять прикармливает голубей.
Ида пожала плечами и закашлялась – горло обожгло.
– Мама. Говорила же – горячо.
Сережа покачал головой. Затем отложил журнал, встал, потянулся.
– Я все, уехал.
И вышел.
Марина распахнула холодильник, заглянула в него и крикнула вслед мужу:
– Сережа! Купи рыбы!
– Хорошо! – отозвался глухой голос из прихожей, потом послышалась какая-то возня, бренчание ключей. Через несколько секунд громыхнула дверь.
Марина вернулась к раковине, вновь зашумела вода.
– Я ей говорю, – продолжила она, – Ваши голуби мне житья не дают, а она – можешь ты себе представить? – руками разводит, моргает, а сказать ничего не может.
Она притихла на минуту, – и вдруг резко обернулась.
– Слушай, мам, а она не немая?
Ида опустила поднесенную ко рту чашку и пожала плечами.
Двумя этажами выше жила таинственная Клавдия – по-видимому, пенсионерка – щедро снабжавшая пшеном голубей, которые с готовностью слетались к ее подоконнику со всей округи. Эта Клавдия, которую Ида ни разу в жизни не видела, была для Марины с ее стремлением к чистоте постоянным раздражителем: выступ, к которому примыкало окно их кухни, находился под постоянным гнетом птиц; смотреть на него без слез было невозможно.
Какое-то время молча занимались своими делами – Марина протирала столешницы, расставляла посуду, Ида тянула чай и мяла во рту остывшую кашу. Потом зазвонил телефон и Марина, вытирая ладони о фартук, двинулась в коридор.
Ида осталась одна.
– … вы даже представить себе не можете, в каких условиях большинство из них живет, – бормотало радио проникновенно, – в нравственном смысле они недалеко ушли от крепостных, которых в позапрошлом веке было не зазорно выпороть за малейшую провинность. И все молчат, и все соглашаются. И никто ничего не делает. Ничего не меняется, верьте мне, ничего. Эти вот на предпоказы ходят, театральные сезоны открывают, награды получают, а между тем мирятся с катастрофической несправедливостью и унижением. Можно бы, кажется, понимать…
Иду стало клонить в сон. Она подтянула к себе Сережин журнал, щурясь, всмотрелась в обложку, осторожно заглянула внутрь, но ничего интересного не нашла – текст серыми лентами полз куда-то вбок, изображения плыли и сливались.
– … не хватает им, не хватает, понимаете ли, решимости. Их, видите ли, устраивает такая жизнь. Но разве может человека устраивать ? А те, кого якобы не устраивает… эти еще хуже, потому что на каждом углу кричат о своей позиции, но мизинцем ради нее пошевелить не хотят. Почему, ответьте, почему они ничего не делают, а только мелят языком без устали? Порой смотришь в их лица, и такое зло разбирает… это
На подоконник приземлился голубь. Он прошествовал от одного края к другому, внимательно посмотрел на Иду, повертел шеей и застыл, точно задумавшись.
– А ну кыш! – закричала на него Марина, появившаяся на пороге. Она подскочила к окну и замахнулась на птицу полотенцем. Голубь встрепенулся и ухнул куда-то вниз.
Ида, уже провалившаяся в мутную дремоту, вздрогнула и опрокинула на скатерть чашку с остатками чая. Марина всплеснула руками.
– Мамочка, милая, иди к себе, – она помогла Иде подняться и проводила в коридор, поддерживая под локоть.
Ида засеменила вдоль стены.
У своей комнаты она остановилась и позвала:
– Марина!
Из кухни выглянула дочь с всклокоченными волосами.
– А дети? Сегодня будут? – спросила Ида.
– Пока не знаю, – ответила Марина и скрылась.
Послышался звон и плеск. Ида вошла к себе и закрылась.
В комнате царил полумрак – шторы были все еще задернуты. Через тонкую щель на пол сыпался свет. Ида подошла к окну, растянула в стороны тяжелую ткань, привычно опустилась на стоящую тут же табуретку и, опершись локтем о подоконник, застыла.
Над городом висели угрюмые тучи – казалось, будто они в любой момент могут сорваться со своих гвоздей и рухнуть вниз. Дома смотрели будто из-под опущенных век. По проспекту в обе стороны сновали машины, тянулись трамваи. Монотонное скольжение туда-сюда влекло за собой, окутывало, укачивало. Ида искала точку, зацепившись за которую, можно будет растянуть время бодрствования – плыла по черепицам крыш, по шпилям, по вихрастой лепнине, аркам, колоннам, но ничто не занимало ее внимания, все сливалось в сплошное серое полотнище и звало в объятья – мягкие и душные. Ида подняла глаза к небу и смотрела, как над домом кружит стайка голубей – серых на сером. Танец, сперва показавшийся увлекательным, быстро наскучил и превратился в бессмысленное мельтешение. Ида потерла глаза, пригладила тонкую прядь, соскользнувшую на лоб. Комната таяла в тишине, где-то далеко по квартире порхала Марина, раскладывая, перебирая, выметая и ополаскивая, как сквозь вату доносилось глухое гудение стиральной машины. Медленно, со вздохами тикали на стене часы. Ида не заметила, как голова ее склонилась на грудь, и все соскользнуло в серую мглу.
Ей снилось ведро, до краев наполненное ледяной водой. По бортикам, в тех местах, где краска облупилась или была стесана, чернели прогалины ржавчины; ручка дугой выгибалась над водой, увенчанная деревянным брусочком – чтобы удобнее было держать. Брусочек – покрыт трещинками и вздут. По ручке, как по мосту, неспешно ползла крохотная зеленая гусеница – тоненькое тельце то сжималось, то разжималось. Вот гусеница подобралась к брусочку, ткнулась в него раз-другой, прижалась, приподнялась – и упала в воду.
Ида открыла глаза, повернулась к окну.
На той стороне проспекта, у входа в парк, толпились люди. Ида прищурилась, прильнула к стеклу.
На тротуаре лицом вверх лежал человек, рядом с головой чернело какое-то пятнышко – шляпа. Вокруг толпились прохожие и то наклонялись к лежащему, то принимались говорить друг с другом. Кто-то держал у уха телефон. Вдруг человек пошевелился, развел руки в стороны, неловко повернулся, уперся в землю и, поджимая длинные худые ноги, нескладно поднялся, прижимая ладонь к груди. Ему подали шляпу и какую-то палку, валяющуюся тут же. Человек, не отряхивая, водрузил шляпу на голову, крепко схватился за палку, оказавшуюся тростью, и, кивая окружающим, двинулся прочь. Прохожие некоторое время стояли на месте, глядя ему вслед, потом начали расходиться.
На стекле засеребрились какие-то точки – начинался дождь. Из Марининой комнаты послышался равномерный стук клавиатуры.
В час обедали. Марина была чем-то расстроена и почти ничего не говорила, поджимала губы, хмурилась. Вышла из-за стола, не доев. Ида цедила борщ и смотрела, как колышутся занавески; в открытую форточку струился холодный воздух, разливался по кухне, тянулся к щиколоткам, полз в рукава.
– … а самое смешное, что все смотрят на подобные вещи как на нечто само собой разумеющееся и ни слова не говорят против. Вот до тех пор ничего не изменится, пока наши так называемые граждане будут ходить с опущенными головами и замечать только то, что происходит в радиусе одного-двух метров вокруг них, – горячился приемник.
Ида отложила ложку и встала. Обошла стол, сдвинула занавеску и, ухватившись за ручку, с грохотом закрыла форточку. Откуда-то сверху взметнулись в воздух голуби.
По двору, лавируя между припаркованными автомобилями, нарезал круги мальчонка на велосипеде. Один круг, другой, третий, четвертый… Серо-желтый двор колодцем будто ежился от сырости и ветра. Пятый круг, шестой, седьмой… Внезапно мальчик остановился. Обернулся через плечо и уставился на оцепеневшую Иду. Стоял неподвижно и смотрел, не отрывая глаз. Иду охватила какая-то тоска. Как-то вдруг потемнело над домами небо, взвыл жалобно ветер, а из дряблых серых туч посыпался не то снег, не то град – редкий и мелкий. Он звонко застучал по подоконнику, подскакивая и бросаясь на дно колодца; несколько горошинок удержались на краю, и Ида увидела, что они неприятного бледно-желтого цвета. Она вздрогнула и отпрянула, отгородившись от наваждения занавеской.
В Марининой комнате стрекотала клавиатура. Ида перенесла тарелку с остатками борща к раковине, вычистила ее и сунула под струю ледяной воды.
– …если бы только открыть им глаза, дать понять, как – как на самом деле можно жить! Тогда и лозунги, и призывы нужны не будут. Очень быстро наши сограждане забывают обиды – а может быть, в лучших традициях Достоевского, и упиваются своей обидой и все глубже стремятся в нее завернуться…
– Марина, – позвала Ида.
– Что?
– Горячую воду отключили, что ли?
Молчание.
– Не знаю, мам. Я холодной мою. Оставь, я сделаю.
Ида выключила воду, поскребла по рукам вафельным полотенцем и направилась к себе. В коридоре было совсем темно.
Она вошла, закрыла дверь и как была – в одежде – легла на кровать лицом к стене. Но уснуть не получалось. Ворочалась, укрывалась, поджимала под себя ноги, но в конце концов легла на спину, вытянулась и стала смотреть на картину, висящую напротив кровати.
На картине был изображен залитый светом сад, расступающийся в стороны перед величественной усадьбой – колонны, арки. По аллее к усадьбе шли двое – мужчина и женщина. На женщине было пышное сиреневое платье, она держала над головой тонкий кружевной зонтик. Мужчина сжимал под мышкой трость. Сад пестрел яблонями и сиренью, по небу тянулись облака, вились птицы. Солнца видно не было, но оно чувствовалось в каждом штрихе. Усадьба казалась прекрасным дворцом, и было странно, что люди движутся к ней так размеренно и спокойно, а не бегут, сломя голову, так, будто сияющие колонны могут в любую секунду раствориться в воздухе и исчезнуть.
Картина была изучена Идой до мелочей – каждую веточку, каждый блик она могла бы объяснить и описать, а при желании – если руки не подведут – и воспроизвести; в молодости она недурно рисовала. Картина была привезена из дома, а там она висела в гостиной, а подарил ее Идиному отцу сосед-художник, высокий бородатый старик со смеющимися глазами, любивший петь в своей мастерской. Отец относился к картине как к семейной реликвии, показывал ее гостям и несколько раз перевешивал с места на место в поисках наиболее выгодного освещения.
Старика-художника вскоре выслали за границу. Перед отъездом он раздал почти все свои работы знакомым.
Ида смотрела на колонны, небо, сирень – и душа ее успокаивалась, приходила в доброе, тихое состояние. В окно застучал дождь, с ним слился тянущийся из-за двери треск. Робко вступили часы. Наконец, комнату окутал равномерный шум, растекающийся по потолку, стенам, кровати и картине. Аллея вздрогнула и потянулась куда-то вверх, колонны склонились набок, и Ида провалилась в забытье.
Снилось поле. Ида шла, загребая босоножками траву, а над ее головой носилась туда-сюда крохотная пестрая птичка и тоненько щебетала. Ида шла и шла, шла и шла, а поле все не кончалось. Птичка то улетала вперед, то возвращалась, то металась зигзагами, то выводила ровные круги – но не отдалялась. Горизонт таял, сливался с небом, в воздухе стоял душистый аромат черемухи и вишни, было тепло и тихо. Ида шла все быстрее, надеясь хоть куда-то да выйти, но ничего не менялось. Она не чувствовала ни усталости, ни раздражения – на нее наваливалась тяжелая, гнетущая скука. Если бы не птичка, она бы давно остановилась и села на траву, но щебет звал ее вперед, подталкивал, торопил.
В дверь позвонили, и Ида проснулась.
Дождь закончился, за шторами посветлело, холодный луч пересекал комнату, деля ее пополам. В коридоре слышались голоса.
Ида прислушалась, и губы ее растянулись в улыбке – голоса принадлежали правнучкам. Она опустила босые ноги на пол и села.
– Ида! Ида! – звенело в коридоре.
– Не шумите, бабушка отдыхает! – прозвучал строгий голос.
Дверь тут же распахнулась и в комнату, смеясь и взвизгивая, влетели правнучки. Они увидели Иду и бросились к ней.
– Ида! Ида!
Ида рассмеялась и прижала девочек к груди.
– Ну, ну, – только и сказала она.
А они уже пели о своем, перебивали друг друга, одергивали, хохотали, делились последними новостями, впечатлениями, ожиданиями. Ида улыбалась, кивала и гладила девочек по волосам.
– Привет, ба, – заглянула в комнату внучка, дочь Марины. – Как здоровье?
– Ничего.
– Идите за стол! – послышалось из кухни.
– Маша, Даша, – строго скомандовала внучка, – бегом мыть руки.
Девочки вспорхнули и, смеясь, исчезли в коридоре.
– Это хорошо, что ничего, – сказала внучка Иде, – слава Богу. Мама волнуется.
– Все в порядке, правда.
Внучка ободряюще потрясла кулаком и вышла.
Ида встала, взяла со столика зеркало, поднесла к лицу. Лицо как лицо.
На кухне стоял гвалт – девочки шумели, внучка пыталась их успокоить, Марина звенела тарелками, на плите шипело, над холодильником распевался телевизор, а где-то за всем этим неторопливо, с чувством собственного достоинства тянул свою шарманку радиоприемник. Когда Ида вошла, ее обдало жаром и шумом.
– Ида! Ида! – запищали девочки.
Сережа отодвинул стул, Ида села, положила ладони на стол. Потом спрятала их.
– Они и понятия не имеют… – Доносилось с подоконника, – их даже жалко, честное слово… Как можно…
Марина под вздох всеобщего восхищения опустила на стол огромное блюдо.
– Вуаля, – щелкнула она пальцами.
– Так, папа, – возмутилась внучка, – выключай-ка.
Она протянула руку, выхватила откуда-то из-под тарелок пульт, и телевизор погас. Стало чуть тише.
– Мам, ты представляешь, – заговорила Марина, раскрывая холодильник и выуживая из него салаты, – Клавдия не перестает удивлять. Теперь она так щедра со своими голубями, что мне приходится сметать пшено с подоконника. нашего
Она сделала ударение на «нашего». Ида посмотрела на дочь так, словно хотела что-то сказать, потом лицо ее прояснилось и губы растянулись в улыбке.
– Ничего смешного, между прочим, – нахмурилась Марина, – не хватало только, чтобы эти… – она подернула плечами, – эти – у нашего окна вились теперь.
– Ма-ма, – потянула ее за рукав внучка, – давайте уже есть.
Марина всплеснула руками, засуетилась с сервировкой и, наконец, села – по левую руку от Иды.
И началось. Зазвенели приборы, зажурчали наполняемые бокалы, кухня наполнилась возгласами одобрения и комплиментами хозяйке. Разговаривали, смеялись, шутили, обменивались новостями, вспоминали былое. Девочки жужжали и хихикали, Марина жаловалась на Клавдию, внучка делилась школьными успехами дочерей, а Ида качалась на волнах всеобщего воодушевления и даже забывала про еду. Ее увлекало хороводом голосов, огней и запахов, звуки сливались друг с другом и превращались в птичье пение – даже приемник стал казаться серой, надутой птицей, глухо булькающей откуда-то издалека.
– и только после того, как я увидел, в каких домах они живут, я понял, чего же нам все это время не хватало… – клокотала птица угрюмым грудным баском.
Иде было хорошо – ее окутывала тихая радость, и казалось, будто горячий летний ветер вьется вокруг нее, гладит волосы, целует щеки. Ей вспомнилась картина с усадьбой и подумалось, что, наверное, вот так – спокойно и благостно – себя ощущают люди, на ней изображенные.
– Мама, – взяла ее за руку Марина, – ты чего?
Ида вздрогнула:
– Что чего?
– Ты как-то… не знаю… задумалась… – сказала тревожно дочь, – может, пойдешь полежишь?
– Нет-нет, – улыбнулась Ида, – все хорошо.
И повторила:
– Все хорошо. Правда.
Внучка о чем-то зашепталась с девочками, а потом торжественно постучала вилкой о бокал.
– Внимание, внимание! – Она сделала важное лицо. – Сейчас перед вами выступят юные дарования Марья да Дарья со стихами Алексея Константиновича Толстого.
Девочки выпорхнули из-за стола и приземлились в центре кухни. Они защебетали между собой, по-видимому, проводя жеребьевку. Потом замерли. Даша вытянулась как струна и запищала:
– Что за грустная обитель
И какой знакомый вид!
За стеной храпит смотритель,
Сонно маятник стучит!
Стукнет вправо, стукнет влево,
Будит мыслей длинный ряд;
В нем рассказы и напевы
Затверженные звучат.
Внучка кивала в такт каждой строке и смотрела с восхищением.
– А в подсвечнике пылает
Догоревшая свеча,
Где-то пес далеко лает,
Ходит маятник, стуча;
Стукнет влево, стукнет вправо,
Все твердит о старине;
Грустно так! Не знаю, право,
Наяву я иль во сне?
Вот уж лошади готовы —
Сел в кибитку и скачу…
Даша запнулась, зашевелила беззвучно губами, прижала кулачки к груди и умоляюще посмотрела на мать.
– Вспомина-ай, – строго протянула та.
Даша зажмурилась, потом выдохнула:
– Вот уж лошади готовы —
Сел в кибитку и скачу, —
Полно, так ли? Вижу снова
Ту же сальную свечу.
Ту же грустную обитель,
И кругом знакомый вид,
За стеной храпит смотритель,