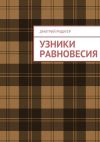Текст книги "Этот вечер, это утро. Рассказы"

Автор книги: Дмитрий Лагутин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОДИНОЧЕСТВА
(История одного обольщения)
Закончилась Рождественская служба. Я шагнул в густую морозную ночь, она подхватила, укутала хрустящим льдом воздуха. Из храма выходили сонные, но радостные люди, заматывались в шарфы, водружали на головы увесистые шапки.
Я спустился по ступенькам, сделал несколько неловких шагов и повернулся к храму. Он возвышался величественным гигантом – весь сотканный из стремительных линий, вытягивающийся вверх, к небу, добрую часть которого он от меня закрывал.
«Как хорошо, – подумал я. – Храм на фоне звезд. Все на своем месте».
Сверкающим куполом накрывала нас ночь.
Внезапно звезды вздрогнули и будто даже подпрыгнули – каждая на своем месте. Воздух задрожал от громогласного колокольного звона, а ночь замерла, затаила дыхание. На многие километры вокруг – в космос, в промерзшую землю расходились кругами могучие торжественные звуки.
Я стоял, запрокинув голову, будто окаменевший, и смотрел на храм, возведенный посреди звездного неба, на строгий Лик Спасителя, на Архангелов, склонивших свои прекрасные головы. Я растворился в звоне, и душа моя птицей кружила между звезд, обнимая их и увлекая в хоровод.
А из храма продолжали появляться люди. Они оборачивались, крестились и расходились. Они проходили мимо меня, и сердце мое дрожало от непонимания:
– Люди! Не уходите! Остановитесь! Посмотрите на это чудо! Посмотрите, как ликуют звезды, как склонились над нами небеса, как они внемлют этому дивному звону! Посмотрите, как прозрачна и благоговейна ночь!
Но люди шли мимо. Я хотел броситься им навстречу, преградить путь, ухватиться за куртки, растянуться посреди дороги, но остановить это вопиющее безразличие, эту ужасающую глухоту. Как же можно вот просто так, спиной к храму, да восвояси, когда тут – колокола, звезды, небо!
Конечно, я никого не остановил. Я стоял, запрокинув голову, и краем глаза видел, как иссякает людской поток, как последние запоздавшие прихожане щурятся от мороза и ежатся в своих пуховиках. Еще чуть-чуть, и я остался один на один с небом. Мое одиночество искоркой взвилось в воздух.
Через какое-то время колокола взяли последнюю ноту. Ночь бережно пронесла на руках угасающий гул, воздух дрожал. Несколько секунд – и наступила тишина. Я стоял вытянутый в струну. Над головой укладывались спать потускневшие звезды. Храм молчал.
Я вздохнул, перекрестился, и, сжимая в руке шапку, развернулся
За моей спиной стояли люди – те, которым я не решился броситься под ноги – в их глазах читалась Рождественская радость и теплая, светлая грусть от того, что чудо, которое они только что наблюдали, закончилось. Я неодобрительно покосился на искорку моего одиночества – она тлела на кромке фонаря – и смущенно двинулся в сторону дома.
***
САМОЕ ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ
(История одного открытия)
В новогоднюю ночь не выпало ни снежинки. Вспышки салютов озаряли асфальт, стены и чёрные ветви деревьев.
Утром первого января жена одела дочку – год и два месяца – вложила ее лапку в мою ладонь и наказала:
– Там не холодно, гуляйте не меньше часа. А я пока приготовлю обед.
И мы отправились.
Было около одиннадцати. В подъезде пахло чем-то сладким, возле мусоропровода стоял аккуратно замотанный пакет с мусором. В лифте дочка приветствовала старого знакомого – наклейку с котенком в углу зеркала. В другом углу – «Счастья в новом году!»
Улица встретила нас тишиной. Было светло. Всеми своими четырнадцатью этажами тянулись к приветливому небу дома, заурчал важно прошагавший мимо нас голубь. Кроме нас и голубя во дворе никого не было. Мы отправились к месту постоянных прогулок – гимназии, расположившейся в центре микрорайона.
Пока шли вдоль дороги, считал проезжавшие мимо машины. Раз, два, три. И тишина.
На подходе к гимназии – а ограду надо обойти по периметру, так как на выходные все ворота кроме центральных закрываются на замок – нас обдало ветром, который, вероятно, бежал от реки да заблудился во дворах. Дочка зажмурилась и завертела головой. Но ветер был совсем не холодный. Чирикнула где-то наверху птица и я впервые за долгое время вспомнил о том, что за зимой последует весна.
– Карр! – пропищала дочь, коверкая «р».
– Птичка, – согласился я.
И тут же дочь заголосила:
– Дядя! Дядя!
Дядя – это снеговик. На крыльце гимназии стоят два снеговика, слепленные детворой из автомобильных покрышек и выкрашенные в белый.
– Дядя, – соглашаюсь. – А что у дяди на голове?
На шляпе одного из снеговиков – гнездо из мишуры, похожее на кустик каких-нибудь цветов.
Дочь сопит носом.
– Цветики, – подтверждаю.
Дочь тянет ручки – поскорее бы к «дядям». Но до центральных ворот еще идти и идти – и дочь начинает тихо хныкать.
– Январский лед сиянье льет, – декламирую я. – Январский наст пропасть не даст. Январский снег… Январский снег. Здравствуйте.
Мимо нас проходит соседка с внучкой. Девочка прижимает к груди тряпичного зайца.
– С новым годом, – улыбается соседка.
– С новым годом, – улыбаюсь я.
Дочка заинтересованно смотрит на удаляющегося зайца, потом утыкается в мои колени и тянет ручки – надоело идти. Понимаю и поднимаю.
До ворот добирались, задрав головы – искали, кто это там чирикает. Не нашли. Снова пахнул ветер – и по воздуху разлился какой-то тонкий душистый аромат. Вероятно, дотянуло от реки.
– Январский снег красивей всех, – сообщаю я дочке и целую ее в раскрасневшуюся щеку.
– Па-па, – сообщает она.
У ворот не могли разминуться с семейством – парень, девушка и бутуз в комбинезоне.
– С новым годом, – говорю.
– С новым годом, – отвечают. И пропускают нас.
– Нет-нет, что вы, – говорю, – проходите, пожалуйста.
И делаю шаг назад. Бутуз смотрит на меня и машет рукавицей, словно тоже пропускает. Дочь удивленно наблюдает за происходящим.
– Проходите-проходите, – любезничают родители.
Я пожимаю плечами, крякаю что-то в благодарность – и мы заходим. Площадка, выложенная плиткой, несколько ступеней и – финишная прямая. Широкая дорога, упирающаяся в крыльцо с «дядями». Я опускаю дочь на ноги, она растопыривает ручки и рвется вперед. Иду следом, страхуя за капюшон.
Перед гимназией в хаотичном порядке курсируют дети с родителями. Взрослых детей нет, самые маленькие спрятаны в коляски. Стоит тишина. Если посмотреть вправо, за оградой видно реку. За рекой жмутся друг к другу дома, надо всем аркой выгибается светлое весеннее небо.
С березы на березу пересыпается ватага воробьев – пищат и свистят.
– Карр!
Где-то во дворах запела сигнализация, протарахтел вдалеке одинокий автомобиль.
– С наступившим! – окликнули меня.
– И вас, – кланяюсь знакомому старичку из дома напротив. Он согнулся почти вдвое и держит за руку девчушку, делающую первые, неловкие шаги. Девчушка закутана так, словно ее собирали на северный полюс. Старичок выгибает шею, смотрит на меня ликующе.
– А мы вот, – говорит, – ходим.
– Ну, вот какие вы молодцы, – говорю.
Подхватываю дочь за подмышки и ставлю перед девчушкой.
– Поздоровайся с девочкой.
Смотрят друг на друга настороженно.
– Ну, ручкой помаши, – подсказываю, наклоняясь.
Дочь шевелит рукой – неудобно, в зимнем-то. Потом поворачивается и спешит к крыльцу. «Дяди» не ждут. Я спешу следом, на ходу разводя руками.
– Бегите-бегите, мы вас догоним, – заверяет старичок.
Асфальт усыпан последствиями празднования. Трубки хлопушек, бумажки. Много окурков.
У самого крыльца дочь споткнулась – успел подхватить.
– Будьте аккуратней, – назидательно обращается ко мне проходящая мимо пожилая дама. Она одной рукой толкает перед собой лиловую коляску, а другой крошит на асфальт хлеб. За ней по пятам следует голубиная делегация – но не скачет друг по дружке, трепыхая крыльями, как обычно, а проявляет невиданную деликатность и размеренность. Дочь видит голубей – и семенит в их сторону.
– Карр!
Голуби бросаются врассыпную, но все равно как-то смирно, вежливо. Дама наклоняется и поправляет очки.
– Это сколько же вам?
– Год и два, – отвечаю.
– Вот и молодцы, – говорит с улыбкой. – С новым годом.
– Спасибо, и вас.
Небо совсем светлое – и на землю падают полупрозрачные тихие лучи.
У снеговиков нас встречают близнецы лет двух. Они толкаются, лепечут что-то и спешат в разные стороны. Высокая женщина в шубе и меховой шапке пытается их удержать рядом с собой. Увидев нас, она улыбается и подмигивает дочери.
Но той нет дела до женщины в шубе. Она несется к «дяде» и утыкается варежками в белый резиновый бок.
– Дядя!
– Дядя, – говорю я.
Снеговик улыбается во все свои четыре наклеенных зуба и смотрит ликующе вдаль. На его шляпе шевелится от ветра малиновая бахрома, похожая на актинию – это такие подводные растения, населяющие коралловые рифы. Дочь усердно сопит носом. Я беру ее на руки, подношу к шляпе – и она, смеясь, гладит варежкой бахрому.
– Цветики, да, – подтверждаю я.
Близнецы сталкиваются лбами, поднимают крик. Женщина в шубе охает и принимается их успокаивать. Дочь смотрит непонимающе.
В это время на ступени откуда-то ссыпаются воробьи – они суетятся, снуют туда-сюда и склевывают какие-то крошки. Близнецы замолкают.
– А вот и мы, – слышу я знакомый голос и вижу ликующего старичка, согнутого вдвое. – Догнали!
Девчушка смотрит на нас из своей полярной амуниции и складывает губы трубочкой.
– Помаши девочке, – обращаюсь я к дочери.
Она, не сгибая руки в локте, семафорит и тоже складывает губы в трубочку.
– Вот ведь понимают друг друга, – кряхтит удивленно старичок, сгребая девчушку в охапку и поднимая на крыльцо. – Чудной такой народец!
– Чудной, – соглашаюсь я.
Мы стоим и смотрим, как девчушка топчется перед снеговиком, не решаясь подойти.
– А что это у него на голове, смотри-ка, – причитает старичок. – Трава какая-то или что?
Мы раскланиваемся и спускаемся с крыльца.
– Карр! – комментирует дочь воробьиную суету.
Мы проходим мимо резвящихся близнецов, сворачиваем в сторону и двигаемся вдоль кустов, огибая гимназию. На кустах, привязанные к тонким голым веткам, висят раскрашенные школьниками музыкальные диски. Они медленно крутятся от ветра и сверкают блестками. Кажется, еще чуть-чуть – и зазвенят.
Сворачиваем за угол, проходим немного – и перед нами открывается стадион, покрытый серо-желтой пожухлой травой. Прошлогодней. По кругу, растянувшись в грандиозное кольцо, размеренно движутся мамы с колясками. По стадиону вьется ветер и ерошит траву.
По левую руку от нас – стена высоток. В некоторых окнах мигают гирлянды. Справа – за оградой – река. Тянется еле заметно, отражая в себе переливающееся светлое небо. Стоит нежная, хрупкая тишина. Мы вклиниваемся в кольцо, идем – но через несколько шагов дочь останавливается и просится на руки. Поднимаю – идем дальше.
На самой середине реки что-то сверкает. Плывет. Я пытаюсь разобрать, что именно, но не получается. Бутылка или что-то вроде того.
Прочертили полукруг и остановились у дальнего конца стадиона. Здесь в ограде выломаны несколько прутьев – и летом сквозь образовавшуюся дыру снуют ленивые пляжники, срезающие путь.
За рекой волнами вьётся город, дома растут прямо на холмах, то прячутся за деревья, то выныривают. Город кажется неподвижным и тихим, будто приклеенным к основанию переливающегося неба.
– И так подходит для пиров и встреч любой из вечеров… – тихо сказал я и посмотрел на дочь.
Она спала, как-то хитро опершись на мое плечо. Спала практически в вертикальном положении. Я ойкнул и принялся ее тормошить.
– Доченька. До-чень-ка. Не спи, пожалуйста.
Она приоткрыла один глаз, посмотрела на меня недовольно, закрыла, потом нахмурилась и склонила голову в твердом намерении разжиться отличным дневным сном. Загвоздка состояла в том, что сон – это дело хорошее, но наслаждаться им следует дома, в кроватке со слониками, а не посреди улицы на моем плече.
Я снова ойкнул, перехватил дочь на другую руку и понесся обратной дорогой, причитая на ходу:
– Январский лед сиянье льет, январский наст… Здравствуйте, с новым годом вас… Пропасть не даст… Январский снег… Красивей всех…
Провожаемые насмешливыми взглядами мамочек покинули стадион, пронеслись мимо расписанных музыкальных дисков, миновали крыльцо.
– Смотри, – предпринял я отчаянную попытку, – дяди!
Но даже снеговикам не удалось заинтересовать маленького человека, решившего вдруг уснуть. Я поискал глазами старичка с девчушкой – чтобы попрощаться и еще раз обменяться поздравлениями – но их нигде не было. Одним махом одолели дорогу до ворот, потом обогнули гимназию и ворвались во дворы. Людей вокруг стало больше, попадались те, кто почему-то вышел на улицу без детей. И все же основной контингент составляли представители «чудного такого народца» и их сопровождение.
– Это называется «глобальное потепление», – услышал я важный голос, обернулся и увидел, как мужчина в осеннем пальто и очках поучает мальчугана, прижавшегося к его руке.
– И так подходит для пиров… – пробормотал я и поднажал.
Закончил строку я уже у подъезда, набирая номер квартиры.
– И встреч… Ага, мы…
Я распахнул дверь и перед тем, как скрыться за ней, обернулся.
– Любой из вечеров.
Во двор плыл сверху вниз робкий, полупрозрачный снежок.
***
МОРЕ
(Фантастический рассказ)
В лаборатории было тихо и прохладно. Распахнутое окно смотрело во двор, почти вплотную прижимаясь к могучим елям. Утро было солнечное, свежее, вдалеке гудели чуть слышно автомобили, не нарушая при этом общего ощущения тишины. В воздухе пахло электричеством и спиртом, столы, приборы, мониторы сияли начищенные до блеска и словно радовались наступающему дню.
У самого окна, спиной к елям, ежился над микроскопом сухонький старичок в белом халате. Тонкие длинные пальцы ловко орудовали пинцетом, старичок причмокивал, поджимал губы и мурлыкал из-под щетки усов какую-то мелодию.
За окном защебетали птицы, старичок оторвал взгляд от окуляров, выпрямил спину, блаженно закрыл глаза, улыбнулся и глубоко вздохнул. В этот момент в коридоре послышались торопливые шаги. Старичок снова вздохнул – на этот раз с досадой. Шаги приближались, переросли в топот, загремели совсем близко – старичок зажмурился в надежде, что источник шума минует лабораторию – дверь распахнулась, и на пороге возник высокий брюнет спортивного вида в белом же халате. Полы халата взвились от сквозняка, шею старичка обдало холодом, бумаги на столе зашевелились негодующе. Брюнет тяжело дышал, глаза его сверкали.
– Профессор! – закричал он, – Аркадий Николаевич!
Старичок медленно отложил в сторону пинцет.
– Чего тебе, Сережа?
Брюнет в два шага пересек лабораторию, потом обернулся, кинулся к двери и захлопнул ее. И снова оказался перед старичком.
– Аркадий Николаевич, – прошептал он, – это… это невероятно.
– Что невероятно, Сережа?
– Я вчера… задержался… засиделся опять…
– Сережа… – неодобрительно покачал головой профессор, – ты много работаешь. Не жалеешь себя.
Брюнет махнул рукой.
– Вы и представить себе не можете, Аркадий Николаевич… это фантастика.
Профессор молчал.
– Засиделся я… – продолжал брюнет, – за Мелиховским проектом… до ряби в глазах считал. Потом, надо, думаю, отвлечься…
Он остановился, расправил плечи, взъерошил волосы. Затем сунул руку в карман халата, выудил оттуда здоровенную завитую рогом ракушку и выложил ее перед профессором, едва не повалив микроскоп.
– В общем, вот.
Профессор нахмурился и аккуратно отодвинул микроскоп в сторону. Потом вопросительно посмотрел на брюнета.
– Это ракушка из старого кабинета, – пояснил тот.
– Я ее узнал, Сережа. Ее Виктор Викторович из отпуска привез.
Ракушка была изящная, бело-коричневая, с торчащими по одну сторону зубцами. Другая сторона заворачивалась в саму себя нежным розовым глянцем.
– В этой ракушке… – брюнет понизил тон, выпучил глаза и выдохнул. – Море.
– Море?
– Море.
За окном раздался щебет, профессор вздохнул горестно и потер переносицу.
– Сережа, – протянул он, – либо изъясняйся понятнее, либо оставь меня в покое. Можешь взять выходной, – прибавил он, сделав паузу, – ты как будто бледнее обычного.
Брюнет снова взъерошил волосы, потом вдруг развернулся и заходил по лаборатории.
– Аркадий Николаевич, – заговорил он, наконец, отчеканивая каждое слово и стараясь вести себя как можно спокойней, – надо, думаю, отдохнуть. Пошел, сделал кофе, полистал какую-то ерунду, которую Миша на столе забыл. Потом стал по стеллажам прохаживаться. Вижу – ракушка эта. Я на нее никогда особого внимания не обращал – ракушка и ракушка. А тут взял, давай в руках вертеть. Вспомнил, как в детстве мы их к уху прикладывали, море слушали. Приложил – слушаю. Шумит, значит. Хорошо так шумит. Я – забавы ради – пошел к себе, подключил щуп с камерой, да и давай его в ракушку заталкивать. Какой-то даже азарт взял – до самой сердцевины, дескать, долезть, до упора. Пыхтел, сопел, вспотел даже, раз десять заднюю давал – но долез-таки. Да так долез, что чуть в обморок не упал.
Профессор молчал.
Брюнет хлопнул в ладоши и даже на носочки привстал.
– Да что рассказывать! Вы сами убедитесь! Здесь или у меня – без разницы. Хотя лучше у меня – там приборы посвежей.
Профессор долго смотрел на брюнета, затем встал. Прошагал через лабораторию до двери, застыл перед ней на мгновение – и отворил рывком.
Дверь дернулась, описала положенную дугу и ударилась ручкой о стену коридора. Профессор медленно выглянул, посмотрел налево, потом направо. Обернулся, прищурил глаза.
– Сережа, – протянул он, – я пойду только потому, что на тебя это не похоже. Но если это какой-то розыгрыш… Клянусь…
И он потряс кулачком.
Брюнет подбежал к нему, схватил за кулак и затряс его в своих огромных ладонях. Потом отскочил к столу, схватил ракушку и прижал к груди.
И они направились в так называемый «старый кабинет». Солнце заливало тихие коридоры, барельефы на стенах темнели и изгибаясь. Они изображали ученых с колбами, инженеров с гаечными ключами, прекрасных космонавтов в скафандрах. Барельефы как бы говорили: «Колба и ключ – вот и все, что нужно человечеству».
На четвертом этаже встретили Лену Ивушкину.
– Леночка, доброе утро, – остановил ее профессор. – Как твой проект?
– Ничего, Аркадий Николаевич. Движется потихоньку.
– Это хорошо, что потихоньку, – одобрительно покачал головой профессор. – Наука спешки не любит.
И они двинулись дальше.
«Старый кабинет» представлял собой сумрачное помещение с окнами на стену соседнего дома. Стояли рядами столы, вдоль стен тянулись стеллажи. Кое-где на столах горели лампы – видимо, с вечера.
– Проходите, пожалуйста, – и брюнет за рукав подтянул профессора к своему столу. – Смотрите. Но прежде… сядьте.
И он придвинул черное кожаное кресло. Профессор оглянулся по сторонам, сел и сложил руки на груди. Потом снял очки, потер пальцами переносицу, с тоской посмотрел на окно, за которым не было видно ни солнца, ни елей, ни голубого неба.
Брюнет суетился у стола. В одной руке он держал ракушку, в другой – щуп. Обе дрожали, щуп никак не хотел лезть. Брюнет выдохнул, встряхнул головой и, закусив губу, продолжал вертеть ракушку.
– Дай сюда, – не выдержал профессор и вырвал ее из рук брюнета. – Разнесешь ведь.
И он поудобнее устроился в кресле.
– Так, – сказал он, – так. Ну, приступим. Включай экран.
И он принялся медленно проталкивать щуп.
– Так. Назад… назад… продолжаем…
Брюнет кусал ногти, профессор, прищурившись, перебирал пальцами.
– Тупик… а если вот так… ага… ну, смотри у меня, Сережа. Если это шутка, тебе несдобровать…
Брюнет возмущенно замахал руками.
Дверь отворилась, в кабинет ввалился, отдуваясь, грузный аспирант, уже несколько месяцев обивающий пороги лабораторий.
– Здравствуйте, – пробормотал он и, поправив очки, двинулся к выделенному специально для него столу.
– Здравствуй, Олег, – не отрывая глаз от экрана, ответил профессор.
Он подвигал ракушкой.
– Все, Сережа, конец пути.
– Нет-нет, Аркадий Николаевич, не может такого быть…
– Ну, ты же видишь. Постой-ка… идет, вроде.
И он надавил кистью на ракушку. В следующий момент кровь отхлынула от его щек.
– Олег, – тихо позвал он, – пойди-ка погуляй.
Аспирант покорно выбрался из-за стола и вышел.
Профессор, не выпуская ракушки, вытянул шею и приблизил лицо к экрану. Брюнет с довольным видом скрестил руки на груди.
Изображение подрагивало и прерывалось помехами, но на экране можно было без труда различить водную гладь, линию горизонта, над которой нависали облака, темный массив какой-то скалы, истончающейся и исчезающей в воде. Море было спокойно, солнце играло на невысоких волнах, торопливо бегущих к берегу. Угол обзора был таким, как если бы объектив лежал на песке в небольшом отдалении от линии прибоя.
Профессор медленно опустил ракушку на стол, снял очки, повертел их в руках и вернул на место. Потом взъерошил себе волосы и протянул:
– Нда-а-а-а.
Брюнет возбужденно покачался с носка на пятку.
Профессор придвинулся еще ближе – и только что носом не уткнулся в экран. Море безмятежно гладило гальку, пузатые облака ползли по небу.
– И как это понимать?
Молчание.
– Как это понимать, Сережа? – профессор повернулся и посмотрел на брюнета так, словно тот был виноват в происходящем.
Молчание. Профессор потер виски.
– Другие ракушки пробовал?
– Пробовал.
– И?
– Больше ни в одну не влезает.
Дверь приоткрылась и в образовавшейся щели появилось лицо аспиранта.
– Простите… – пробормотал он. – Еще гулять?
– Да, еще гулять, – не поворачиваясь, ответил профессор.
Он встал и прошелся между столами, не переставая тереть виски.
– Так… Так… – говорил он, обращаясь к самому себе. – Это, конечно, невероятно… Но… Почему бы и нет?..
– Аркадий Николаевич! – завопил истошным голосом брюнет. – Теплоход!
Профессор бросился к экрану, зацепив соседний стол и сметя с него какие-то папки.
По морю не спеша полз вытянутый силуэт. Бок, обращенный к солнцу, сиял белизной.
– Сам ты теплоход. Обычный рейсовый катер.
Катер, как будто зная, что за ним следят, замедлил ход, почти остановился, но тут же раздумал, ускорился, обогнул горный склон и исчез.
Профессор снова зашагал между столами. Присел на корточки, поднял упавшие папки, аккуратно вернул на место.
Наконец, остановился, посмотрел на часы и строго сказал:
– Сережа. Сиди здесь, от экрана не отходи. От ракушки тоже. И ставь на запись – чтоб ни одну лодку не пропустить. А я поехал за специалистом.
– По ракушкам?
– Вот еще. По судостроению.
Брюнет непонимающе поджал губы.
– А зачем он нам?
– А как еще ты поймешь, на что мы смотрим? Ты, может быть, ландшафт узнаешь?
Брюнет хлопнул себя по лбу.
– Простите, Аркадий Николаевич.
Профессор поправил очки, бросил взгляд на окно и вышел.
Брюнет, не отрываясь от экрана, придвинул кресло, сел, включил запись и стал наблюдать. Море лениво колыхалось, солнце то пряталось за облаками, то выныривало на простор. Брюнет посмотрел на окно – стену противоположного дома расчерчивали лучи.
– Часовой пояс почти наш… – пробормотал он.
Подтянул к себе листок бумаги и торопливо записал:
«Часовой пояс – почти наш».
Потом укусил карандаш за ластик и добавил:
«Или вообще – наш».
Из-за горы выглянул нос какого-то судна. Брюнет отметил время. Через три минуты гость скрылся за кадром – появилась соответствующая запись.
Около получаса не происходило ничего. В кабинет тихо вошел аспирант, сел за свой стол, что-то долго писал. Закончив писать, вышел.
По гальке просеменил краб. Покружились и разлетелись в стороны птицы, похожие на чаек.
Потом откуда-то сбоку показалась то ли яхта, то ли катер – и прошла так близко к объективу, что у брюнета даже ладони вспотели – он решил, что судно причалит к берегу прямо перед ним. Но оно, прогарцевав, развернулось – и исчезло.
Когда у брюнета от напряжения стали слезиться глаза, в коридоре послышался топот – и в кабинет влетел профессор. За ним спешил, тяжело дыша, невысокий крепкий старик с острой бородкой и грандиозными седыми кудрями, торчащими в разные стороны.
– Ну что там? – сходу кинулся на брюнета профессор.
– Вот, – ответил брюнет и положил ладонь на записи.
– Никодим Сергеевич, – обратился профессор к гостю, – мы Вам сейчас покажем картинки, а Вы будьте любезны, постарайтесь угадать в них – что за корабли бороздят эти просторы? Включай, Сережа.
Брюнет медленно отодвинул в сторону ракушку и настроил воспроизведение.
– Вот, сейчас… немного промотаю… вот.
Гость вытер платком раскрасневшееся лицо и склонился над столом.
– Мелко-то как. Получше картинок нет?
Брюнет развел руками.
– Никодим Сергеевич, миленький, постарайтесь, – умоляюще проговорил профессор. – Нам крайне важно понимать, что это за суда.
Гость вздохнул и достал из нагрудного кармана очки.
– Так… Ближе не подойдет? Хорошо… ну, это рейсовый катер. Скорее всего… – и он озвучил название катера.
– Вот еще есть.
Брюнет перескочил на несколько минут вперед.
– А это яхта. Если точнее, то… – и гость что-то сказал не по-русски. – Да, она. Мы на такой ходили лет пять назад. Может, на этой самой.
Брюнет перепрыгнул через краба и явил зрителям белого красавца, подобравшегося совсем близко.
– Это тоже яхта. О, как видно хорошо. Это… – прозвучало еще одно звучное имя.
– Все.
– Сережа, записал?
– Конечно.
– Большое Вам спасибо, Никодим Сергеевич. С меня причитается, – и профессор крепко сжал руку гостя.
– Да уж будь добр, Аркадий, – выдохнул тот. – Чуть сердце не выскочило – так нестись. И из-за такого пустяка. Я бы тебе и по телефону мог рассказать, какие штуковины через эти места елозят.
Брюнет закашлялся, а профессор хлопнул себя по лбу.
– Вы знаете, где это? – ахнул он.
– Ну разумеется, – важно сообщил гость. – Это ж Севастополь. Если не ошибаюсь, чуть западнее нового пляжа. Места относительно безлюдные, потому как добраться до них относительно непросто, – он подбоченился. – Но я добирался.
– Значит, и я доберусь, – быстро сказал профессор. – А уж этот молодец – и подавно.
Он кивнул на брюнета. Гость медленно смерил молодца взглядом.
– Да, этот сможет. Крепкий.
И он протянул брюнету руку. Тот привстал и пожал ее.
– Сильнее жми, – скомандовал гость.
Брюнет сжал сильнее.
– Вот. Так достаточно, – заключил гость и удовлетворенно кивнул.
– Все, Никодим Сергеевич, давай провожаться. Нам работать надо, – засуетился профессор и, обхватив гостя за плечи, повел его к дверям. – Сережа, наблюдай. Я сейчас вернусь.
И они вышли.
Брюнет встал, потер ноющую кисть, потянулся. Потом прошагал от одной стены до другой, разминая затекшие конечности. Встал на носки, вытянул вверх руки и коснулся кончиками пальцев верхней полки стеллажа. В этот момент в кабинет вернулся профессор.
– Ничего ценного там нет, – строго сказал он.
– Где?
– На стеллаже.
И они засмеялись.
Потом профессор сел на угол стола, поправил очки и начал торжественно:
– Сережа. То, чему мы сейчас являемся свидетелями… в высшей мере странно. Но наука на добрую половину состоит из странностей. Мы должны благодарно и бережно и принять предоставленную нам возможность – возможность узнать что-то принципиально новое. Я не знаю, как это может работать, но кое-какие мысли у меня есть. Для меня твоя находка особенно ценна, и вот по какой причине.
Он кашлянул в кулак и продолжал.
– Мой возраст не позволяет строить каких-то особенных планов на будущее относительно научной деятельности. За свою долгую карьеру я, как мне кажется, сделал достаточно. Последние же годы я трачу на всякую чепуху, которая только по недоразумению попадает ко мне на стол. Здоровье, Сережа, здоровье вносит свои коррективы – мне уже, по-хорошему, надо уходить. Сидеть на пенсии, возиться с правнучками, как и положено юношам моих лет, листать накопившиеся подшивки. Да и начальство, сам знаешь… так вот. Эта ракушка, – он показал на нее пальцем, – мой шанс уйти, так скажем, красиво. Закончить действительно серьезным открытием. Или хотя бы преддверием открытия. Это то, ради чего мне не жаль еще год-два поночевать в лаборатории.
Брюнет слушал молча.
– Работать будем вместе. Мы с тобой знакомы давно, потенциал у тебя серьезный, дело любишь и знаешь. Если я сойду с рельс – закончишь начатое. Единственное, на чем останавливаю твое внимание – гласность. До какого-то момента об этом, – он снова показал на ракушку, – никому нельзя говорить. Тема, в некотором роде, провокационная, у нас ее мигом отберут и передадут в контору посолиднее. Может быть, во мне говорит недостойное ученого тщеславие – не исключаю такого варианта. Но для меня это возможность снова поработать увлеченно, и я ее не хотел бы упускать. Ты понимаешь?
Брюнет кивнул.
– Соглашаться или нет – зависит от тебя. Можешь сказать: «Это мое, этим я буду заниматься один». И я тебя пойму. Можешь пойти к начальству – и доложить; во имя науки, например. Тоже пойму. Обид не будет, продолжим работать, как работали. Но если согласишься взять старика в напарники – буду тебе очень признателен.
Он пожал плечами и потер переносицу.
Брюнет с готовностью подошел к профессору и сжал его руку.
– Аркадий Николаевич! Вы мне как отец! Не обижайте меня, прошу Вас. Для меня честь – работать с Вами, и я с удовольствием передаю нашу диковину, – теперь он ткнул в ракушку пальцем, – под Ваше шефство.
Профессор моргнул и глаза его заблестели.
Минута прошла в молчании. Потом профессор взял ручку и бумагу.
– Сделаем так. Ты, Сережа, давно не отдыхал. Выпросим тебе путевку в Севастополь, поедешь с Леной – позагораешь, в море поплаваешь, достопримечательности посмотришь. А в один из дней отправишься к нашему с тобой заливчику – и поглядишь, как сие чудо выглядит с той стороны. Будем на связи: я тут, ты – там. Как тебе план?
– Замечательный. Лена будет в восторге.
– Ну и славненько. Сегодня можешь начинать сборы, я сейчас же побегу наверх. Ну и до конца дня вручаю тебе торжественный отгул.
Брюнет благодарно склонил голову.
– Ракушку заберу к себе, – добавил профессор. – Положу в сейф.
И он назвал код.
Еще раз обменялись рукопожатиями, вытащили из ракушки щуп, удалили запись и, выйдя из кабинета вместе, разошлись в разные стороны: брюнет – вниз, к выходу; профессор – наверх, к начальству.
Начальство оказалось весьма лояльным – и на путевку согласилось почти сразу. Возможно, сыграл роль авторитет просителя. Как бы то ни было, уже через неделю профессор сидел у экрана, за окном вечерело, рабочий день был окончен, дверь кабинета – заперта изнутри, по коридорам разносилось гулкое эхо запаздывающих коллег.
На столе перед профессором лежала ракушка, в правой руке он держал телефонную трубку, в левой – карандаш, которым выстукивал какой-то мотив. На экране беззаботно плескалась вода, солнце клонилось к закату, чайки наворачивали круги по безоблачному небу.
– Ну что, далеко еще? – говорил он в трубку.
– Нет, Аркадий Николаевич, пару минут… – отвечали ему с того конца провода. – Тут тропа вполне приемлемая, уж не знаю, чего там Ваш товарищ… Я вчера уже был здесь.