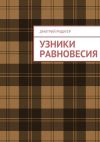Текст книги "Этот вечер, это утро. Рассказы"

Автор книги: Дмитрий Лагутин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
СЕРДЦЕ
Зазвонил телефон. Старик схватил трубку, зацепив локтем чашку с чаем. Раздался глухой стук, и по полу во все стороны брызнуло.
– Пап? – донеслось из трубки.
– Да. Что там?
– Еще делают.
– Почему так долго?
– Говорили с медсестрой, она сказала, что такие операции быстрее не делаются. Сказала, что надо ждать.
Старик свободной рукой провел по лицу, надавил на веки.
– Держи меня в курсе.
– Андрей может приехать, забрать тебя.
– Аня.
– Пап…
– Аня.
Короткие гудки.
Старик положил трубку. Посидел, глядя, как чай подбирается к краю серого, в ворсинках, тапка. Позволил коснуться подошвы, потом убрал ногу, наклонился, поднял чашку. Из нее со шлепком выпал пакетик. Старик оперся на стол, встал – и, переступив через бурую лужу, пошел за тряпкой.
Вечерело. Квартира плыла в сумерках. Старик, охая, опустился на колени и принялся возить тряпкой по луже. Закончив, он замер и некоторое время сидел на полу, глядя в стену и не выпуская тряпки. Потом медленно поднялся, отнес ее в ванную и вернулся.
В кухне уныло гудел холодильник, пахло чем-то кислым. Старик подошел к окну. Небо густело, кое-где проступали бледные звезды, но казалось, что еще светло. Во дворе бегали дети, гуляли с собаками взрослые. Между домами напротив сияла широкая вертикальная полоса – было видно реку, противоположный берег, небо бледно-зеленого оттенка, вплотную прижимавшееся к горизонту. За рекой загорались огни.
Ползла неспешно лодка. Показалась из-за тридцать девятого дома, темным пятнышком протянулась по почти белой воде, дав на себя полюбоваться, и скрылась за сорок первым.
Старик постоял, глядя за реку, потом дернул форточку – в кухню ворвался каскад голосов, гудков и прочих составляющих привычного уличного шума. Где-то заиграла музыка, где-то закричали птицы, старика обдало прохладой осеннего вечера, занавески заплясали.
Зазвонил телефон.
Старик рывком обернулся, кинулся к столу.
– Ну?
– Что «ну»? – переспросил хриплый мужской голос.
– А, это ты.
– Я. Не рад?
– Извини.
Старик опустился на стул.
– В конце месяца будем собираться. Ты как?
– Не знаю.
– Почему?
– Просто не знаю.
– Валя! – раздался с улицы женский крик. – Домой!
Голос в трубке запнулся, потом проговорил как-то неуверенно:
– Ну, как узнаешь – позвони, что ли.
– Да, конечно, – вздохнул старик. – Ты извини, день такой…
Помолчали.
– Все в порядке? – спросил голос.
– Да… Не знаю… – старик откашлялся. – Не хочу говорить.
– Конечно… – проговорил голос. – Конечно. Ты звони, не пропадай.
– Хорошо.
Короткие гудки.
Старик положил трубку, пошарил рукой по столу и зажег лампу. Потом встал, заглянул в чайник – есть ли вода? – и повернул ручку. Задрожало с готовностью синее пламя.
Старик повертел головой, дотянулся до завернутого в полиэтилен пульта и включил телевизор, темневший над холодильником.
В бело-голубой студии сидели двое – постарше и помоложе – друг напротив друга. За ними по широкому экрану плыли слайды. Старик прислушался. Говорили о Столыпине.
– Я глубоко убежден, – говорил тот, что помоложе, – что не погибни он, революции удалось бы избежать.
– Логика в этом, конечно, есть… – разводил руками тот, что постарше. – Но мы должны понимать…
– Валя! – снова закричала женский голос. – Домой!
Старик посмотрел на окно. Звезд стало больше – и сияли они ярче. Тридцать девятый и сорок первый были усыпаны пестрыми прямоугольниками окон.
Старик взял со стола чашку, повертел в руках, обдал водой. Потом отставил в сторону и сел.
Телевизор демонстрировал одну за другой черно-белые фотографии. Люди в мундирах, с орденами. Фуражки, бороды, здания с колоннами.
Старик постучал пальцами по столешнице, пригладил виски. Потом взял трубку, на мгновение закрыл глаза и, приложив ее к уху, набрал номер.
Гудки.
– Да, пап.
– Ну что там?
– Пока ничего. Ждем.
Старик помолчал.
– Ты там как? Может… Давай Андрей приедет.
– Аня.
– Папа, это же безумие какое-то. Ну, время ли… для всего этого?
Старик повысил тон:
– Аня.
– Как хочешь.
Коротки гудки.
– …самую фигуру его, самый его образ, духовный и даже, я думаю, физический, как трудолюбивого и чистого провинциального человека, который немного неуклюже… – читал с листка тот, что помоложе.
Засопел, задрожал и, наконец, завизжал чайник. Старик встал, погасил пламя, кинул в чашку пакетик и, морщась, залил кипятком. Потом посмотрел на часы и подошел к окну.
Сразу за рекой небо мерцало холодным светом, выше тонуло во мраке. На том берегу вспыхнул и засиял самый яркий огонек из всех – похожий на маяк.
Старик снова посмотрел на часы, перевел взгляд на телефон. Покусал губы. Потом медленно подошел к столу, поднял трубку, зажал ее между ухом и плечом.
– Валя! – раздалось от окна.
Старик нахмурился, шумно выдохнул и простучал по кнопкам.
Занято.
Старик скривился точно от боли и с грохотом вернул трубку на место.
– Все это мелочи, – продолжал декламировать, не поднимая глаз от листка, тот, что помоложе, – но характерна их сумма. Он занят был всегда мыслью, делом; и никогда «своей персоной», суждениями о себе…
Старик глубоко вздохнул, что-то пробормотал себе под нос и сел. Поднес к губам чашку, но было слишком горячо.
Тот, что постарше, слушал внимательно, поглаживая бородку. Едва его собеседник закончил, программа прервалась – и экран замелькал рекламой. Старик сморщился – и выключил.
За стеной раздались голоса. Старик прислушался, попытался разобрать слова, но не смог. Встал, неуверенно прошел взад-вперед по кухне, постоял у окна, открыл и закрыл холодильник. Потом долго смотрел на телефон. Наконец, потер ладонью затылок и вышел в коридор, а оттуда в комнату. Свет он включать не стал, наощупь добрался до дивана и лег.
Но сон не шел. Старик лежал, глядя в потолок. По потолку тянулись, сталкиваясь и сливаясь, полосы света. Стрекотали на комоде часы. Старик лежал, сложив руки на животе.
За окном залилась истошно чья-то сигнализация, завыла надрывно, тонко, на все голоса. Потом стало тихо. Прогромыхали наверху чьи-то тяжелые шаги, показалось, что вздрогнула и чуть слышно зазвенела люстра.
Сна не было.
Когда старик вспомнил о чае, раздался звонок в дверь. Тут же – еще один. Старик подскочил, едва не упав, и зашаркал в коридор. Не посмотрев в глазок, зазвенел ключами и распахнул дверь.
Никого не было. Старик услышал, как гудит, удаляясь, лифт.
Он постоял еще с минуту – по ногам потянуло холодом, пахло сыростью – потом закрыл дверь, прошел в кухню, сел и включил телевизор.
В студии появилась женщина строгого вида, в очках, с огромными красными бусами на шее. Она назидательным тоном что-то говорила, а мужчины слушали и кивали. Тот, что помладше, порывался что-то вставить, но раз за разом осекался.
Старик одним махом опустошил чашку и откинул голову назад, коснувшись затылком стены. Потом дотянулся до телефона и проверил, хорошо ли лежит трубка.
Женщина договорила, удовлетворенно сложила руки на коленях – и передача снова ушла на рекламу. Старик встал и прошагал к окну.
Было темно. По двору в поисках места ползал автомобиль. Свет от фар блуждал, изгибаясь. Из-за тридцать девятого показалась луна. По реке, вздрагивая, тянулись огоньки. Промелькнула мимо окна тень – летучая мышь. Старик приблизил лицо к стеклу, подышал на него, тут же стер мутное пятно ладонью.
Потом вернулся к столу, сел, опустив подбородок на грудь, положил руки на колени и замер. Сперва он смотрел на свои ладони, потом веки сомкнулись, и со стороны могло показаться, что он спит.
Заурчал в подъезде лифт. Этажом выше кто-то запел. Потом стало тихо. Старик пошарил рукой по стене и выключил свет – кухня провалилась в темноту. От окна сквозь занавески вилось холодное неровное сияние. Загудел нервно холодильник, в комнате еле слышно стрекотали часы.
Старик сидел, не шевелясь. По пальцам пробегала тонкая дрожь.
На квартиру навалилось грузное, плотное беззвучие. Притих холодильник; стрекот часов становился все реже, истончался – и, наконец, выскользнул куда-то и исчез. Старик услышал биение собственного сердца. Раз удар, два удар, три удар… Громче. Еще громче. Сердце стало увеличиваться, заняло целиком грудную клетку, вышло за ее пределы. Сердце росло как воздушный шар, отбивая гонг – раз удар, два удар, три удар. Сердце заполнило кухню, ударило еще раз, другой, третий – и поплыло сквозь стены – в комнату, в подъезд, к соседям, за окно. Мир сотрясался и пульсировал – раз удар, два удар, три удар.
Старик боялся пошевелиться, пальцы дрожали.
И тут зазвонил телефон.
Все тело свело судорогой, он выбросил руку вперед – и трубка громыхнула, повалившись. Щелкнул выключателем и, щурясь от нахлынувшего света, схватил трубку, перевернул, прижал к уху.
– Слушаю! – воскликнул он хрипло.
– Сделали, пап. Все хорошо.
Старик уронил голову на стол, прижался к нему лбом.
– Что говорят?
– Что еще какое-то время будет здесь, а потом переведут. Угроз нет.
Старик тяжело дышал.
– Пап.
– Да.
– Приезжай, а? Она в сознание приходит… Ну сколько можно?
Старик замолчал, облизал пересохшие губы.
– Пап.
Старик не отвечал.
– Пап.
Он отнял лоб от стола, провел рукой по волосам.
– Не… Не знаю, Аня… Не могу.
В трубке помолчали.
– Папа.
– Да?
– Вы – плохие люди. Оба.
И она бросила трубку.
Старик сидел и слушал гудки. Сердце гремело, как молот по наковальне. Он медленно водрузил трубку на место. По телу разливалось какое-то тепло, в голове шумело. Старик встал, сполоснул чашку и поставил ее на полотенце дном вверх. Потом погасил свет, проверил газ – ощупав каждую ручку – и ушел в комнату. Там он, не раздеваясь, лег, укутался в плед и закрыл глаза.
Этажом выше кто-то запел.
Старику снилось, что он идет по берегу – к реке. Песок засыпается в тапки и скрипит. Река светится, над ней ползет неспешно луна. У самого берега качается лодка. Стучат о борт весла, от носа куда-то в песок тянется веревка.
Старик идет медленно, ежится от ночной прохлады, кашляет.
Наконец он добирается до кромки воды. Тапки тонут в мокром песке, от реки пахнет листвой. Старик делает шаг, другой – и ноги по щиколотку уходят в ледяную воду. Он охает, хватается за влажный борт, перевешивается через него и вползает в лодку, на дне которой хлюпает та же вода. Старик садится и озирается – река пустынна, противоположный берег прячется в тумане, сквозь белое марево моргают еле заметно огни. Он с большим трудом развязывает веревку и бросает ее на берег. Потом кладет ладони на тяжелые весла и пробует грести. Весла спотыкаются, скребут по песку.
Лодка медленно трогается.
Старик шумно дышит и гребет, то и дело оборачиваясь. Но берега не видно, над рекой тянется туман. Хлюпает на дне лодки вода, ногам холодно. Слышны всплески – и вместе с веслами взмывают в воздух ледяные брызги – некоторые из них долетают до щек и обжигают. Старику тяжело и страшно, но он продолжает грести.
Туман окутывает лодку, и дальше старик движется будто в молоке. Воздух влажен, старику кажется, что он не дышит им, а пьет его. Далеко вверху появляются и тут же исчезают точки звезд. Старик оглядывается через плечо и видит далеко в тумане огни. Там берег.
Становится холоднее. Старик то и дело бросает весла и дышит на посиневшие ладони. Старается грести быстрее, но лодка ползет как ползла. Грудь точит кашель, зубы стучат. Сердце снова начинает грохотать – раз, два, три. Старик озирается, поджимает ноги, стучит ими по дну.
Когда он уже готов бросить весла, лодка врезается носом в берег. От толчка старик подается назад, изгибается, пытаясь удержаться – и падает вперед, на колени, едва успевая выставить руку перед собой. Не переставая стонать, встает, выпрямляется и, обхватив руками борт, вываливается на песок.
Но берега не видно. Вокруг старика – белая пелена, из нее выглядывает одиноко нос лодки. Старик щурит глаза, машет руками, чтобы разогнать туман. Кричит, зовет на помощь, изо рта при этом вырываются облака пара. Старик, чуть не плача, обхватывает себя руками и медленно, охая и останавливаясь, бредет в сторону огней. Они не приближаются.
Воздух становится все холоднее, в тумане сверкают то ли снежинки, то ли кусочки льда. Старик идет из последних сил, сцепив зубы, зажмурившись. Но идет не долго – ноги его подкашиваются, он оседает на землю и закрывает лицо трясущимися руками. Туман становится гуще, старик несколько раз негромко кого-то зовет – и тело его начинают сотрясать рыдания. Слезы катятся по щекам на ледяные ладони, с них падают на песок. Сердце гремит.
Вдруг он вскидывает голову – сквозь оглушительные удары он слышит что-то еще. Вытягивает шею. К нему приближаются тяжелые глухие шаги. От каждого – вздрагивает земля. Старик вжимает голову в плечи и ждет. Шаги все ближе – и старик видит сквозь туман исполинский силуэт.
Очертания становятся яснее и, раздвигая плечами пелену, перед стариком возникает могучая фигура в три человеческих роста. Белый мундир, ордена. На поясе – вся в вензелях – сабля. Спокойное, задумчивое лицо. Старику знакомо это лицо, он видел его в телевизоре, о нем говорили двое – помоложе и постарше. Потом еще вступила женщина с бусами и никому не давала вставить слово.
Столыпин смотрит на старика, потом наклоняется и берет его на руки, как ребенка. Старик прижимается к белому мундиру и молчит, по лицу продолжают катиться слезы. Столыпин делает шаг, еще один – и, не глядя на старика, идет вперед. Перед глазами старика мерцает какой-то орден, блики скользят по краям и тают в тумане. Старик успокаивается и согревается. Подносит ладони к губам и дышит в них. Веки сами собой смыкаются – и он засыпает.
***
ГНЕЗДО
Дед стоял за печь горой. «Не позволю!» – стучал он кулаком по столу и грозил длинным крючковатым пальцем. Отец хмурился, тер виски, но против деда не шел. Мать не вникала.
Печь занимала треть кухни – белая, теплая и мягко-шершавая – будто намелованная. Гости шарахались от нее, боясь за пиджаки и свитера. Дед смеялся над ними и хлопал по теплым бокам, демонстрируя чистые ладони.
На печь можно было забраться – по узенькой лесенке сбоку – и устроиться под самым потолком на цветастом одеяле, в горячем и сухом «гнезде». Так говорил отец. Из гнезда можно было наблюдать за происходящим на кухне – например, за тем, как кот пытается стащить со сковороды отбивную, а мать гоняет его полотенцем, или за тем, как спорят затемно отец и дядя, поглощая в жутких количествах терпкий черный чай. Дядя шевелил усами, горячился и яростно жестикулировал, а отец откидывался на стуле, складывал руки на груди и посмеивался. В гнезде можно было дремать, укутавшись, можно было прятаться ото всех, вжавшись в стену и затаив дыхание, можно было листать истрепанную, пыльную книгу.
А дед в гнезде слушал радио.
Зайдет на кухню; под мышкой личное сокровище – древний увесистый радиоприемник под дерево, с вытягивающейся вверх антенной и отломанным регулятором громкости. Повертит головой, покряхтит, вытянет из хлебницы пару сухарей. Потом вздохнет – и давай карабкаться по лесенке. Охая, ахая, хрустя суставами, устроится в гнезде, завернется в одеяло, поскребет бороду, щелкнет приемником и прижимает его к уху – иначе не услышать ничего. Чинить не дает, боится. «У вас, – говорит, – руки кривые. Вам такой тонкий инструмент доверять нельзя».
– Выкинь ты свой тонкий инструмент, батя, – смеется отец, – рухлядь же. Мы тебе новый купим, японский.
– В голове у тебя рухлядь, – отвечает дед, – а радио не трожь. В японском души нет, а сей мне прилюбился уже.
Отец все смеется, не спорит.
По негласным правилам деду касательно гнезда предоставлялось безусловное преимущество. Если он заставал на печи нас с братом, то шикал, делал страшное лицо – и мы исчезали.
Радио дед мог слушать ночами напролет. Покрутит ручку, найдет волну, прижмется к коробке – и замирает. Тогда кругом него хоть земля трясись, ничего не видит. Дядя зайдет, поздоровается, а дед не отвечает – весь . Ночь на дворе, свет погасят, тихо; только и звуков что кот ворочается в углу, в печи что-то потрескивает, да дед сопит из-под потолка. А то возьмет да и захрапит – раскатисто, с переливами. Отец тогда выходит из комнат, расталкивает старика, уговаривает перебраться в постель. Дед спросонья ворчит, но соглашается – сползает по лесенке, ковыляет к себе. там
Однажды зимой, ближе к вечеру, спрятался я в гнездо. Выжидаю. Зашла мать, помыла посуду. Постояла у окна. За окном яблоня, за яблоней сарай, за сараем забор, а там небо в облаках. Солнце заходит уже, выглядывает из-за забора, разливается огнем. Все белым-бело, на сарае снежная папаха. Облака ну прямо горят. Хорошо. Мать постояла – постояла, да и ушла.
За окном пробежал с соседскими мальчишками брат. Летят снежки, слышен хохот. Я жду.
Появился кот. Прошагал деловито до обеденного стола, запрыгнул, обнюхал. Перебрался на подоконник, уселся носом к стеклу – наблюдает.
В печке трещит тихонько. Солнце – за забором уже, а облака все горят. Жду.
Зашел отец, выпил воды, сел у окна. Потрепал кота по спине, пробормотал что-то задумчиво. Уходя, подмигнул мне. Конспирация провалилась. Но это отец, от него не спрячешься.
Жду деда. Над забором небо еще пылает, но выше – густая синь. Яблоня гладит голыми ветвями крышу сарая, на папахе остаются борозды. Кот сидит неподвижно, наблюдает за редкими снежинками, которые ползут сверху вниз. Я наблюдаю за котом. Наблюдаю, наблюдаю, да и засыпаю, размякший от тепла и тишины.
Просыпаюсь от голосов.
– Не позволю! – скрипит дед и стучит кулаком.
Он сидит на табуретке и вертит в руках приемник. Горит лампа, за окном темно. Напротив деда сидит отец, пьет чай. От чая вьются ниточки пара, отец дует на кружку, цедит понемногу.
– Батя, – басит он, – ну на что она тебе?
– Не позволю, – бубнит из-за бороды дед. – Вот помру – хоть весь дом разбирайте.
– Так ведь и соседи уже смеются, ни у кого такой нет.
– Пущай смеются.
– Что ж ты так уперся-то?
– Захотел и уперся. Твой дед эту печь ставил, душу вкладывал. Погляди, как мальцам она по душе, – тычет пальцем на меня. Я юркаю обратно.
Отец вздыхает.
– Чудак ты, батя, стал, – говорит, – совсем чудак.
Дед не отвечает, вертит приемник. Потом зевает, встает и шаркает к печи.
– Слезай, шалупонь.
Я тру глаза и соскальзываю вниз. За мной увязывается кот, пытается прошмыгнуть в комнаты. На пороге оборачиваюсь и вижу, как дед жмется ухом к приемнику. Его лысая макушка, голая и ровная как шар, блестит в свете лампы.
Кот воспользовался моим замешательством и просочился-таки вглубь дома.
Той ночью меня разбудил грохот – дед, слезая с печи, оступился и упал с лесенки. Сломал руку. Пока отец собирался и грел машину, дед сидел на кровати и тихо постанывал. Мать кружилась вокруг него, поднося вещи, воду, помогая влезть в куртку.
Вошел в комнату отец – в верхней одежде, не разувшись.
– Марш спать, – приказал он нам с братом.
Взял деда под локоть и повел в коридор.
Когда они уехали, мать зашла к нам и сказала:
– Я к соседке. Ненадолго. Спите или со мной пойдете?
Мы к соседке не хотели
– Ты за старшего, – сообщила мать брату и ушла.
Воцарилась тишина. В комнате деда горела лампа, и у нас, с открытой дверью, было совсем светло. Я не мог спать. Ворочался, мял подушку, а потом тихонько встал.
– Ты куда? – спросил сквозь сон брат.
– В кухню, – и я зашлепал босыми ногами по полу.
Из-за окна лилось сквозь занавески холодное белое сияние, но в кухне все равно было темно. Я зажег абажур и уселся за стол. В печи тихонько трещало. На подоконнике, свернувшись калачиком, дремал кот. В углу, под табуретом, лежал одиноко приемник с погнутой антенной.
Я нагнулся, поднял. Повертел, приложил к уху – там неразборчиво шипело. Погасил абажур, сунул приемник под мышку и полез на печь.
В гнезде было по-обычному жарко и сухо. Я вжался в угол и поднес приемник к лицу. Его пересекала белая полоса с цифрами и черточками. По полосе, если крутить ручку, полз маячок. Я принялся двигать его вправо-влево, то и дело прислушиваясь. Звук был ужасно тихим – ничего не разобрать. Наконец маячок добрался до какой-то заветной черточки – и до моего слуха донеслась более-менее отчетливо музыка. Я приник к гладкому пластиковому боку. Пели про пальмы, море и закат. Кухня плыла серебряными бликами, мерцала таинственно. Меня здорово разморило, я подтянул к подбородку одеяло и укутался в него.
После песни про пальмы диктор со смешной фамилией принялся монотонным голосом читать историю про какого-то мальчика, которого везли через степь в город. Мальчик сперва ехать не хотел и плакал, а потом только скучал и бродил по округе на привалах, а вокруг него суетились какие-то люди – приятные и не очень.
В глубине печи потрескивало, где-то в противоположном углу кухни завел свою песню сверчок.
А мальчик все ехал и ехал в своей телеге. День сменял ночь, вокруг кричали птицы, лаяли собаки, разговаривали, считая деньги, люди. Я сперва слушал внимательно, потом куда-то поплыл, – и не заметил, как уснул. Снилось мне, что я еду через степь и рядом со мной сидит дед. Он то и дело поворачивается, улыбается из-за бороды и показывает торжествующе ладони – то ли чтобы продемонстрировать их чистоту, то ли чтобы сказать, что с рукой у него все в порядке. Степь застелена ровным слоем шуршащей травы, вдалеке темнеют на фоне неба холмы. С неба тянется редкий снежок, тает, не касаясь земли.
Наутро отец привел домой рабочих – и они в два дня разобрали печь. Нам с братом до слез было жаль теплого гнезда – и мы плакали, сидя у деда на кровати. Дед здоровой рукой гладил нас по головам и бормотал что-то ободряющее.
***