Читать книгу "Антихрист (Петр и Алексей)"
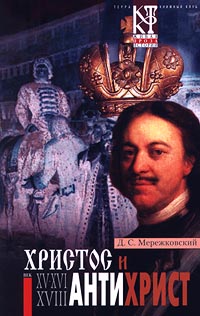
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
III
Тихон увидел старца Корнилия, окруженного толпою скитников, мужиков, баб и ребят из окрестных селений.
– Всяк верный не развешивай ушей и не задумывайся, – проповедовал старец, – гряди в огонь с дерзновением, Господа ради, постражди! Так размахав, да и в пламя! На вось, диавол, еже мое тело: до души моей дела тебе нет! Ныне нам от мучителей – огонь и дрова, земля и топор, нож и виселица; там же – ангельские песни и славословие, и хвала, и радование. Когда оживотворятся мертвые тела наши Духом Святым – что ребенок из брюха, вылезем паки из земли-матери. Пророки и праотцы не уйдут от искуса, всех святых лики пройдут реку огненную – только мы свободны: то-де нам искус, что ныне сгорели; то нам река огненная, что сами – в огонь. Загоримся, яко свечи, в жертву Господу! Испечемся, яко хлеб сладок. Св. Троице! Умрем за любовь Сына Божьего! Краше солнца красная смерть!
– Сгорим! Сгорим! Не дадимся Антихристу! – заревела толпа неистовым ревом.
Бабы и дети громче мужиков кричали:
– Беги, беги в полымя! Зажигайся! Уходи от мучителей!
– Ныне скиты горят, – продолжал старец, – а потом и деревни, и села, и города зажгутся! Сам взял бы я огонь и запалил бы Нижний, возвеселился бы, дабы из конца в конец сгорел! Ревнуя же нам Россия и вся погорит!..
Глаза его пылали страшным огнем; казалось, что это огонь того последнего пожара, которым истребится мир.
Когда он кончил, толпа разбрелась по поляне и по опушке леса.
Тихон долго ходил по рядам, прислушиваясь к тому, что говорили в отдельных кучках. Ему казалось, что все сходят с ума.
Мужик говорил мужику:
– Само царство небесное в рот валится, а ты откладываешь: ребятки-де малые, жена молода, разориться не хочется. А ты, душа, много ли имеешь при них? Разве мешок да горшок, а третье – лапти на ногах. Баба, и та в огонь просится. А ты – мужик, да глупее бабы. Ну, детей переженишь и жену утешишь. А потом что? Не гроб ли? Гореть не гореть, все одно умереть!
Инок убеждал инока:
– Какое-де покаянье – десять лет эпитимья! Где-то поститься да молиться? А то, как в огонь, так и покаяние все – ни трудись, ни постись, да часом в рай вселись: все-то грехи очистит огонь. Как уж сгорел, ото всего ушел!
Дед звал деда:
– Полно уже, голубок, жить. Репа-де брюхо проела. Пора на тот свет, хоть бы в малые мученики!
Парнишки играли с девчонками:
– Пойдем в огонь! На том свете рубахи будут золотые, сапоги красные, орехов и меду, и яблок довольно.
– Добро и младенцы сгорят, – благословляли старцы, – да не согрешат, выросши, да не брачатся и не родятся, но лучше чистота да не растлится!
Рассказывали о прежних великих гарях. В скиту Палеостровском, где со старцем Игнатием сожглось 2.700 человек, было видение: когда загорелась церковь – после большого дыму, из самой главы церковной, изшел о. Игнатий со крестом, а за ним прочие старцы и народа множество, все в белых одеждах, в великой славе и светлости, рядами шли на небо и, прошедши небесные двери, сокрылись.
А на Пудожском погосте, где сгорело душ 1.920, ночью караульные солдаты видели спустившийся с неба столп светлый, цветами разными цветущий, подобно радуге; и с высоты столпа сошли три мужа в ризах, сиявших как солнце, и ходили около огнища по-солонь; один благословлял крестом, другой кропил водой, третий кадил фимиамом, и все трое пели тихим гласом; и так обойдя трикраты, опять вошли в столп и поднялись на небо. После того многие видели в кануны Вселенских суббот в ночи на том же месте горящие свечи и слышали пение неизреченное.
А мужику в Поморье было иное видение. Огневицей лежал он без памяти и увидел колесо вертящееся, огненное, и в том колесе человеков мучимых и вопиющих: се место не хотевших самосгореть, но во ослабе живущих и Антихристу работающих; иди и проповеждь во всю землю, да все погорят! – Уканула же ему капля на губу от колеса. Мужик проснулся, а губа сгнила. И проповедал людям: добро-де гореть, а се-де мне знаменье на губе покойники сделали, кои не хотели гореть.
Кликея кликуша, сидя на траве, пела стих о жене Аллилуевой.
Когда жиды, посланные Иродом, искали убить младенца Христа, жена Аллилуева укрыла Его, а свое собственное дитя бросила в печь.
Как возговорит ей Христос, Царь Небесный:
Ох ты гой еси, Аллилуева жена милосерда,
Ты скажи Мою волю всем Моим людям,
Всем православным христианам,
Чтобы ради Меня они в огонь кидались
И кидали бы туда младенцев безгрешных.
Но кое-где уже слышались голоса против самосожжения:
– Батюшки миленькие, – умолял о. Мисаил, – добро ревновать по Боге, да знать меру! Самовольно-мученичество не угодно Богу. Един путь Христов: не взятым утекать, взятым же терпеть, а самим не наскакивать. Отдохните от ужаса, бедные!
И неистовый о. Трифилий соглашался с кротким о. Мисаилом.
– Не полено есть, чтоб ни за что гореть! Ужли же, собравшись, яко свиньи в хлеве, запалитесь?
– Бессловесие глубокое! – брезгливо пожимал плечами о. Иерофей.
Мать Голендуха, которая уже горела раз, да не сгорела – вытащили и водой отлили, – устрашала всех рассказами о том, как тела в огне пряжатся и корчатся, голова с ногами аки вервью скручиваются, а кровь кипит и пенится, точно в горшке варево. Как, после гари, тела лежат, в толстоту велику раздувшись и огнем упекшись, мясом жареным пахнут; иныя же целы, а за что ни потянешь, то и оторвется. Псы ходят, рыла зачернивши, печеных тех мяс жрут, окаянные. На пожарище смрад тяжкий исходит долгое время, так что невозможно никому пройти, не заткнувши носа. А во время самой гари, вверху пламени, видели однажды двух бесов черных, наподобие эфиопов, с нетопырьими крыльями, ликующих и плещущих руками, и вопиющих; наши, наши есте! И многие годы на месте том каждую ночь слышались гласы плачевные: ох, погибли! ох, погибли!
Наконец, противники самосожжения приступили к старцу Корнилию:
– Почто сам не сгорел? Когда это добро, вам бы, учителям, наперед! А то послушников бедных в огонь пихаете, животишек ради отморных себе на разживу. Все-то вы таковы, саможжения учители; хорошо, хорошо, да иным, а не вам. Бога побойтесь, довольно прижгли, хоть останки помилуйте!
Тогда, по знаку старца, выступил парень Кирюха, лютый зажигатель. Помахивая топором, крикнул он зычным голосом:
– Кто гореть не хочет добром, выходи с топором – будем биться. Кто кого зарубит, тот и прав будет. Меня убьет – неугодно-де Богу сожжение, а я убью – зажигайся!
Никто не принял вызова, и за Кирюхой осталась победа.
Старец Корнилий вышел вперед и сказал:
– Хотящие гореть-стань одесную, не хотящие-ошую!
Толпа разделилась. Одна половина окружила старца; другая отошла в сторону. Самосожженцев оказалось душ восемьдесят, не желавших гореть – около ста.
Старец осенил насмертников крестным знаменем и, подняв глаза к небу, произнес торжественно:
– Тебя ради. Господи, и за веру Твою, и за любовь Сына Божия Единородного умираем. Не щадим себя сами, души за Тя полагаем, да не нарушим своего крещения, принимаем второе крещение огненное, сожигаемся. Антихриста ненавидя. Умираем за любовь Твою пречистую!
– Гори, гори! Зажигайся! – опять заревела толпа неистовым ревом.
Тихону казалось, что, если он останется дольше в этой безумной толпе, то сам сойдет с ума.
Он убежал в лес. Бежал до тех пор, пока не смолкли крики. Узкая тропинка привела его к знакомой лужайке, поросшей высокими травами и окруженной дремучими елями, где некогда молился он сырой земле-матери. На темных верхушках гасло вечернее солнце. По небу плыли золотые тучки. Чаща дышала смолистою свежестью. Тишина была бесконечная.
Он лег ничком на землю, зарылся в траву и опять, как тогда, у Круглого озера, целовал землю, молился земле, как будто знал, что только земля может спасти его от огненного бреда красной смерти:
Чудная Царица Богородица,
Земля, земля, Мати сырая!
Вдруг почувствовал, что кто-то положил ему руку на плечо – обернулся и увидел Софью.
Она склонилась над ним и смотрела в лицо его молча, пристально.
Он тоже молчал, глядя на нее снизу, так что лицо девушки, под черным скитским платком в роспуск, выделялось четко на золотистой лазури неба, как лик святой на золоте иконы. Бледною ровною матовой бледностью, с губами алыми и свежими, как полураскрытый цветок, с глазами детскими и темными, как омут – лицо это было так прекрасно, что дух у него захватило, точно от внезапного испуга.
– Вот ты где, братец! – проговорила, наконец, Софья. – А старец-то ищет везде, ума не приложит, куда пропал. Ну, вставай же, пойдем, пойдем скорее!
Она была вся торопливая и радостная, словно праздничная.
– Нет, Софья, – произнес он спокойно и твердо. – Не пойду я больше туда. Полно, будет с меня. Насмотрелся, наслушался. Уйду, совсем уйду из обители…
– И гореть не будешь?
– Не буду.
– Без меня уйдешь?
Он взглянул на нее с мольбою.
– Софьюшка, голубушка! Не слушай безумных. Не надо гореть, – нет на то воли Господней! Грех великий, искушение бесовское! Уйдем вместе, родная!..
Она склонилась к нему еще ниже, с лукавой и нежной улыбкою, приблизила к его лицу лицо свое, уста к устам, так что он почувствовал ее горячее дыхание.
– Не уйдешь никуда! – прошептала страстным шепотом. – Не пущу тебя, миленький!..
И вдруг охватила голову его обеими руками, и губы их слились.
– Что ты, что ты, сестрица? Разве можно? Увидят…
– Пусть видят! Все можно, все очистит огонь. Только скажи, что хочешь гореть…
– Хочешь? – спросила она чуть слышным вздохом, прижимаясь к нему все крепче и крепче.
Без мысли, без силы, без воли, ответил он таким же вздохом:
– Хочу!
На темных елях последний луч солнца погас, и золотые тучки посерели, как пепел. Воздух дохнул благовонною влажностью. Лес приосенил их дремучею тенью. Земля укрыла высокими травами.
А ему казалось, что лес и трава, и земля, и воздух, и небо – все горит огнем последнего пожара, которым должен истребиться мир – огнем красной смерти. Но он уже не боялся и верил, что краше Солнца Красная Смерть.
IV
Скит опустел. Иноки разбежались из него, как муравьи из разоренного муравейника.
Самосожженцы собрались в часовню, стоявшую в стороне от скита, на высоком холме, так что приближение команды не могли не заметить издали.
Это был сруб из очень ветхого сухого леса, построенный так, чтоб из него нельзя было во время гари «выкинуться». Окна – как щели. Двери – такие узкие, что едва мог войти в них один человек. Крыльцо и лестницу сломали. К дверям прикрепили щиты для запора. На окна опустили слеги и запуски – все из толстых бревен. Потом стали поджогу прилаживать: набросали кудель, солому, пеньку, смолье, бересту; стены обмазали дегтем; в особых деревянных желобах, обнимавших строение, насыпали пороху, а несколько фунтов оставили про запас, чтобы в последнюю минуту рассыпать по полу дорожками. На крышу поставили двух караульных, которые должны были, сменяясь, днем и ночью сторожить, не идут ли гонители.
Работали радостно, словно готовились к празднику. Дети помогали взрослым. Взрослые становились, как дети. И все были веселы, точно пьяны. Веселее всех Петька Жизла. Он работал за пятерых. Высохшая рука его, с казенным клеймом, печатью Зверя, исцелялась, начинала двигаться.
Старец Корнилий бегал, сновал, как паук в паутине. В глазах его, таких светлых, что, казалось, они должны в темноте светиться, как зрачки у кошки – с тяжелым и ласковым взглядом, были странные чары: на кого эти глаза смотрели, тот становился без воли и творил волю старца во всем.
– Ну-ка, дружнее, ребятушки! – шутил он с насмертниками. – Я старик-кряжик, а вы детки-подгнедки: взъедем прямо на небо, что Илья пророк на колеснице огненной!
Когда все было готово, стали запираться. Окна, кроме одного, самого узкого, и входные двери забили наглухо. Все слушали в молчании удары молотка: казалось, что над ними, живыми, заколачивают крышку гроба.
Только Иванушка-дурачок пел свою вечную песенку:
Древян гроб сосновен
Ради меня строен.
Буду в нем лежати,
Трубна гласа ждати.
Желавшим исповедаться старец говорил:
– Полно-ка, детушки! Чего-де вам каяться? Вы теперь, как ангелы Божьи, и паче ангелов – по слову Давидову – аз рече: вы вози есте. Победили всю силу вражью. Нет над вами власти греха. Уже согрешить не можете. И аще бы кто из вас отца родного убил да соблудил с матерью – свят есть и праведен. Все очистит огонь!
Старец приказал Тихону читать Откровение Иоанново, которое никогда ни на каких церковных службах не читается.
– И видех небо ново и землю нову: первое бо небо и земля первая приидоша. И рече Седяй на престоле: се нова вся творю. И глагола ми: напиши, яко сии слова истинна и верна суть. И рече ми: совершишася.
Тихон, читая, испытывал знакомое чувство конца, с такою силою, как еще ни разу в жизни. Ему казалось, что стены сруба отделяют их от мира, от жизни, от времени, как стены корабля от воды: там, извне, еще продолжается время, а здесь оно уже остановилось, и наступил конец – совершилося.
– Вижу… вижу… вижу… ох, батюшки миленькие! – прерывая чтение, закричала Киликея кликуша, вся бледная, с искаженным лицом и неподвижным взором широко открытых глаз.
– Что видишь, мать? – спросил старец.
– Вижу град великий, святый Иерусалим, нисходящ с небеси от Бога, подобен камени драгому, яко камени яспису кристалловидну, и смарагду, и сапфиру, и топазию. И двенадцать врат – двенадцать бисеров. И стогны града – злато чисто, яко стекло пресветло. А солнца нет, но слава Божия просвещает все. Ох, страшно, страшно, батюшки!.. Вижу Лицо Его светлее света солнечного… Вот Он, вот Он!.. К нам идет!..
И слушавшим ее казалось, что они видят все, о чем она говорит.
Когда наступила ночь, зажгли свечи и, стоя на коленях, запели тропарь:
– Се Жених грядет во полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяща. Блюди убо, душе моя, да не сном отяготися, да не смерти предана будеши и Царствия вне затворишися; но воспряни, зовущи: свят, свят, свят. Боже, Богородицею помилуй нас. День он страшный помышляюще, душе моя, побди, вжигающе свешу твою, елеем просвещаюши; не веси бо, когда приидет к тебе глас глаголящий: се Жених!
Софья, стоя рядом с Тихоном, держала его за руку. Он чувствовал пожатие трепетной руки ея, видел на лице ее улыбку застенчивой радости: так улыбается невеста жениху под брачным венцом. И ответная радость наполнила душу его. Ему казалось теперь, что прежний страх его – искушение бесовское, а воля Господня – красная смерть: ибо, кто хочет душу свою спасти, погубит ее, а кто погубит душу свою, Меня ради и Евангелия, тот спасет ее.
Ждали в ту же ночь прихода команды. Но она не пришла. Настало утро и, вместе с ним – усталость, подобная тяжелому похмелью.
Старец зорко следил за всеми. Кто унывал и робел, тем давал катыши, вроде ягод, из пахучего темного теста, должно быть, с одуряющим зельем. Съевший такую ягоду приходил в исступление, переставал бояться огня и бредил им, как райским блаженством.
Чтоб ободрить себя, рассказывали о несравненно, будто бы, более страшной, чем самосожжение, голодной смерти в морильнях.
Запощеванцев, посхимив, сажали в пустую избу, без дверей, без окон, только с полатями. Чтоб не умертвили себя, снимали с них всю одежду, пояс и крест. Спускали в избу потолком и потолок закрепляли, чтоб кто не «выдрался». Ставили караульных с дубинами. Насмертники мучились по три, по четыре, по шести дней. Плакали, молили: «дайте нам есть!» Собственное тело грызли и проклинали Бога.
Однажды двадцать человек, посаженных в ригу, что стояла в лесу для молотьбы хлеба – как стало им тошно, взявши каменья, выбили доску и поползли вон; а сторожа дубинами по голове их били и двоих убили, и загородивши дверь, донесли о том старцу: что с ними делать велит? И велел соломой ригу окласть и сжечь.
– Куда-де легче красная смерть: сгоришь – не почувствуешь! – заключали рассказчики.
Семилетняя девочка Акулька, все время сидевшая смирно на лавке и слушавшая внимательно, вдруг вся затряслась, вскочила, бросилась к матери, ухватила ее за подол и заплакала, закричала пронзительно:
– Мамка, а, мамка! Пойдем, пойдем вон! Не хочу гореть!..
Мать унимала ее, но она кричала все громче, все неистовее:
– Не хочу гореть! Не хочу гореть!
И такой животный страх был в этом крике, что все содрогнулись, как будто вдруг поняли ужас того, что совершалось.
Девочку ласкали, грозили, били, но она продолжала кричать и, наконец, вся посиневшая, задохшаяся от крика, упала на пол и забилась в судорогах.
Старец Корнилий, склонившись над ней, крестил ее, ударял четками и читал молитвы на изгнание беса.
– Изыде, изыде, душе окаянный!
Ничто не помогало. Тогда он взял ее на руки, открыл ей рот насильно и заставил проглотить ягоду из темного теста. Потом начал тихонько гладить ей волосы и что-то шептал на ухо. Девочка мало-помалу затихла, как будто заснула, но глаза были открыты, зрачки расширены, и взор неподвижен, как в бреду. Тихон прислушался к шепоту старца. Он рассказывал ей о царствии небесном, о райских садах.
– А малина, дяденька, будет? – спросила Акулька.
– Будет, родимая, будет, во какая большущая – каждая ягодка с яблоко – и душистая да сладкая, пресладкая.
Девочка улыбалась. Видно было, что у нее слюнки текут от предвкушения райской малины. А старец продолжал ее ласкать и баюкать с материнскою нежностью. Но Тихону чудилось в светлых глазах его что-то безумное, жалкое и страшное, паучье. «Словно к мухе паук присосался!» – подумал он.
Наступила вторая ночь, а команда все еще не приходила.
Ночью одна старица выкинулась. Когда все заснули, даже сторожа, она взлезла к ним на вышку, хотела спуститься на связанных платках, но оборвалась, упала, расшиблась и долго стонала, охала под окнами. Наконец, замолкла, должно быть, отползла, или прохожие подобрали и унесли.
В часовне было тесно. Спали на полу вповалку, братья на правой, сестры на левой стороне. Но греза ли сонная, или наваждение бесовское – только в середине ночи стали шнырять в темноте осторожные тени, справа налево и слева направо.
Тихон проснулся и прислушался. За окном пел соловей, и в этой песне слышалась лунная ночь, свежесть росистого луга, запах елового леса, и воля, и нега, и счастье земли. И точно в ответ соловью, слышались в часовне странные шепоты, шелесты, шорохи, звуки, подобные вздохам и поцелуям любви. Силен, видно, враг человеческий: не угашал и страх смерти, а распалял уголь грешной плоти.
Старец не спал. Он молился и ничего не видел, не слышал, а если и видел, то, верно, прощал своих «бедненьких детушек»:
«Един Бог без греха, а человек немощен – падает, яко глина, и восстает, яко ангел. Не то блуд, еже с девицею, или вдовицею, не то блуд, еже в вере блудить: не мы блудим, егда телом дерзаем, но церковь, когда ересь держит».
Тихону вспомнился рассказ о том, как два старца увели одну девушку в лес, верст за двадцать, и среди леса начали нудить: «Сотвори с нами, сестра. Христову любовь». «Какую, говорит, любовь Христову имею с вами творить?» «Буди, говорят, с нами совокуплением плотским – то есть любовь Христова». Плачет девица: «Бога побойтесь!» А старцы утешают: «Огонь-де нас очистит». Еще бедная упрямится, а они запрещают: «Аще не послушаешь, венца не получишь!»
Вдруг Тихон почувствовал, что кто-то обнимает его и прижимается к нему. Это была Софья. Ему стало страшно. Но он подумал: все очистит огонь. И ощущая сквозь черную скитскую ряску теплоту и свежесть невинного тела, припал к ее устам устами с жадностью.
И ласки этих двух детей в темном срубе, в общем гробу, были так же безгрешны, как некогда ласки пастушка Дафниса и пастушки Хлои на солнечном Лесбосе.
А Иванушка-дурачок, сидя в углу на корточках, со свечою в руках и мерно покачиваясь, ожидая «петелева глашения», пел свою вечную песенку:
Гробы вы, гробы, колоды дубовые,
Всем есте, гробы, домовища вечные!
И соловей тоже пел, заливался о воле, о неге, о счастье земли. И в этом соловьином рокоте слышался как будто нежный и лукавый смех над гробовою песнью дурачка Иванушки.
И вспомнилась Тихону белая ночь, кучка людей на плоту над гладью Невы, между двумя небесами – двумя безднами – и тихая, томная музыка, которая доносилась по воде из Летнего сада, как поцелуи и вздохи любви из царства Венус:
Покинь, Купидо, стрелы:
Уже мы все не целы,
Но сладко уязвленны
Любовною стрелою
Твоею золотою,
Любви все покоренны.
Перед рассветом восьмидесятилетний старик Миней хотел тоже выкинуться. Его поймал Кирюха. Они подрались, и Миней едва не зарубил Кирюху топором. Старика связали, заперли в чулане. Он кричал оттуда и бранил старца Корнилия непристойною бранью.
Когда на заре Тихон выглянул в окошко, чтобы узнать, не пришла ли команда, то увидел лишь пустынную, залитую солнцем поляну, ласково-хмурые, сонные ели и лучезарную радугу в каплях росы. На него пахнуло такой благовонною свежестью хвои, таким нежным теплом восходящего солнца, таким кротким затишьем голубого неба, что опять показалось ему все, что делалось в срубе, сумасшедшим бредом, или злодейством.
Опять потянулся долгий летний день, и напала на всех тоска ожидания.
Грозил голод. Воды и хлеба было мало – только куль ржаных сухарей, да корзины две просфор. Зато вина много, церковного красного. Его пили с жадностью. Кто-то, напившись, затянул вдруг веселую кабацкую песню. Она была ужаснее самого дикого вопля.
Начинался ропот. Сходились по углам, перешептывались и смотрели на старца недобрыми глазами. А что, если команда не придет? Умирать, что ли, с голоду? Одни требовали, чтобы выломали дверь и послали за хлебом; но в глазах у них видна была тайная мысль: убежать. Другие хотели зажечься тотчас, не дожидаясь гонителей. Иные молились, но с таким выражением в лице, точно богохульствовали. Иные, наевшись ягод с дурманом, которые старец раздавал все чаще, бредили – то смеялись, то плакали. Один парень, придя в исступление, бросился, схватил свечу, горевшую перед образом, и начал зажигать поджогу. Едва потушили. Иные целыми часами сидели в молчанье, в оцепенении, не смея смотреть друг другу в глаза.
Софья сидя рядом с Тихоном, который лежал на полу, ослабев от бессонных ночей и от голода, напевала унылую песенку, которую пели хлысты на радениях – о великом сиротстве души человеческой, покинутой в жизни, как в темном лесу, Господом Батюшкой и Богородицей Матушкой:
Тошным было мне, тошнехонько,
Грустным было мне, грустнехонько.
Мое сердце растоскуется,
Мне к Батюшке в гости хочется.
Я пойду, млада, ко Батюшке,
Что текут ли реки быстрые,
Как мосты все размостилися.
Перевозчики отлучилися.
Мне пришло, младой, хоть вброд брести.
Как вброд брести, обмочитися,
У Батюшки обсушитися.
Мое сердце растоскуйся,
Сердечный ключ подымается;
Мне к Матушке в гости хочется,
Со любезною повидеться,
Со любезною побеседовать.
И песня кончалась рыданием:
Пресвятая Богородица,
Упроси, мой Свет, об нас!
Без Тебя, мой Свет, много грешных на земле,
На сырой земле, на матушке,
На сударыне кормилице!
Никто их не видел. Софья склонила голову на плечо Тихона, прислонилась щекой к щеке его, и он почувствовал, что она плачет.
– Ох, жаль мне тебя, жаль, Тишенька родненький! – шептала ему на ухо. – Загубила я твою душеньку, окаянная!.. Хочешь бежать? Веревку достану. Аль старцу скажу: подземный ход есть в лес – он тебя выведет…
Тихон молчал в бесконечной усталости и только улыбался ей сонною детской улыбкою.
В уме его проносились далекие воспоминания, подобные бреду: самые отвлеченные математические выводы: почему-то теперь он особенно чувствовал их стройное и строгое изящество, их ледяную прозрачность и правильность, за которую, бывало, старый Глюк сравнивал математику с музыкой – с хрустальною музыкой сфер. Припомнился также спор Глюка с Яковом Брюсом о Комментариях Ньютона к Апокалипсису и сухой, резкий, точно деревянный, смех Брюса, и слова его, которые отозвались тогда в душе Тихона таким предчувственным ужасом: «В то самое время, когда Ньютон сочинял свои Комментарии, – на другом конце мира, именно здесь, у нас, в Московии, дикие изуверы, которых называют раскольниками, сочиняли тоже свои комментарии к Апокалипсису и пришли почти к таким же выводам, как Ньютон. Ожидая со дня на день кончины мира и второго пришествия, одни из них ложатся в гробы и сами себя отпевают, другие сжигаются. Так вот что, говорю я, всего любопытнее: в этих апокалипсических бреднях крайний Запад сходится с крайним Востоком и величайшее просвещение – с величайшим невежеством, что действительно, могло бы, пожалуй, внушить мысль, что конец мира приближается, и что все мы скоро отправимся к черту!» И новый, грозный смысл приобретало пророчество Ньютона: «Hypotheses nоn fungo! Я не сочиняю гипотез!» Как мотылек, летящий на огонь, комета упадет на солнце – и от этого падения солнечный жар возрастет до того, что все на земле истребится огнем. В Писании сказано: небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Тогда исполнятся оба пророчества – того, кто верил, и того, кто знал». Припомнилось ветхое, изъеденное мышами октаво из библиотеки Брюса, под номером 461, с безграмотной русскою надписью: «Лионардо Давинчи трактат о живописном письме на немецком языке», и вложенный в книгу портрет Леонардо – лицо Прометея, или Симона Мага. И вместе с этим лицом – другое, такое же страшное – лицо исполина в кожаной куртке голландского шкипера, которого однажды встретил он в Петербурге на Троицкой площади у кофейного дома Четырех Фрегатов – лицо Петра, некогда столь ненавистное, а теперь вдруг желанное. В обоих лицах было что-то общее, как бы противоположно-подобное: в одном – великое созерцание, в другом – великое действие разума. И от обоих лиц веяло на Тихона таким же благодатным холодом, как от горных снегов на путника, изможденного зноем долин. «О физика, спаси меня от метафизики!» – вспоминалось ему слово Ньютона, которое твердил, бывало, пьяный Глюк. В обоих лицах было единое спасение от огненного неба Красной Смерти – «земля, земля, Мати сырая».
Потом все смешалось, и он заснул. Ему приснилось, будто бы он летит над каким-то сказочным городом, не то над Китежем-градом, или Новым Иерусалимом, не то Стекольным, подобным «стклу чисту и камени иаспису кристалловидну»; и математика – музыка была в этом сияющем Граде.
Вдруг проснулся. Все суетились, бегали и кричали с радостными лицами.
– Команда, команда пришла!
Тихон выглянул в окно и увидел вдали, на опушке леса, в вечернем сумраке, вокруг пылавшего костра, людей в треуголках, в зеленых кафтанах с красными отворотами и медными пуговицами: это были солдаты.
– Команда, команда пришла! Зажигайся, ребята! С нами Бог!









































