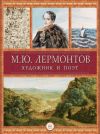Читать книгу "Юрий Ларин. Живопись предельных состояний"

Автор книги: Дмитрий Смолев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Когда мы пришли на выставку, у своих полотен Н. И. встретил художника Юона. Работы Юону понравились. «Бросьте заниматься политикой, – сказал Константин Федорович Н. И., – политика ничего хорошего не сулит, занимайтесь живописью. Живопись – ваше призвание!»
Трудно оценить, насколько мнение Юона было чистосердечным: в семье сохранилось лишь несколько бухаринских работ – судьба остальных не известна. Зато о художественных способностях другого представителя рода, дяди Николая Бухарина, можно судить со всей определенностью и на конкретном визуальном материале. Как писал много позже Юрий Ларин: «Счастье, что мой двоюродный дед Свищов-Паола был знаменитым фотографом, запечатлевшим многих общественных и культурных деятелей». Николай Свищов-Паола, кстати, являлся одним из адептов пикториализма – направления в фотографии, ориентированного на сближение светописи с живописью и графикой. Юрий Николаевич вообще держался мнения, что тяга к художественному творчеству у него наследственная.
* * *
Был у Анны с мужем и еще один примечательный совместный вояж – совершенно иного свойства, нежели алтайские каникулы. Не куда-нибудь, а в Париж. Сейчас бы прокомментировали: «по делу, срочно». Дело это было: 1) государственной будто бы важности; 2) чрезвычайно щепетильным; 3) сыгравшим в судьбе Бухарина роковую роль (впрочем, к тому моменту любое его действие или бездействие все равно уже оказывалось роковым). В феврале 1936 года лично Сталин поручил Николаю Ивановичу вести переговоры о выкупе у немецких социал-демократов архива Маркса и Энгельса. Поскольку архив этот после прихода к власти Гитлера был вывезен из Германии и рассредоточен в нескольких европейских городах, комиссия в составе Николая Бухарина, Владимира Адоратского и Александра Аросева через Берлин отправилась сначала в Вену, а оттуда в Копенгаген и Амстердам. В марте Бухарин прибыл в Париж, где ему предстояло задержаться. По телефону он принялся хлопотать, чтобы к нему на оставшееся время командировки выпустили жену – за счет личных средств, разумеется (о тратах валюты из государственной казны с его стороны не могло быть не только разговоров, но и помыслов). И Анне за несколько дней оформили выездную визу. В Париж она отправилась, будучи уже на последнем сроке беременности.
Путешествие Лариной, прежде не бывавшей за границей, можно было бы счесть даже по-своему романтическим – когда бы не изрядная нервность обстановки, на фоне которой оно протекало. Переговоры о покупке архива шли чрезвычайно трудно: посредники, главным из которых был эмигрант-меньшевик Борис Николаевский, запрашивали слишком высокую цену; участники делегации постоянно созванивались с Москвой, информируя Сталина о деталях происходящего торга. Бухарин опасался провокаций, поэтому все встречи старался назначать в гостинице «Лютеция», где жили московские эмиссары, и проводить их только в присутствии коллег. Правда, он все же порой терял осторожность, вступая в незапланированные контакты – например, с экономистом Рудольфом Гильфердингом. В своих мемуарах Анна Михайловна категорически, впрочем, настаивала: за те три с небольшим недели, что она пробыла в Париже, никаких «предательских разговоров» с кем-либо ее муж не вел и вести не мог. Однако в скором времени, как любил говаривать Иосиф Виссарионович, «у партии возникло другое мнение».
Вызвав жену в Париж, Бухарин старался использовать любую возможность, чтобы показать ей город и окрестности. Анне здесь понравилось, вот только портили впечатление участившиеся недомогания: то она упала в обморок в Лувре, прямо перед «Моной Лизой», то простудилась в Версале – и пришлось ее с высокой температурой госпитализировать в пригородный санаторий. Муж тогда отставил все парижские дела и несколько дней неотлучно дежурил у ее постели.
Много позже в семье утвердилась легенда (больше похожая на поверье: надежных подтверждений этой гипотезы никогда не возникало), что Сталин, отправляя Бухарина за границу, да еще вместе с беременной женой, втайне надеялся, что тот окажется «невозвращенцем». Дескать, подобный сценарий был бы вождю очень даже на руку: предательство экс-лидера «правой оппозиции» налицо, так что можно уверенно и с полным основанием уничтожать его былых союзников. Ни спорить с такой версией, ни подыскивать аргументы в ее пользу мы не возьмемся. Если и существовал подобный «план А», то он не сработал: семья Бухариных в полном составе вернулась в Москву накануне майских праздников 1936-го. И через неделю с небольшим этот состав расширился. На свет появился младенец, которого назвали Юрием – в честь приемного отца Анны Лариной (напомним, имя «Юрий» было его партийным псевдонимом), к тому времени уже умершего и захороненного у кремлевской стены.
А в отношении Бухарина вскоре был запущен «план Б», говоря опять же условно. В любом случае действие разыгрывалось как по нотам. Свое место в «партитуре» нашлось и обстоятельствам той заграничной командировки… Достоверно известно, что из Парижа комиссия была отозвана телеграммой от имени Политбюро – весьма недвусмысленного содержания: «Десять миллионов франков считаем крайней ценой на архив, считая и оплату посредников. Не можем добавить ни одной копейки. Кончайте поскорее сделку на этой базе либо прекратите переговоры и выезжайте в Москву немедля все четверо». Сделка так и не состоялась, эмиссары отбыли на родину. В конце концов, два года спустя архив Маркса – Энгельса, имевший для большевиков скорее символическое значение, как своего рода «чаша Грааля», у немецких социал-демократов приобрел Международный институт социальной истории, незадолго до того основанный в Амстердаме. Итак, порученную миссию исполнить не удалось, но формальных претензий к Бухарину поначалу не возникало.
И все же «парижский след» оказался роковым – по крайней мере, исходя из канвы дальнейших событий. Почти сразу среди партийцев верхнего эшелона распространился слух, что Бухарин за рубежом вел себя неосмотрительно, проводя несанкционированные встречи и допуская антисоветские высказывания. А сигналом к окончательной над ним расправе стала публикация в двух номерах – за декабрь 1936‐го и январь 1937‐го – эмигрантского меньшевистского журнала «Социалистический вестник» (с членом его редколлегии Борисом Николаевским, как уже говорилось, Бухарин неоднократно общался в Париже). Анонимное «Письмо старого большевика», подписанное инициалами «Y. Z.», было составлено и преподнесено таким образом, чтобы у сведущего и наблюдательного читателя не возникало сомнений: за острой критикой сталинского режима кроется фигура Николая Бухарина. В частности, некоторые пассажи содержали почти прямые цитаты из его публичных высказываний времен оппозиционного противостояния Сталину. Читатели в Кремле, конечно, оказались и наблюдательными, и сведущими – не исключено, впрочем, что и заказчики публикации происходили оттуда же. До сих пор история с «Письмом» остается мутной, не получившей убедительной разгадки. Если авторство Николаевского едва ли кто из современных исследователей подвергает сомнению, то считать этот текст достоверным пересказом бухаринских откровений (особенно учитывая, что Николаевский продолжал быть в глазах Бухарина «идейным противником») согласны далеко не все из них.
Так или иначе, Бухарина «подставили» – и дело, предусмотрительно уже заведенное на него вместе с «соучастниками» в лице Алексея Рыкова и Михаила Томского (тот застрелился, не дожидаясь ареста), двинулось в сторону нового политического процесса, не менее громкого и беспощадного, чем недавний показательный суд над участниками «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра».
В такой обстановке начинал познавать и осваивать мир новорожденный Юрий Николаевич Бухарин.
Мемуары Анны Лариной, относящиеся к тому периоду, настолько проникнуты трагическими предощущениями (и последующими рефлексиями), что от милого, сентиментального жанра материнских наблюдений «за развитием малыша» здесь нет почти ничего. Юра всегда упоминается в психологически не отменимой связке с отцом, чьи месяцы жизни сочтены – и тот уже уверен в гибельном исходе, только пока не знает, когда и как именно это случится. «Он стал легкоранимым, заболевал от нервного напряжения», – пишет Ларина. На страницах ее воспоминаний то и дело возникают фразы наподобие: «Первое слово Юры было „папа“. „Торопится, – как-то заметил Николай Иванович, – скоро папой будет называть некого“». И еще он просит воспитать сына «обязательно большевиком»… Даже в ситуации объявленной голодовки, когда Бухарин то сидел за письменным столом с заряженным револьвером в руке, то настоятельно просил, чтобы Анютка слово в слово заучила его политическое завещание (и она заучила навсегда) – даже в это время он не допускает мысли, что с его семьей что-то может произойти.
Да и жена его о подобном не думала: «В отношении себя я, по наивности, должно быть, никаких репрессий не ждала». И писала вождю в предельно свободной форме, чтобы тот помог хоть чем-то, повлиял на ситуацию: «Тов. Сталин, дорогой, я прямо умоляю Вас что-нибудь сделать, нельзя ли позвонить, сказать, что голодовка ему запрещена. Тогда, я думаю, он подчинится. Или что-нибудь другое, что Вы сочтете возможным. Ведь я, как дважды два четыре, знаю, что Ник. ни в чем не виноват, оттого так мучительно переживает он эти ужасные обвинения». Она отстукивала этот текст на пишущей машинке втайне от мужа, используя запредельные, абсолютно запрещенные приемы (оцените хотя бы такой пассаж: «Он уже ненормальный человек и не судите его за это строго») – однако из контекста заметно, что право просить за мужа перед любой инстанцией, перед кем угодно, для нее непреложно. Мол, да, это все какие-то ваши мужские игры и разборки (тут в чистом виде игра уже женская: на самом деле Анна знакома с очень многими деталями и обстоятельствами). Она пытается включить особые регистры: вы же давние друзья, соратники по революции, и пусть «Ник.» несколько не в себе сейчас из‐за чьих-то несправедливых наветов, все еще можно без труда исправить, правда ведь?
Но пришли и за ней – причем задолго до того, как Николаю Ивановичу с «подельниками» был вынесен приговор. Хотя забрали не сразу. Для начала, буквально в день его задержания на партийном пленуме, в их кремлевской квартире произвели тотальный обыск с полным изъятием бухаринского архива. Подверглись личному досмотру все, кто обитал в доме: и отец арестованного, Иван Гаврилович, и первая жена Бухарина, Надежда Михайловна Лукина (вскоре после обыска она написала три письма Сталину в защиту бывшего мужа, после чего отправила почтой на имя генсека свой партийный билет; несмотря на тяжелейшую инвалидность, ее арестовали в 1938‐м и расстреляли двумя годами позже). Единственным человеком, кто выразил бурное возмущение происходящим в квартире, оказалась Прасковья Ивановна Иванова, Юрина няня, прозванная в семье Пашей: «Шукайте! Шукайте! Ничего здеся не найдете, бесстыдники!» Почти сутки сотрудницы госбезопасности перелистывали книги в домашней библиотеке. «Я несколько дней лежала как мертвая», – вспоминала Ларина. Однако в тот раз никого из родственников Бухарина не увезли.
Довольно скоро Анна взяла себя в руки и попробовала хоть что-то разузнать о судьбе мужа. Не с первой попытки, но все же обозначилось подобие обратной связи: ее адресовали на Лубянку, к следователю Когану. При встрече тот передал ей записку с узнаваемым бухаринским почерком:
Обо мне не беспокойся. Меня здесь всячески обхаживают и за мной ухаживают. Напиши, как вы там? Как ребенок? Сфотографируйся с Юрой и передай мне фотографию. Твой Николай.
Анна была шокирована неестественностью слога, но написала короткое ответное письмецо и попросила разрешения принести фотографию, когда та будет готова. Следователь назвал срок – через две недели. И даже дал телефон для связи, однако на бесчисленные звонки ни разу не ответил; в конце концов посторонний голос сообщил, что следователь Коган находится «в длительной командировке».
Больше никаких известий от Бухарина его жена не получала. Вернее, все-таки получила потом – через полвека, когда ей было позволено ознакомиться в закрытом архиве с тюремной корреспонденцией мужа. Среди бумаг, в частности, содержалось развернутое письмо, адресованное «милой, дорогой Аннушке» и подписанное «твой Колька» – не то, что в лубянской записке. Постскриптум гласил:
Карточка твоя у меня есть, с малышом. Поцелуй Юрку от меня. Хорошо, что он не читает. За дочь тоже очень боюсь. О сыне скажи хоть слово – вероятно, вырос мальчонка, а меня и не знает. Обними его и приласкай.
Письмо датировано 15 января 1938 года. К тому моменту Ларина уже была этапирована в лагерь, об участи сына она ничего знать не могла. В августе того же 1938-го, находясь в камере новосибирского тюремного изолятора, куда ее на несколько месяцев без объяснений перевели из лагеря в Томской области, она написала заявление на имя наркома Ежова, завершавшееся фразой: «Расстреляйте меня, я жить не хочу!» А вскоре после того сочинила для сына несколько четверостиший о его казненном отце, надеясь, что стихотворное послание все же попадет к адресату и будет им когда-нибудь прочитано. Однако письмо, скорее всего, даже не вышло за пределы изолятора: на очередном допросе автору вменили в вину еще и это стихотворение. Много лет спустя Анна Михайловна сетовала, что смогла запомнить лишь фрагмент того сочинения – его она и воспроизвела в книге «Незабываемое»:
Он любил полей просторы,
Водопады горных рек,
Он любил ходить по тропам,
Где не ходит человек!
Знал он каждой птички пенье,
Каждой ласточки полет,
Он был быстр в своих движеньях,
Как крылатой мысли взлет.
И снега Памира знали
Его бодрый, смелый след,
Он был юн своей душою,
Как мальчишка в двадцать лет.
Кисть послушная бросала
На полотнища картин
Ледяные покрывала
Голубых, седых вершин.
Он был многими любимый,
Но и знал больших врагов,
Потому что он, гонимый,
Мысли не любил оков!
Ты теперь большой – шагаешь,
Так похожий на него,
На того, о ком не знаешь,
Мой малютка, ничего!
Однако весной и в начале лета 1937‐го мать с сыном еще были вместе. Выселение домочадцев Бухарина из квартиры в Кремле, разумеется, не заставило себя ждать. Определили их, правда, недалеко – на противоположный берег Москвы-реки, за Большим Каменным мостом. Семейству в том же составе – Анна, Юра, Иван Гаврилович Бухарин и Надежда Михайловна Лукина – выделили квартиру № 470 в Доме на набережной (хотя так его никто не называл вплоть до публикации повести Юрия Трифонова в середине 1970‐х; изначально он именовался Домом правительства, лишь впоследствии образное наименование приросло и закрепилось). Формально это был еще совсем новый архитектурный комплекс с престижной жилплощадью, однако по обстоятельствам 1937 года – фактически тюремный «предбанник». Анна не могла не замечать, сколь немыслимые обороты, прямо здесь и сейчас, стал набирать механизм репрессий. В той или иной степени она была с детства знакома чуть ли не со всей большевистской элитой – с семьями наркомов, военачальников, дипломатов. Теперь со многими из них происходило что-то страшное, необъяснимое. Но вряд ли покажется удивительным, что молодая мать (и пока еще не вдова) гнала обобщения прочь, сосредоточившись на выживании своих близких: «Меня тревожило в основном то, что я не смогу устроиться на работу и прокормить ребенка». Верная няня Паша помогала по дому без денег: платить ей было нечем.
Хотя не так-то просто лишить дерзости яркую представительницу «золотой коммунистической молодежи», и вот она не отказывает себе в отчаянной иронии, отправляя записку на имя «всесоюзного старосты» Калинина: «Михаил Иванович! Фашистская разведка не обеспечила материально своего наймита – Николая Ивановича Бухарина, платить за квартиру не имею возможности, посылаю Вам неоплаченный счет». Повлиял ли именно этот выпад на дальнейшую судьбу Анны Лариной? Может быть, и нет; у Большого террора не существовало общепонятных правил. Но факт остается фактом: от оплаты столичных коммунальных услуг автора записки решили избавить. Можно предположить, что в здании по улице Серафимовича в тот период вообще было не до контроля за собираемостью коммунальных платежей. Как пишет историк Юрий Слезкин в документальной саге «Дом правительства», «жильцов выселяли, вселяли и снова выселяли. Семьи арестованных сселяли в освободившиеся квартиры и переселяли в другие дома. Комнаты опечатывались, заселялись и снова опечатывались». Присмотр за этим беспокойным хозяйством оказался делом не только сложным, но и рискованным: «комендант Дома В. А. Ирбе и начальник Хозяйственного управления ЦИК Н. И. Пахомов были арестованы», добавляет Слезкин.
В июне 1937‐го в квартиру, где временно обосновалась семья подследственного Бухарина, заявился представитель НКВД с постановлением за подписью наркома Ежова: Анне Михайловне Бухариной-Лариной предлагалось выехать в один из городов по выбору – Актюбинск, Акмолинск, Астрахань, Семипалатинск, Оренбург. Чекист вел себя подчеркнуто любезно, едва ли не сочувственно («Поезжайте в Астрахань, – посоветовал мне сотрудник НКВД, – там Волга, там рыба, фрукты, арбузы – великолепный город»). К удивлению курьера, Анна Михайловна арбузами и Волгой не прельстилась и вообще напрочь отказалась куда-либо уезжать из Москвы, мотивируя это тем, что сыну всего год и месяц.
Подобные фортели в означенном ведомстве не проходили, разумеется. Однако действовали здесь иногда все еще вежливо: через пару дней прислали комфортабельный автомобиль с приглашением «ненадолго» заглянуть на Лубянку. Беседу вели высокие чины из ежовского руководства – Фриновский и Матусов. Обещали, что ссылка будет короткой и нетрудной, со всеми удобствами, а уж если всерьез обсуждать возможность ее избежать, то хорошо бы для начала опубликовать в газетах письменное отречение от мужа. Ответом было: «Лучше Астрахань!» Туда Анну вскоре и отправили – с деревянным сундуком (его сдали в багаж), чемоданом и двумя рюкзаками. Но без сына. Последнее ее зрительное впечатление перед выходом из дверей квартиры: «„Добрый дядя“ держал его на руках, а Юра забавлялся блестящими побрякушками – значками на его груди».
* * *
Астраханская ссылка, как несложно догадаться, послужила лишь отправной точкой для последующих лишений и тягот, куда более страшных. Хотя уже и этот город – «душный, пыльный, весь в цветении белой акации» – не представлялся раем на земле никому из многочисленных москвичей, одномоментно там оказавшихся (Ларина не могла поверить и осознать поначалу, сколько их сгрудилось на небольшом астраханском «пятачке»). Им всем было там голодно, безденежно, тесно, неуютно – опять же из мемуаров Анны Михайловны: «Мы – местная сенсация, на нас показывали пальцами». Но еще оставалась относительная свобода передвижения и общения; пускай и с немалыми затруднениями, они могли все же устроиться куда-то на работу и самостоятельно снять жилье.
Одно время Ларина обитала по адресу: Набережная 1‐го Мая, дом 123, квартира 3. Улица, протянувшаяся вдоль искусственной волжской протоки, доведенной до ума в начале XIX века (когда-то Варвациевский канал, или в просторечии «Канава»), и сейчас не сильно изменилась по сравнению с предвоенными временами. Та же дореволюционная застройка – мещанские или купеческие домишки, зачастую с балконом на втором этаже, те же деревья вдоль тротуаров. Все довольно обшарпанное, кое-где даже почти руинированное, зато преимущественно аутентичное. Велика была вероятность, что сохранился и дом по упомянутому адресу, так что, оказавшись в Астрахани, автор этих строк, движимый любопытством, добрел по набережной до строения под номером 123. Увы, именно здесь в исторической застройке образовалась брешь: на этом месте, в глубине участка за каменным забором, теперь красуется новодельный кирпичный особнячок с мансардой и черепичной крышей.
А в 1937‐м (и наверняка еще десятилетия после) тут стоял типичный для старой Астрахани купеческий дом, при советской власти поделенный на несколько квартир. В одной из них Анне удалось снять комнату у хозяина – рабочего местного пароходства. Можно сказать, ей повезло: вообще-то горожане категорически отказывались сдавать жилье прибывшим ссыльным, не без оснований предполагая, что в случае чего могут и сами угодить «под раздачу». Обывательские опасения оказались не напрасными: уже 5 сентября среди московских «жен врагов народа» прокатилась первая волна арестов. Хозяин тут же велел Анне Лариной съезжать из комнаты, и она вроде подыскала другой вариант, а заодно и сумела найти наконец работу – ей пообещали должность секретаря на рыбоконсервном заводе.
Однако 21 сентября в квартиру постучались сотрудники НКВД во главе с капитаном госбезопасности Лехемом – так записано в протоколе обыска, который через много лет обнаружился в архивном деле. При чекистах имелся и ордер на арест, где утверждалось, что Анна Ларина «достаточно изобличается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 58 п. 10 и 12 УК РСФСР». Отсюда мораль: «Мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать содержание под стражей в Астраханской тюрьме». С означенной тюрьмы началось то, что Анна Михайловна назвала впоследствии своим «адовым путем». В декабре постановлением Особого совещания ей назначили восемь лет заключения, и она двинулась по этапу в Томскую область.
Я была отправлена в лагерь до осуждения Бухарина. Я долго ждала процесса – целый год. Я понимала, что приговор будет смертным, другого не ждала и молила о скорейшем конце, чтобы прекратились мучения Николая Ивановича.
В астраханской ссылке, после общения с собратьями и особенно сестрами по несчастью, у нее развеялись последние иллюзии насчет мужей – и своего, и других. Стало окончательно ясно: не пощадят никого.
А собственный лагерный опыт ей еще только предстоял. Совсем незадолго до ареста приемная мать успела отправить ей из Москвы посылку с теплыми вещами (сама Елена Григорьевна вскоре тоже была арестована). Среди содержимого оказалась теплая пыжиковая ушанка – не лишний предмет для сибирских условий. Анна сразу вспомнила, откуда она взялась: когда-то Бухарин из гардероба после партийной конференции по ошибке прихватил шапку Сталина вместо своей, похожей. Думал с Кобой поменяться обратно, да как-то не вышло… Сталинская ушанка, которую Ларина называла «мое случайное наследство», прослужила ей буквально все зимы, проведенные за колючей проволокой.
О процессе над участниками «Антисоветского правотроцкистского блока» (кроме Николая Бухарина и Алексея Рыкова, на скамье подсудимых оказались еще 19 человек, в том числе бывший нарком внутренних дел Генрих Ягода) написаны горы исследований. Наверное, нет надобности пересказывать здесь подробности. Сухая справочная информация: процесс начался 2 марта 1938 года в Москве, в Октябрьском зале Дома союзов. Да, как и многие остальные, Николай Бухарин вину свою признал, – и даже подводил под нее собственные обоснования, которые не были учтены следствием. В его случае демагогический призыв «разоружиться перед партией» оказал ровно тот гипнотический эффект, на который и был рассчитан. Парадоксальным образом он попытался, признав все обвинения, сохранить преданность «революционному ордену», как он назвал когда-то партию – или же «милленаристской секте», если воспользоваться формулировкой из упомянутой выше книги Юрия Слезкина. Военная коллегия Верховного суда СССР под председательством Василия Ульриха всех подсудимых признала виновными; 18 из них приговорили к высшей мере наказания, троим назначили длительные сроки заключения (в итоге их все равно расстреляли, но позже). Процесс завершился 13 марта, и уже через два дня приговор в отношении Бухарина был приведен в исполнение.
Еще до начала суда над Николаем Ивановичем его сын, будучи полутора лет от роду, угодил в детприемник НКВД. При каких обстоятельствах, мы не знаем. Вероятнее всего, произошло это вскоре после ареста Лариной в Астрахани. Зато известно, кто сумел выцарапать из казенного приюта младенца, буквально погибавшего от недоедания и отвратительного ухода. Няня Паша, та самая Прасковья Ивановна Иванова, что не так давно орала при обыске на «бесстыдников», разыскала Юру и, заручившись письмом его деда, Ивана Гавриловича Бухарина, вернула мальчика домой. Звучит не очень-то правдоподобно, но вышло именно так. Бывали няни и покруче Арины Родионовны.
Дед, однако, чувствовал себя уже совсем неважно: ему оставались считанные месяцы жизни. Ответственность за воспитание и содержание внука он не мог взять на себя при всем желании. И Юру забрали к себе родственники – супруги Гусманы, Борис Израилевич и Ида Григорьевна. Последняя была родной тетей Анны Лариной – соответственно, Юра приходился Иде Григорьевне внучатым племянником.
* * *
В тех трагических обстоятельствах Гусманы решили не посвящать мальчика в оттенки родственных связей и официально его усыновили. Со временем в документах появился «Юрий Борисович Гусман» – так было безопаснее для всех причастных, и в первую очередь для самого Юры. В этой семье он и подрастал, не ведая о своем действительном происхождении. Даже и много лет спустя, когда ему уже открылась реальная конфигурация, приемные родители по-прежнему оставались для него «папой» и «мамой Идой».
Тогда, в конце 1930‐х, предполагалось, вероятно, что это не навсегда, а до каких-нибудь «лучших времен». Вдруг Нюсю все же выпустят из заключения? Тем более доносятся слухи, что новый нарком внутренних дел Лаврентий Берия взялся «восстанавливать социалистическую законность», и кого-то действительно освобождают… Однако этому семейству, довольно многочисленному и разветвленному, дожидаться лучших времен пришлось долго. И многие испытания, как оказалось, были еще впереди, хотя после кошмаров 1937–1938 годов трудно было вообразить дальнейшее ухудшение ситуации.
Уничтожение Николая Бухарина и арест его жены – конечно, это был страшный удар по всем их близким, особенно учитывая всесоюзный резонанс от процесса над «антисоветским троцкистско-бухаринским блоком». Но удар этот оказался отнюдь не единственным. За месяцы Большого террора в застенки НКВД угодили четыре сестры Иды Гусман – каждая из них получила тот или иной лагерный срок, и встретиться вновь в Москве им довелось только в 1950‐е. У двоих, Марии и Берты, мужей репрессировали «по первой категории», если воспользоваться терминологией эпохи. Проще говоря, они были расстреляны. Владимир Павлович Милютин, некогда нарком земледелия в первом большевистском правительстве, впоследствии один из основателей советской статистики, удостоился высшей меры за «контрреволюционную деятельность», а Карл Генрихович Петермейер, немецкий коммунист, заведующий кафедрой иностранных языков в Институте красной профессуры, – понятное дело, за «шпионаж».
И это только по одной семейной линии, не столь уж близкородственной по отношению к Бухарину. С кровными же родственниками и бывшими женами Николая Ивановича расправлялись поэтапно: его младшего брата Владимира осудили в 1938‐м, первую жену Надежду Лукину расстреляли двумя годами позже, а вот за второй женой, Эсфирью Гурвич, и дочерью Светланой пришли уже в 1949‐м.
Чету Гусманов на пике террора по какой-то причине не тронули, однако не преминули и с них взять жертвенный «семейный налог»: в ноябре 1937‐го был заключен под стражу и в январе 1938‐го осужден на пять лет исправительных лагерей их сын Оскар – студент Военно-инженерной академии имени Куйбышева и воспитанник Московской консерватории по классу вокала.
Лишь в 2019 году его сын, Николай Оскарович Гусман, добился разрешения ознакомиться в Центральном архиве ФСБ с тогдашним следственным делом. Семейное предание получило документальное подтверждение: Оскар пострадал главным образом из‐за родства с Бухариным. Бывшему студенту – загодя, еще до ареста, отовсюду исключенному, – вменяли в вину распространение контрреволюционной литературы в среде антисоветски настроенной молодежи. В частности, в протоколе первого же допроса фигурирует книга Троцкого, привезенная Бухариным из Парижа. В диалоге с оперуполномоченным Оскар настаивает, что даже и не планировал читать эту книгу, но дознаватель тверд: «Вы говорите неправду, так как следствию известно, что о своем желании прочесть книгу Троцкого вы говорили Желнову (однокурснику по академии. – Д. С.)». В том же протоколе проглядывает нескрываемое желание выудить хоть какой-нибудь дополнительный компромат на Бухарина, тогда еще только дожидавшегося суда в тюремной камере. Однако в ответ на вопрос, кто посещал квартиру Бухарина, Оскар сообщает лишь нейтрально-банальную информацию, которая для громкого политического процесса явно никак не годилась, а на вопрос «какие велись разговоры при посещении этими лицами Бухарина?» отвечает предельно лаконично: «Я не знаю». Касательно собственной «антисоветской работы среди слушателей» пояснение тоже краткое: «Такой работы я не вел». Но и без всякого самооговора Оскара Гусмана осудили по статьям 58-1 «В» и 58–10 УК РСФСР – за контрреволюционную деятельность. В лагерях и на поселении он провел суммарно больше пятнадцати лет.
И вот в той невообразимой обстановке, когда для многих отречение от прежних дружб и опасных родственных связей казалось единственно благоразумной линией поведения, что же предпринимают Борис Израилевич с Идой Григорьевной? Самое неосмотрительное из того, что могло только прийти в голову. Разными путями и способами они собирают у себя в квартире на Большой Серпуховской улице (когда-то Гусман самолично этот дом проектировал и строил) детей репрессированных родственников. Не одного лишь Юру, но и еще двух девочек постарше, родных племянниц – Марианну и Аннель, тоже «членов семьи изменников родины», дочерей расстрелянных Милютина и Петермейера. «Они кормили нас, приютили в своей квартире. Мы с Марианной, моей двоюродной сестрой, могли закончить 10 классов и поступить в институт», – вспоминала Аннель Винокурова (Петермейер) больше шести десятилетий спустя.
Стандартное выражение наподобие «благородного поступка» в данном случае мало что описывает. Тут, помимо благородства, ощутимо какое-то обостренное восприятие кровных уз и взлет человечности в очень высоком смысле. И еще, пожалуй, это может расцениваться как попытка противостоять ударам судьбы. Причем попытка не только отчаянная, но и крайне опасная. Пусть даже и говорилось в приказе наркома Ежова № 00486 от 15 августа 1937 года насчет того, что «если оставшихся сирот пожелают взять другие родственники (не репрессируемые) на свое полное иждивение – этому не препятствовать», все же упомянутый тезис никак нельзя было тогда воспринимать в качестве гарантии неприкосновенности для усыновителей.