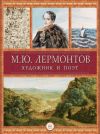Читать книгу "Юрий Ларин. Живопись предельных состояний"

Автор книги: Дмитрий Смолев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Предлагались и занятия по интересам. Выбор был не то чтобы колоссальный, однако с десяток различных кружков и секций набиралось. Заметным успехом пользовался златошвейный кружок – причем не только у девочек. «Помню, Васька Гусаченко вышил нитками огромную карту Советского Союза, так ее даже отправили в Москву, в музей подарков Сталину», – рассказывает Климов. Но в основном обходилось все-таки без циклопических форматов и столичных амбиций.
Как правило, мальчишки предпочитали спорт; в этой сфере доминировали вольные упражнения на гимнастических снарядах и, разумеется, футбол – вне конкуренции. Команда детского дома имени Рубена Ибаррури брала даже первенство по району. Футбольное поле воспитанники разбили у себя прямо в центральном дворе и гоняли мяч при малейшей возможности, насколько позволяли климат и расписание уроков. Юра Гусман и здесь оставался верен своей любви к футболу, зародившейся еще в Сталинграде, а вот иные атлетические забавы его не прельщали.
Я никогда не был спортивным человеком, хотя очень любил футбол, играл с удовольствием. Но не мог прыгнуть в высоту. Перешагнуть метр в высоту – это все, на что я был способен. Хорошо, что у нас был фантастический преподаватель физкультуры, Владимир Михайлович Толмачев. Он, во-первых, был влюблен в эту физкультуру, но, кроме того, прекрасный, добрый человек. Когда мы в 78‐м году встречались в детдоме, он мне сказал: «Знаешь, Юра, я наблюдал за тобой, когда ты приходил на урок, и иногда мне казалось, что ты голодный или вообще что-то с тобой не так, и мне было трудно на тебя смотреть». Были такие люди, которых мне бы хотелось назвать настоящими. Конечно, настоящие. Он же мог бы и не замечать ничего, а он замечал. Он сделал меня руководителем шахматной секции, хотя не могу сказать, что очень хорошо играл в шахматы в сравнении с другими. У нас были такие асы, как Владик Баринов, у которого был первый разряд.
Шахматы стали для Юры серьезным увлечением. Серьезным не в части даже побед на турнирах и поступательного движения вверх по разрядной сетке (хотя это важно в детстве), а ментально, что ли. Ольга Максакова, жена Юрия Ларина, предполагает, что играть он начал еще до детского дома – скорее всего, первым его учителем стал Борис Израилевич Гусман. А в Средней Ахтубе главным для него наставником в шахматах одно время была Мария Федоровна, дочь директора Кремневой. «Она приезжала на лето в детдом и работала у нас врачом. А все остальное время трудилась замечательная медсестра тетя Шура». Марию Федоровну Юра почитал как умелую, опытную шахматистку и пользовался любой возможностью сыграть с ней партию. Правда, на исход игры могла неожиданно повлиять профессиональная наблюдательность партнера: «Как-то играл с Марией Федоровной в шахматы, она говорит: „Юра, покажи пальцы. У тебя чесотка. Придется тебя в изолятор отправить“. Меня там мазали какой-то серой».
Этот «умственный спорт» вообще пользовался в детском доме популярностью, и можно допустить, что назначение руководителем секции было для Юры довольно существенно с позиции самоутверждения. Но вряд ли сам по себе статус играл определяющую роль: бескорыстная любовь к игре явно значила больше. Ольга Максакова со слов мужа свидетельствует:
Какое-то время он хотел стать настоящим шахматистом, решал шахматные задачи по доступным книжкам, помнил знаменитые партии и знаменитых шахматистов. Лет в шестнадцать понял, что профессионального шахматиста из него не выйдет, но для себя продолжал играть, составлять и решать задачи.
А Владимир Климов рассказывал так:
Юра меня научил играть в шахматы, я даже потом становился чемпионом района, но сам Юра соревноваться не рвался. Когда он поступил в институт, то вскоре приехал к нам – я как раз семь классов закончил. Мы с ним сидели и решали шахматные задачи из областной газеты. Я отправил ответы в газету, написал на конверте оба наших имени – Климов и Гусман. Кинул в почтовый ящик и вскоре забыл. А потом меня в школе спрашивают, мол, не я ли стал победителем шахматного конкурса. Показали мне газету, где я значусь среди десяти победителей. Записали меня одного. Мне потом прислали приз в виде книг.
Хотя Юра вроде бы и не стремился в чемпионы, но в турнирах все же участвовал и «дослужился» до третьего разряда. Одно из самых ярких шахматных впечатлений – поездка на областную спартакиаду в Сталинград.
Вся спартакиада происходила на стадионе «Динамо». Я не помню, кто из спортсменов еще там был из нашего детдома. Я представлял шахматы. Мы с ребятами посоветовались, на какой доске кто играет. Я был сильнее того, кто должен был играть на первой доске. Но чтобы команда набрала больше очков, решил сесть за вторую доску. Судил наши соревнования известный шахматный мастер из Сталинграда Давид Гречкин.
Эта увлеченность у Юрия Николаевича сохранилась надолго.
Еще одна значимая линия в тогдашней жизни Юры Гусмана – детдомовский духовой оркестр, руководимый неким Михаилом Михайловичем. В ретроспекции тот удостоился от своих подопечных размытых и при этом лаконичных характеристик: «взялся словно ниоткуда», «загадочный человек с непонятной биографией», «видимо, был выслан за что-то». Единственный намек на конкретные обстоятельства его прежней жизни содержит в себе фраза из мемуаров Юрия Ларина: «Он руководил раньше духовым оркестром московского автозавода».
Пылкого обожания со стороны юных оркестрантов Михаилу Михайловичу, похоже, так и не досталось (на репетициях он за неверно взятую ноту мог покарать виновного щелбаном по лбу), однако дело свое он знал неплохо и сумел создать более или менее сыгранный ансамбль. Володя Климов играл на трубе, Толя Чеботарев – на баритоне, а Юра Гусман – на теноре («не обладая никакими музыкальными способностями, я там все-таки чему-то научился»). Рассказывают, что музыкальные инструменты детдому подарили шефы, уже упоминавшиеся.
Репертуар, конечно, не выглядел чересчур богатым и сложным: исполняли главным образом марши – в торжественных случаях, или еще популярные мелодии на субботних танцах в клубе. Климов говорит также о том, что имелся и «внешний спрос»: окрестные жители время от времени приглашали детдомовцев сыграть на свадьбах или похоронах. И даже бывали эпизоды, когда к услугам оркестра прибегало высокое районное начальство. Однажды ребятам довелось играть на церемонии закладки первого бетона в Волжскую ГЭС: вероятно, другого ансамбля духовых инструментов в нужный момент под рукой не оказалось. Не исключено, впрочем, что на выбор повлияла заслуженная к тому времени репутация этого музыкального коллектива.
Наконец, про рисование. Судя по всему, Юра Гусман в детском доме не выказывал каких-то «поразительных успехов в области изобразительного искусства», да и не было там изостудии, не завели. Но все-таки он часто рисовал – как умел, сугубо для себя, для небольшой компании сочувствующих зрителей или же «по заданию редакции» стенной газеты. Владимир Климов вспоминает:
Юра любил рисовать еще в детском доме. Пушкина рисовал, помню. Делал стенгазеты. Моя одноклассница потом, когда ей подарили Юрин альбом, сказала: «По-моему, он в детдоме лучше рисовал».
Довольно объяснимо, что впоследствии Ларин этот свой «период творчества» почти бессознательно отторгал, но одноклассники ведь сочинять не станут. Да и сам он вспоминал, что незадолго до окончания школы даже отправил в один из московских художественных вузов запрос насчет экзаменационных требований. И вскоре получил ответ, где среди прочих необходимых умений значилось рисование обнаженной натуры. В Среднеахтубинском детском доме, понятное дело, о сеансах такого рода никто бы и заикнуться не посмел. Да и объяснить академические принципы изображения человеческой фигуры все равно было некому – здесь и учебных гипсов-то, начиная с шаров и конусов, в глаза не видели. Робкое намерение отпало само собой.
Возвращаясь к кружкам и секциям: именно они главным образом способствовали общению мальчиков и девочек. Так «исторически сложилось», что у тех и других существовали несколько обособленные миры – хотя и постоянно пересекавшиеся, но не предполагавшие все же тотальных совместных интересов. Жили мальчишки и девчонки в разных корпусах. При этом в школе они учились в общих классах – любопытный момент, ломающий привычный шаблон насчет раздельного обучения в тот период. Действительно, с 1943 по 1954 годы в СССР внедрялось раздельное обучение для мальчиков и девочек. Правда, реформа эта, начавшись со столичных и других крупных городов, до глубинки в итоге не добралась. Почти половина школ в стране так и оставались, как раньше, смешанными – в том числе в Средней Ахтубе.
Собственный уклад жизни детского дома тесно смыкался с порядками в школе, но все же не образовывал с ними неразрывного целого. Школа была организацией формально внешней, поскольку детдомовцы учились здесь наряду и наравне с детьми «из местных». Соответственно, школьные учителя не относились к числу работников детского дома. На практике, конечно, педагоги из двух «институций» взаимодействовали насколько могли – хотя бы просто во избежание взаимной головной боли. Но если трения и конфликты внутри детского дома со временем удалось разрулить (вспомним «блатных», бесследно куда-то канувших вместе со своими жесткими обычаями) или же пригасить до уровня мелких неприятностей, то стычки детдомовцев с «местными» так и оставались обычным явлением.
Однако регулярно происходившие драки не перерастали в устойчивый антагонизм. Во-первых, детдомовцы действовали сплоченнее «местных», что предотвращало затяжную вражду в массовом масштабе. А во-вторых, не существовало между ними ощутимых «классовых различий» – все жили хоть и не совсем уже впроголодь, но почти одинаково без излишеств. Если посмотреть объективно, то почвой для конфликтов, помимо всегдашней подростковой тяги встать плечом к плечу со «своими» против условных «чужих», становилось довольно простое обстоятельство: детдомовцы завидовали «местным» прежде всего из‐за большей вольности их существования вне школы, а вторые, похоже, ревновали первых к уделяемому им вниманию со стороны взрослых.
В любом случае никакой пропасти в персональном общении не наблюдалось. Почти все воспитанники детского дома раньше или позже обзаводились приятелями из числа ахтубинцев. Вот и Юра не оказался исключением. Один из его знакомцев впоследствии стал персонажем устных мемуаров:
У меня в восьмом или девятом классе появился друг, Коля Омельченко, местный. Мы сидели за одной партой. Вранье это было или нет, но он говорил, что сидел за убийство. Может, и врал. Его усыновили. В десятом классе он как-то позвал меня к себе домой. А в это время уже начались экзамены. Коля говорит: «Я Онкелю Паулю (прозвище школьного учителя немецкого языка. – Д. С.) сказал, если он не поставит нам хорошие отметки, я его убью». Онкель Пауль предложил ему взять словарь и вписать туда нужные правила, может, заранее дал билеты, по которым готовиться. Так мы и сделали. Оба получили по четверке. Короче, перед экзаменами я смылся к Коле. В детдоме началась паника. Августа Сергеевна, когда я появился, пожурила, но ничего особенного не было. Был я у Коли дня три, кормили нас роскошно. Я не знаю, почему мы подружились, что-то он во мне такое видел. Хороший был парень. Потом я приезжал на преддипломную практику в Сталинград, мы встречались. Он учился в мединституте.
Школ в Средней Ахтубе тогда было две: одна – начальная, другая – средняя, носившая имя Ломоносова. В первые послевоенные годы образование многих детдомовцев (да и не только детдомовцев) ограничивалось четырьмя классами, после чего их определяли в ремесленные училища. Начиная с учебного года 1949/1950 в стране ввели обязательное семилетнее образование, и опять же многие шли теперь в училища или техникумы – уже по окончании 7‐го класса. Десятилетку заканчивало меньшинство. Не то чтобы совсем считанные единицы, но вряд ли свыше 10–15 процентов от общего числа воспитанников. Юра сумел оказаться в «кругу избранных» и закончил среднюю школу, хотя, по собственному признанию, учился без особого рвения и какой-либо целеустремленности.
Чуть выше говорилось о более вольной жизни «местных», однако в немалой степени эта пресловутая вольность служила лишь «символом свободы» в глазах детдомовцев. Разумеется, на них распространял свое действие номинальный круглосуточный распорядок – подъем, завтрак, уроки в школе, обед, занятия в кружках, хозяйственные и прочие мероприятия, ужин, отбой. Но ни о какой казарменной дисциплине речь не шла. Строем ходили редко, разве что по казенно-парадным поводам. Ограда детского дома не походила на железный занавес: за нее воспитанники выбирались, легально или полулегально, без всякого труда и риска – хоть поодиночке, хоть компаниями.
Летом часто плавали в Ахтубе (из рассказа Юрия Николаевича: «Помню, как первый раз ходили на Ахтубу купаться. Я не умел плавать. Раньше, в Сталинграде, мы не купались, там все было разрушено. А здесь меня пацаны просто бросили в воду. Может, кто-нибудь и страховал, но я очень испугался и поплыл»). Здесь же, на Ахтубе или в соседних протоках, ловили рыбу – не столько ради спортивного азарта, сколько для «прибавки к рациону». Сошлемся на слова Владимира Климова: «И стерляди были, и осетры, и лещи с подлещиками, щуки, язи, сомы. Бывало, наловим рыбы и кладем ее, подсолив, сушиться на металлическую крышу – день-два, и готово». Зимой катались по речному льду на коньках или на фанерках с горы, по крутому склону с возвышенности к берегу.
Подросткам постарше руководители детдома санкционировали даже дальние безнадзорные путешествия – обычно в Сталинград, чтобы поучаствовать там в официальных соревнованиях или еще по какой учрежденческой надобности. А то и вовсе просто так, в свободное время на каникулах. Вообще-то по Ахтубе курсировал рейсовый пароход под названием «Совет» (как раз на нем Юру Гусмана впервые доставили в детский дом), однако добираться на его борту в областной центр было долго и дороговато. Поэтому, если не случалось попутки, ходили пешком туда и обратно – 24 километра в один конец, плюс паром через Волгу в районе Краснослободска (два ныне существующих моста появились много позже – в 1961‐м и 2010‐м). Как и другие ребята, Юра по этому маршруту хаживал неоднократно.
Словом, детдомовцы вроде не должны были ощущать себя «в клетке» и «под замком». И все же многие мечтали о романтическом побеге: кто надеялся навестить родную мать в заключении, кто жаждал отыскать дальних родственников, кого просто так, без особых причин, тянуло на волю. Время от времени подобные позывы из области тайных грез и авантюрного трепа переходили в практическую плоскость. И опять нужно вспомнить про слоистость того уклада жизни. В данном случае действовала своего рода «субкультурная традиция», влияние которой довелось испытать на себе и Юре Гусману.
* * *
Почему ребята убегали из детдома – это вообще загадка большая. Не было у нас того, что иногда рассказывается о детдомах. У нас были хорошие, добрые воспитатели, не было насилия над ребятами. В первый год моего пребывания в детдоме были великовозрастные ребята, блатные, с которыми было непросто. Но к 48‐му году, когда мы бежали, их давно уже отправили в другие места. Действительно, был 48‐й год. Именно в этом году вышел фильм «Молодая гвардия».
Юре тогда исполнилось 12 лет. С одной стороны, начало отрочества, «критический период онтогенеза», зарождение внутреннего бунта против «мира взрослых» вместе со стремлением стать его частью, возрастные попытки самоутверждения в разных формах – и далее по тезисам из курса детской психологии. Отчасти эти объяснения справедливы, наверное. Правда, Юра по характеру не был смутьяном и заводилой, да и чересчур ранимым, сверхобидчивым ребенком, видимо, тоже. Трудно представить, чтобы он сбегал из какой-то обычной семьи, даже после конфликта. Аргумент же наподобие «детдомовская среда заела» и впрямь не слишком убедителен. Вероятно, важнейшим внутренним фактором стала все та же тайна происхождения, а реальной «движущей силой» – неистребимый приютский обычай «сбегать на волю». Впоследствии Юрий Ларин с интересом об этом раздумывал.
Почему мы убегали из детдома? Во-первых, по законам мальчишеской романтики. Целесообразности в этом побеге никакой не было. Где могло быть лучше? Конечно, случай мой особый. Но, допустим, почему убегали такие мои друзья, как Юра Мальцев или Толя Чеботарев? Они-то местные. А у меня была цель – понять, кто я, откуда я. Был еще такой парень, Владик Пеник, тоже москвич. У него оставался брат Стасик, который не захотел бежать с нами. Собралась такая компания: я – с отчетливым стремлением в Москву, Владик, Толик Жестков из Ахтубы по прозвищу Жид, совершенно ему не подходящему (Толик, как я узнал, потом погиб, трактор насмерть подмял), и Видрашка. Он, судя по всему, был откуда-то из Молдавии, по-русски плохо говорил и был таким уже приблатненным, вором-форточником.
Рассказ о Юрином побеге может быть основан исключительно на его собственных описаниях. Об официальных документах на сей счет никто ничего не слышал, а «соучастники» пропали из видимости или прямо в ходе событий, или вскоре после них. Но здесь не столь уж и необходимы дополнительные свидетельства: о том «приключении» Юрий Николаевич поведал подробно, с деталями – насколько удавалось их выудить из памяти спустя десятки лет. Несомненно, этот «флешбэк» был для него из наиболее острых, ярких и мучительных.
Вот мы набрали и надели на себя много рубашек, по три рубашки. Украли у своих ребят, когда они спали после обеда в тихий час. Сверху надели телогрейки. Холодно уже было, конец октября. В телогрейках мы были, в ботинках. Пошли через мост наплавной, переправились в пойму и пошли пешком 24 километра до Сталинграда. Мы увидели Сталинград, когда наступила ночь, через Волгу ничего не ходило, и мы ночевали в каких-то прелых листьях. Часа 2–3 поспали, а когда рассвело, двинулись на переправу. Люди на переправе нас почему-то пропустили, почему – не помню. А уже на том берегу мы все украденные рубашки продали. Стояло много людей, которые жаждали хоть какой-то одежды, вещей, и эти рубашки мы сразу сбыли.
Успех коммерческой сделки заставляет предположить наличие у беглецов некоего первоначального плана и если не собственного, то позаимствованного опыта «ухода на волю». Заподозрить здесь активную Юрину роль решительно невозможно, да и дальнейшее развитие событий демонстрирует, что без инструкций «подельников» он действовал весьма простодушно, совершенно по-детски.
У Пеника мать находилась в каком-то странном учреждении, по-моему, это был женский лагерь. Этот лагерь находился на окраине Сталинграда, кажется, это место называлось Бекетовка. Но я не понимаю, как мы могли проникнуть туда. Наверное, лагерь был не строгий. Мы пролезли через какие-то доски. Владик нас привел прямо к матери. Там много было народу, в этом помещении. Сколько-то было бараков, но Владик точно знал, где находится мать. Она сразу нам сказала: «Пошли, ребята, на чердак». Принесла какую-то еду, и мы ночевали на этом чердаке.
Дальше наши пути с ребятами разошлись. Я хотел найти дом, в котором мы с Гусманами жили в Сталинграде. Я не помню, как мы договорились с Пеником, был ли он со мной. Думаю, что нет. Сел я на трамвай и доехал до Тракторного. Нашел свой дом. Я не думал, что найду там кого-нибудь из родных, мне просто хотелось посмотреть. Дом полуразрушенный. Два крыла сохранились, а середина провалена. Я увидел одного пацана, с которым жил в этом доме (вспомнил вдруг, как его звали – Толя Борщенко). Говорю ему – я хочу посмотреть стадион. А стадион «Трактор» был прямо за домом.
Видимо, с Пеником мы договорились встретиться на вокзале, узнать расписание. Встретились. Помню потрясающе вкусные пряники, которые мы купили на деньги, вырученные за рубашки. Набили ими карманы и ели эти пряники. Видрашка и Жид к тому времени уже откололись от нас.
Когда поезд уже подходил, Пеника окружили блатные. А он умел говорить по фене. Они его окольцевали. Я говорю: «Владик, ну ты чего, едешь или нет? Я еду», – а он просто помахал мне рукой.
Всю дорогу до Сталинграда мы пели две песни: «Эх, дороги, пыль да туман…» и вторая, про которую я всегда думал, что она блатная: «Эх, хороши в саду цветочки…» Поезд трогается. А эта песня звучит по станционному радио. Поезд набирает скорость. Я сел на мешок с углем в тамбуре. Меня звали какие-то пассажиры в вагон, можно было лечь в ногах на скамейку. Почему я постеснялся? Может быть, судьба по-другому бы сложилась.
Тут, пожалуй, уместно будет встроить две совсем коротенькие новеллы на тему «судьба сложилась бы по-другому». А как «по-другому», если бы не поймали? Что могло быть дальше, гипотетически? Обойдемся без домыслов и фантазий, просто приведем два реальных случая, в чем-то близких по контексту.
Новелла № 1: из ранней биографии театрального художника Эдуарда Кочергина – авантюрно-драматической, но с благополучным промежуточным финалом. В мемуарной книге «Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека» Эдуард Степанович, сын репрессированных в 1937‐м родителей-лениградцев, описал траекторию упорного ускользания от всех государственных инстанций.
Я бежал из Сибири в свой Питер в 1945‐м, бежал медленно, потому что меня по дороге все время забирали – в детприемники сдавался обычно к осени, когда начинало холодать и наступало время ученья». И вот еще такая цитата: «Жизнь загнала меня в угол, и после побега из детприемника стал я постепенно, с восьми лет, приобщаться к уголовной цивилизации. Но так как главной целью моей все-таки было возвращение на родину, в Питер, а из моего далека попасть туда в ту пору можно было только по железной дороге, – то со временем, к двенадцати годам, я освоил профессию, связанную с поездами, – стал скачком. А поначалу, по молодости лет, был «помоганцем», или, из‐за худобы и гибкости, – «резиновым мальчиком», который мог проникнуть в самую малую щель.
Удивительным образом Эдуарда Кочергина не засосала «опасная трясина»: через семь лет он добрался-таки до родного Ленинграда и встретился с матерью, уже вышедшей к тому времени на свободу. Чудеса иногда случались. О дальнейшей биографии Кочергина кратко сообщает официальный сайт Большого драматического театра в Петербурге:
С 1963‐го по 1966 год – главный художник Ленинградского театра драмы и комедии (ныне Театр «На Литейном»). С 1966‐го по 1972 годы – главный художник Театра имени В. Ф. Комиссаржевской. С 1972 года Эдуард Кочергин является главным художником Большого драматического театра.
Новелла № 2: о судьбе Толи Гаврилова, старшего брата Тамары Шульпековой (Гавриловой). Про него нет упоминаний ни на респектабельных сайтах, ни в энциклопедиях – нигде; можно лишь с изрядной долей уверенности допустить, что участь его оказалась куда более типичной, нежели у Кочергина, и, скорее всего, трагической.
Толя был шустрый мальчишка, умный, но вот сбежал из детского дома и пропал. Не выдержал, видимо, голода в детдоме – еще война шла, это был 44‐й год. Сбежали они не то вчетвером, не то впятером. Следы его затерялись. А в 47‐м году, когда мне было 11 лет, вдруг говорит кто-то: «Тамара, иди, твой брат пришел, зовет тебя». Встретилась с ним, да только и нашлась спросить, сколько ему лет. Он отвечает: «Пятнадцать». Был он уже хулиганистый такой, курил и кашлял. Думаю, что попал он в компанию к беспризорникам. Скорее всего, они воровали. С тех пор мы больше не виделись. Если бы он был жив, наверное, нашел бы меня все-таки.
Прочие рассуждения об «альтернативной судьбе» Юры Гусмана представляются излишними, хотя почему-то кажется, что участь беспризорного путешественника не сулила ему ничего хорошего. До Москвы он со временем все же добрался, но не в тот раз.
Я заснул на этом мешке. А когда проснулся – стоит около меня милиционер и спрашивает: «Ты куда?» Я отвечаю: «В Москву». Он говорит: «Разгонять тоску, что ли? Ну, давай, вылезай». Это была станция Арчеда.
И дальше:
Меня привели в детскую комнату. Она была полна такими же пацанами, которых сняли с других поездов. При этой детской комнате был детсовет – педагоги, общественники. Разобрались со мной очень быстро. Стали спрашивать, откуда я, где живу. Я сказал: «В Сталинграде, на Тракторном». Они сняли с меня шапку. А внутри шапки – метка «ГЮ», Гусман Юра. Они говорят: «Не обманывай». А я даже адрес полностью говорю. Кто-то спрашивает: «А как ты оказался в детдоме?» Они сразу догадались по этой меченой шапке, что я из детдома. Я сказал имя и фамилию. Помню, что эти люди из детсовета были симпатичные. Один человек, после того как я назвал фамилию Гусман (другой-то у меня тогда не было), говорит: «А папу твоего зовут Борис Израилевич?» Я отвечаю: «Да». Он говорит: «Ты знаешь, я знал твоего папу». Милиционер спрашивает: «А где его папа?» Этот человек отвечает: «Да знаете, он арестован по каким-то политическим делам. Но вообще он очень порядочный человек».
На другой день этот милиционер сажает меня в поезд, я смотрю, поезд идет в сторону Москвы. «Вот как хорошо, повезут меня в Москву, окажусь я среди людей, которые знали моего папу», – думаю я, считая Гусмана своим отцом. Я многих родственников Гусманов знал, надеялся, что отвезут меня туда, я кого-нибудь из них разыщу. Шел-шел поезд, потом объявляют станцию Серебряково. Рядом – городок Михайловка. Меня ведут: колючая проволока, вышка стоит. Не помню своих ощущений, испугался ли, но когда привели меня, я увидел, что это такой дом, в котором живут первоначальные обитатели моего детдома, блатные. Они сразу забрали у меня кожаный ремень, который я украл у Володи Пронина. Потом милиция, проверка. Я не помню каких-то издевательств, но вот то, что ремень отняли и, может быть, что-то еще, что у меня было… Но ремень хороший, роскошный.
Обидно вышло, что и говорить, – тем более Юра успел уже отвыкнуть от подобных дурных манер у соседей. К тому же инерция побега наверняка давала о себе знать: не хотелось останавливаться на достигнутом. Так или иначе, увидев «симпатичное лицо» другого пойманного детдомовца, из астраханских, он тут же договорился с этим мальчиком о незамедлительном новом побеге – однако не вышло.
Разработанный наспех сценарий предусматривал таинственное исчезновение двух малолетних арестантов прямо на показе той самой киноленты «Молодая гвардия». Казалось, дело верное.
Нас построили и повели под охраной смотреть этот фильм, как зэков. Мы с этим пацаном договорились, что сбежим во время фильма – мы же не знали, как это у них устроено. А в зале в конце каждого ряда сели конвоиры. Пока мы шли, казалось, что их мало, а здесь как-то они так устроили, что нельзя было убежать. Так мы и посмотрели этот фильм. Не могу сказать, понравился он мне или нет, – мысли были совсем о другом. Они всегда были, эти мысли, поэтому меня ничто не интересовало, никакое рисование, кинофильмы.
История с незадавшимся побегом постепенно двигалась к финалу, причем двигалась уже сама собой, по заданному извне алгоритму.
Мне показали какую-то женщину, сказали, что это экспедитор, она повезет меня в Сталинград. Я должен буду у нее переночевать, а потом мне скажут, что дальше. Это была ужасная ночь, потому что у нее было огромное количество клопов. Это что-то чудовищное. Утром садимся в поезд – и меня везут в Сталинградский детприемник. Но Сталинградский детприемник – это примерно метра четыре ограда. Когда меня туда привели, был какой-то праздничный концерт. Концерт давали какие-то школьники из Сталинграда. Но там, в зале, все переговаривались на блатном языке о том, чего они хотели – курева, чего-то еще…
Проход в этот детприемник был по туннелю. Там все было предусмотрено. Когда концерт закончился, женщина-экспедитор зашла за мной и, сказав «ночевать ты будешь в другом месте», отвела меня не туда, где спали все эти пацаны. Конечно, к этому времени все, кому надо, обо мне уже знали, поэтому меня и поселили отдельно от других ребят в этом детприемнике. Когда меня уже вернули в детдом, директор Клавдия Михайловна мне сказала «кого нужно, мы всегда найдем». Они все равно были связаны, хоть и хорошие люди, но все равно были связаны.
В общей сложности Юра тогда отсутствовал в детском доме две недели – правда, больше половины этого срока провел в затяжных перемещениях «по этапу». Одновременно с ним отловили и Толю Жесткова, их вернули в Среднюю Ахтубу вместе, все на том же пароходе «Совет», под праздник, около 7 ноября. А вот «Видрашка и Пеник так и не всплыли».
Потенциальное наказание за побег могло оказаться до крайности суровым – вспомним формулировку про «систематическое нарушение внутреннего распорядка и дезорганизацию нормальной постановки учебы и воспитания», чреватую отправкой на зону для малолетних. Однако в силу не известных нам причин дело спустили на тормозах, и никаких серьезных последствий Юра Гусман на себе не ощутил. Разве что лишился однажды похода в кино с одноклассниками:
Всех повели в кинотеатр, недалеко находившийся от детдома. «Молодая гвардия». Я встал, чтобы тоже идти в кино. И вдруг Людмила Марковна, может быть, даже за ухо меня выводит и говорит: «Юра, а тебе нельзя!» Сейчас мне странно, что именно она, но видимо, тоже боялась.
Нельзя исключать, впрочем, что как раз руководители и воспитатели детдома приложили усилия к тому, чтобы «отмазать» беглого воспитанника. В любом случае инцидент каким-то образом исчерпался. А «Молодую гвардию» Юра уже и так посмотрел незадолго до того, невелика была потеря.
С возвращением из побега сопряжен по времени случай, которому, несмотря на все сопутствующие неприятности, Юра тогда большого значения не придал. Аукнулся этот случай гораздо позднее, через десятилетия.
Видимо, сразу после эпизода с побегом мы легли спать, и кто-то из воспитателей говорит «вот сейчас привезли нового, Славу Шашурина» (а постелей уже нет, поздний вечер), «кто может к себе положить?» Я говорю «ну, давайте, я могу положить». О чем мы с ним говорили, я не помню, но как всегда, все что-нибудь рассказывают о себе, как попал в детдом, где раньше бывал. Самое интересное, я почти уверен, что на следующий день его отправили в другой детдом, потому что я не помню, чтобы он остался. А дальше разворачивалась цепь событий, в которой Слава Шашурин сыграл свою роль: он заразил меня стригущим лишаем.
Но не только меня. Этим лишаем человек пятьдесят заболело. Нас всех повезли в Сталинград во 2-ю, кажется, больницу, там облучали до такой степени, чтобы волосы все выпали, а потом мазали лысые головы какой-то мазью или йодом. В больнице, я помню, было много сифилитиков, которые на лестнице рассказывали о своих приключениях. Потом отправили нас в Заплавное, где была районная больница и где жили родственники моего последующего друга Володи Климова. Там продолжалось это лечение, мазали. Все волосы выпали, а потом стали расти уже кудрявые. До тех пор волосы у меня были прямые.
Юрий Николаевич не сомневался, что в результате именно того больничного облучения у него с годами развилась опухоль мозга. Болезнь едва не привела к летальному исходу, и лишь мастерство знаменитого хирурга Александра Николаевича Коновалова, директора Института нейрохирургии имени Бурденко, который в 1985 году проделал операцию по удалению опухоли, спасло Ларину жизнь. Об этом тяжелом периоде мы расскажем позднее.