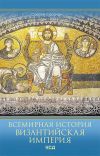Автор книги: Дмитрий Спивак
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Очерк духовной жизни Петербурга начала XX века был бы неполон без упоминания Религиозно-философских собраний 1901–1903 годов. Их инициатором был Д.С.Мережковский с небольшой группой единомышленников, а целью – для начала просто свести представителей церкви и интеллигенции в одну аудиторию и приучить их к диалогу. Такая попытка воспринималась как новаторская: каждая из сторон смотрела на другую с недоумением и опаской. Эти чувства находили свое продолжение и на карте города. З.Н.Гиппиус писала о подлинном «железном занавесе», незримо опущенном поблизости от Николаевского (теперь Московского) вокзала. Западнее его лежал «светский Петербург», восточнее – «церковная область», примыкавшая к Александро-Невской лавре. Сами собрания проходили в помещении Географического общества на набережной Фонтанки. Ассоциировался с ними и «наш вечный дом Мурузи», по сию пору стоящий на Литейном проспекте под нумером 24. Там была квартира Мережковских, очень любивших этот дом, и проживших в нем в общей сложности почти четверть века. Заметим, что сама фамилия Мурузи принадлежала в свое время известному константинопольскому фанариоту (так называли себя греческие обитатели стамбульского квартала Фенер, в котором по сию пору находится резиденция константинопольского патриарха – или, как полностью звучит его титул, «Святейшего, величайшего господина, князя и владыки, архиепископа Константинополя, Нового Рима и патриарха Вселенной»). Турецкий султан высоко ценил его таланты, и поручил участвовать в мирных переговорах с Россией. Тайно перейдя на нашу сторону, князь Димитрий Мурузи передал царским дипломатам ряд ценных документов, немало облегчив тем заключение выгодного для России Бухарестского мира 1812 года. Измена была раскрыта, Мурузи отправлен на эшафот, но его семье удалось выехать в Россию и добраться до Петербурга, где в ее судьбе принял участие сам Александр I. Со временем, дети, ставшие уже «петербургскими фанариотами», вышли в люди. Один из них, известный у нас как «византийский князь», выстроил на Литейном, 24 свой огромный дом. Историки архитектуры определяют его стиль как мавританский, но петербуржцам в нем всегда виделось нечто византийское. Впрочем, вернемся к Религиозно-философским собраниям. Их участники положительно сошлись на том, что страна входит в глубокий кризис, который, скорее всего, коренится в духовной сфере, и что церковь с интеллигенцией способны его остановить. Участники зашли так далеко, что стали обсуждать даже возможность введения новых догматов в церковное учение. Но тут синодальные власти встревожились и прекратили Собрания. Вернувшись в свои кабинеты, участники продолжали додумывать свои доводы. Большое влияние приобрело выработанное Д.С.Мережковским учение о «Третьем Завете», долженствующем прийти на смену первым двум – Ветхому и Новому, чтобы утвердить «религию Святаго Духа» в обновленном Богочеловечестве. Претензия смелая – но петербургский реформатор сразу же ограничивал ее, указывая, что речь идет не более чем о восстановлении во всей полноте христианского учения о св. Троице. С этой позиции, ограниченность развития исторического православия виделась «всего лишь» в остановке на почитании Сына – второго лица Троицы.
Здесь нужно напомнить, что Мережковский был довольно сухим и рассудочным писателем. Тем более любопытно, что всей этой отвлеченной религиозно-философской конструкции у него соответствовал единый и очень теплый образ. Им был константинопольский собор святой Софии. Писатель даже специально совершил путешествие в Стамбул – просто затем, чтобы побыть в древнем храме. Есть у него и малоизвестный очерк об этой поездке, он так и называется: «Св. София». Читая очерк, поневоле испытываешь двойственное ощущение. Логическая разработка материала так же измельчена, как обычно у Мережковского. Здесь есть тезис – «застревание» византийского православия на фазе «Второго Завета», антитезис – разработанное в нем же учение о третьем лице Троицы. Упомянута и возможность синтеза, намеченного в константинопольском Храме и, разумеется, чаемого в современной писателю России. Но выше всех слов, аргументов и ссылок возвышаются своды дивного храма на Босфоре: «В основании сводов расположены сплошным рядом низкие полукруглые окна, наполняющие свод ясным, тихим светом, так что, кажется, купола реют в воздухе, солнечно-золотистые, неимоверно-высокие, легкие-легкие и несокрушимо твердые, как твердь небесная, „плоть духовная“, Святая Плоть … Ничего кроме светлого, безмерно огромного, небу подобного свода. Чувствуется, что здание построено для этого свода. Все для него, все от него, все в нем. Он покрывает, соединяет, согласует, просветляет все. Никогда на земле не было более совершенного образа вечности, и почти невозможно поверить, что это создание рук человеческих»… Да, читая эти неспешно наращиваемые периоды, понимаешь, что значит прирожденный писатель и почему книги Мережковского продолжают переиздаваться и по сей день. Но чувствуется и общее для посетителей св. Софии замедление шага, блуждание взора, нарастание молитвенного настроения. Затем оно омрачается. «Я сидел на низкой ступени у главного входа, прямо против алтаря, смотрел в побледневший простор великого завоеванного храма с его тенями херувимов на стенах, чуть видными, жалкими и страшными, точно отошедшими; видел вьющиеся вправо, вкось циновки; слушал крылья пролетающих вверху голубей и тихие, чистые, такие чуждые мне, такие неподвижные, косные молитвы чуждых людей», – а думал, добавим мы, о своем Петербурге и предстоявших ему испытаниях, сравнимых разве что с разорением Константинополя. Что сказали бы средневековые богословы, доведись им ознакомиться с богословскими построениями петербургского символиста – дело неясное. Скорее всего, покачали бы головами, да припомнили бы о теории Иоахима Флорского, учившего, что, как эпоха Нового Завета пришла на смену эпохе Завета Ветхого – так же и ей, в свою очередь, суждено уступить место эпохе еще более нового, «Третьего Завета» св. Духа. Иные же, поразмыслив, вспомнили бы о более древней «ереси модалистов», согласно учению которых Господь последовательно открывается в истории в трех разных модусах: сначала как Отец, затем – как Сын и, наконец, как Дух Святой. После непродолжительных колебаний, церковь анафематствовала оба помянутых выше учения. Что же до преклонения перед совершенством Св. Софии, то тут мнения совпали бы. Ну, а А.М.Ремизов, приятель четы Мережковских, встретивший их в Петербурге после возвращения из поездки в Стамбул, равнодушно пометил в записной книжке, что «турецкого в них ничего не заметно, как в Зинаиде Николаевне, равно и в Дмитрии Сергеевиче… Прошлое воскресенье они были у нас, и З[инаида] Н[иколаевна] подарила мне красную феску, расшитую золотом, очень красивая, только маловата, а В.В.[Розанов] обиделся, почему не ему?».
Другим заметным явлением духовной жизни Петербурга стали собрания 1905–1907 годов на «Башне» В.И.Иванова. Так называлась квартира на последнем этаже новопостроенного дома на углу Таврической и Тверской улиц, занятая писателем по возвращении из-за границы. Квартира включала округлый эркер в виде башни, отсюда ее название. Из квартиры можно было подняться под купол, венчающий башню и даже выйти на крышу, откуда открывался вид на зеленое море верхушек деревьев Таврического сада, а дальше – на добрую половину города. Духовный взор писателя, впрочем, достигал еще более отдаленных горизонтов, вплоть до заросшего маслинами, платанами и серебристыми тополями сада платоновой Академии. Владелец Башни был, как известно, знатоком античности и подлинным филэллином. Участниками эллинских симпосиев чувствовали себя и посетители знаменитых «ивановских сред», а здесь перебывал весь цвет литературно-художественного Петербурга. В отличие от Собраний Д.С.Мережковского, внимание беседовавших обычно сосредоточивалось на проблемах не церкви, но культуры. Соответственно, гораздо меньше приходило церковников. Зато была широко представлена бурно развивавшаяся в те годы отечественная религиозная философия. «Мистический анархизм, мистический реализм, символизм, оккультизм, неохристианство, – все эти течения обозначались на средах, имели своих представителей», – заметил бессменный председатель собеседований, виднейший русский философ Н.А.Бердяев. Собирая своих гостей, Иванов думал прежде всего об упадке раннего русского символизма, связывая таковой с бегством его творцов от общего действия – в «одинокие восторженные состояния», к безответственной игре с древними символами и к историческому пессимизму, присущему декадансу. Выход из кризиса виделся в построении нового, «теургического» символизма, поддерживаемого группами посвященных, постепенно распространяющих свое влияние на все более широкое окружение. За образец такого «мистического коллективизма» были приняты античные, в особенности дионисийские мистерии, действительно представлявшие собой средоточие жизни античного общества. Прообразом «новых мистерий» и были задуманы «ивановские среды». Религиозное содержание такого мировоззрения вполне отчетливо. Среди культур современности особым значением обладают те, где сохранены искры древних мистерий, где еще слышаться возгласы менад. В особо благоприятном положении находилась Россия, принявшая драгоценное наследие прямо из греческих рук. Правда, между эллинскими вакхантами и петербургскими символистами вклинилось еще византийское православие, но его можно было считать просто фазисом в развитии «эллинской религии страдающего бога», в чем была доля исторической истины. Примерно так строилась мысль Иванова, отражения чего обнаруживаются в ряде вышедших из-под его пера текстов. К примеру, в написанной несколько позже, в годину революции статье, посвященной церковнославянской письменности и русской словесности, читаем: «Уже не варвары мы, поскольку владеем собственным словом и в нем преемством православного предания, оно же для нас – предание эллинства». Собственно, это также была «греческая вера» – но вера скорее не отцов церкви, а таких ярких представителей византийского неоязычества, как Георгий Гемист Плифон или Михаил Пселл.
Возвращаясь к проблемам николаевской России, нужно упомянуть и о социальном неравенстве. Когда зародилось рабочее движение, церковь могла если не взять его под свое крыло, то по крайней мере вывести из-под влияния радикалов. По сути дела, в таком направлении шла деятельность о. Георгия Гапона и основанного им «Собрания русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга». С позиций сегодняшнего дня деятельность Собрания представляется сплошной провокацией. На самом же деле, она шла вполне в русле движения «христианского социализма», входившего в силу в Европе, и отвлекшего там немало рабочих от революции. Манифестация, организованная Гапоном, собрала очень значительное для Петербурга число участников – более 150 тысяч человек. Не дойдя до Зимнего дворца, они были рассеяны царскими войсками, в большинстве своем еще у застав. В тот день, 9 января 1905 года, революции не произошло. Но современники запомнили «Кровавое воскресенье» как дату, когда рабочее движение разошлось с церковью – да, впрочем, и сами церковники надолго утратили вкус к социальным экспериментам. Порвалась одна из крепчайших цепей, державших на привязи «демона революции». Любопытно, что очевидцы в один голос вспоминали о неком знамении, явившемся в небе над Петербургом в час расстрела. М.А.Волошин писал о «тройном солнце», подчеркивая, что такой же знак появился и в небе Парижа перед Великой Французской революцией. Д.С.Мережковский видел другое: «Порядочный мороз стоял и в день знаменитого 9/22 января. Сквозь пушисто-белые деревья Летнего сада Дм[итрий] С[ергеевич] видел большой красный круг солнца – без лучей. Бывают такие морозные дни, когда нет облаков, но тонкий туман обволакивает землю и небо, не съедая солнца, а только его лучи». Есть и другие версии; важнее было само ощущение того, что знак подан и сроки исполнились.
Ко времени решающих событий 1917 года, года народ смотрел на церковь как на одну из опор царизма. Фактически это было не совсем верно. Ведущие иерархи были изрядно раздражены упорным нежеланием властей вернуть наконец церкви обещанную самостоятельность, в особенности же бесцеремонным вмешательством в ее дела царя, царицы, обер-прокурора, а пуще всего Распутина с его ставленниками. Отсюда и поразивший тогда многих отказ церкви поддержать рушившуюся монархию, и ее решительный переход на сторону Временного правительства. К тому времени относится поучительный анекдот, получивший хождение в среде нашего духовенства. Рассказывали, что, ведя богослужение, некий диакон дошел до привычных слов: «Господи! Силою Твоею возвеселится Царь». Вспомнив, что царь недавно отрекся, диакон на мгновение смутился, но затем моментально импровизировал и возгласил: «Господи! Силою Твоею возвеселится Временное правительство»… Отметим, что с точки зрения духа и буквы церковных канонов и уложений, диакон не совершил никакой ошибки. Ведь для церкви действительно отнюдь не существенно, стоит во главе страны один правитель, либо их группа – тем более, что Временное правительство получило свою власть неоспоримо законным путем. Несмотря на это, в русских условиях того времени возглас диакона прозвучал совершенно забавно, поскольку церковь у нас была испокон веков при сильном самодержце, и по другому жить попросту не умела.
С отречением царя, осталась некая духовная пустота, и церкви необходимо было ее чем-то заполнить. Мысль иерархов обратилась в первую очередь ко временам московского царства, когда никакого Синода не было, а обер-прокурорский надзор не стеснял церковь. На это указывал весь чин интронизации новоизбранного Патриарха. Как известно, она прошла в Успенском соборе Кремля, с возложением на голову Тихона куколя патриарха Никона, и со вручением ему посоха святителя Петра Московского. Однако и в допетровские времена церковь всегда чувствовала тяжелую руку московских царей. Нужно было идти еще дальше, вырабатывая совершенно новый подход к каноническому устроению церкви – а может быть, и ее догматическому вероучению. На то были все возможности. Среди церковнослужителей было немало хорошо образованных и широко мысливших людей, не говоря уж о том, что к богословию тянулись лучшие отечественные умы. Многое указывало на то, что стране предстоял религиозно-философский взрыв, сравнимый разве что с расцветом паламизма в церковной и общественной культуре поздней Византии. Еще немного – и поехали бы учиться в Петроград и в Москву и Тейяр де Шарден, и Тиллих, и Барт.
Бог рассудил по-другому. К власти в стране пришла партия, стоявшая на позициях агрессивного атеизма. В новых условиях все силы церкви были брошены на выживание. Репрессии были очень суровы, включая массовые расстрелы священнослужителей, разрушение храмов, осквернение мощей. В них не было логики, но была своя драматургия. Первый пик гонений пришелся на 1918–1922 годы. То было время «красного террора» и изъятия церковных имуществ. Политическая, а также моральная оппозиция церкви, на первых порах весьма заметная, была сломлена. Признаки поворота заметны уже в Духовном завещании патриарха Тихона (1925), однако его исходной точкой принято считать знаменитую Декларацию 1927 года: «Нам нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами Советского Союза, лояльными к советской власти, могут быть не только равнодушные к православию люди, не только изменники ему, но и самые ревностные приверженцы его, для которых оно дорого, как истина и жизнь, со всеми его догматами и преданиями, со всем его каноническим и богослужебным укладом». Декларация была подписана рядом авторитетных членов Синода, во главе со знаменитым митрополитом Сергием. По его имени, новый курс получил неофициальное название «сергианства». Сущность его состояла в заключении соглашения с советской властью – если не «новой симфонии», то конкордата. При всех изменениях, Русская православная церковь осталась верна этому курсу вплоть до времен перестройки.
Надо заметить, что связь с нашим городом прослеживается в биографиях всех предстоятелей «патриаршей» церкви. Так, митрополит Сергий еще в начале XX века, в бытность свою епископом Ямбургским, руководил петербургской Духовной академией, и председательствовал на первых Религиозно-философских собраниях. Там он имел возможность непосредственно ознакомиться с «новым религиозным сознанием» в лице таких ярких его носителей, как Мережковский и Розанов, и в свою очередь запомниться им. Проведя свою церковь через тяжелые испытания в сане местоблюстителя патриаршего престола, Сергий был наконец избран Патриархом Московским и всея Руси в 1943 году. Всем трем его преемникам – а именно, Алексию I, Пимену и ныне здравствующему патриарху Алексию II – в разное время довелось занимать ленинградскую кафедру. Главной причиной этого была исторически сложившаяся высокая авторитетность положения митрополита ленинградского.
Принятый в Декларации 1927 года курс не был единственно возможным. Альтернативу ему составило так называемое обновленчество, основанное в 1922 году, и на первых порах вошедшее в большую силу. Достаточно сказать, что всего через год, его приняли настоятели почти всех храмов Петроградской епархии (более 90 процентов). Обновленцы смотрели на христианство и социализм как на два разных пути к одной цели. Соответственно, они пошли на модернизацию богослужения, упразднение монашества и даже планировали догматические новшества, наподобие утверждения, что Бог творил мир не один, но при участии «производительных сил природы». Обновленцам придавало силы то обстоятельство, что в психологическом отношении они были близки многим заслуженным революционерам. Так, тогдашний нарком просвещения А.В.Луначарский задолго до революции озаботился измышлением новой, «пролетарской религии» в рамках так называемого богостроительства, за что его нещадно критиковал сам Ильич… Православие «обновленцев» было сомнительным. Однако в нем было высказано немало заслуживавших внимания мыслей, кое в чем, кстати, предвосхитивших такие известные течения западной мысли, как католическая «теология освобождения».
Признавая тот факт, что движение «обновленцев» было было учреждено в Москве, следует отметить, что его возглавляли по преимуществу петроградские церковные деятелями – такие, как священники А.Введенский и В.Красницкий. Один из первых и самых самых ярких инспирированных ими процессов – знаменитое «Дело митрополита Вениамина» – прошел в 1922 году в Петрограде, в помещении теперешнего Большого зала Филармонии. Обновленческие храмы удержались в Ленинграде практически до самой блокады. В целом же, авторитет «обновленцев» в массах верующих был подорван их сотрудничеством с карательными органами, включавшим совместную борьбу с Русской православной церковью. К 1945 году «обновленческая» церковь утратила доверие властей и была упразднена ими.
Третьим влиятельным движением стала «катакомбная церковь», приверженцев которой нередко именуют «[новыми] иосифлянами», по имени их первоучителя, митрополита Иосифа. «Раз Советская власть активно борется с учением Христа, то как же можно входить с ней в какие-либо соглашения», – рассудили «иосифляне» и отказались признать Декларацию митрополита Сергия. В ответ «сергиане» ссылались на евангельский тезис «Нет власти не от Бога», и указывали на исторические прецеденты – к примеру, на соглашения, в которые православные иерархи входили с турками, попав со своей паствою под их власть после падения Византийской империи. Сама постановка вопроса говорила о многом. Большевики – люди в массе своей крещеные в детстве и еще помнившие старую жизнь – за какие-то десять лет поставили церковь в такое положение, когда она едва ли не с ностальгией вспомнила о временах «туркократии»… Непосредственным поводом к обособлению «катакомбной церкви» послужило то, что светские власти не допустили в 1926 году митрополита Иосифа к занятию вдовствовавшей ленинградской кафедры. Сам он был глубоко связан с религиозной жизнью города, входя в число учеников еще отца Иоанна Кронштадского. Да и в дальнейшем общины «иосифлян» продолжали тяготеть к Ленинграду. Их полная история лишь начинает приоткрываться: к примеру, недавно был опубликован документ, свидетельствующий о том, что замечательный ленинградский ученый, академик Д.С.Лихачев, причислял и себя к иосифлянам «в пору гонений на русскую церковь».
Что касалось четвертого большого направления – Русской Православной церкви заграницей, то она, в лице своего так называемого «Карловацкого синода», также определила свою позицию прежде всего по отношению к Декларации митрополита Сергия и к плодам ее воплощения в жизнь. Как видим, не будет ошибкой сказать, что в лице как первенствовавшей «патриаршей» церкви, так и ее виднейших оппонентов Петроград-Ленинград наложил неизгладимый отпечаток на религиозную жизнь всей советской страны.
Летом 1929 года собрался II съезд Союза безбожников. В числе его резолюций обращает на себя внимание провозглашение «церковного фронта» одним из важнейших участков классовой борьбы. Такое решение ставило церковь под самый удар, поскольку как раз в то же время партия выбросила лозунг об обострении классовой борьбы и намечала направления новых репрессий. По сути, речь шла об устранении всякой конкуренции культу Сталина и пресечении любых форм самоорганизации общества. Одной из задач «безбожной», второй пятилетки был решительный подрыв положения церкви, и он был в общем достигнут. Дальнейшие события известны – начало новой Великой войны, первые поражения на фронтах и речь «Братья и сестры», произнесенная дрожащим голосом вождя. Напуганный диктатор пошел на широкое восстановление патриотических лозунгов и атрибутов, пришло время вспомнить и о церкви. Митрополит Сергий сам обратился к верующим сразу же, в первый день войны, определив борьбу с немецко-фашистскими оккупантами как их «священный и обязательный долг». Однако историки полагают точкой решающего поворота встречу И.В.Сталина с руководителями Русской православной церкви, проведенную в 1943 году. Фактически власти приняли на ней конкордат, предложенный церковью в Декларации 1927 года. Немедленно вслед за тем был созван Архиерейский собор, избравший митрополита Сергия патриархом, вторым за советское время.
Особенно тяжелой была война для жителей нашего города. Не ограничиваясь бомбардировками, фашисты пытались вызвать среди защитников Ленинграда массовую панику. В начале сентября 1941 года, в самый тяжелый момент, когда горели Бадаевские склады и смыкалось кольцо блокады, фашисты забросали город листовками странного содержания. В них темным, почти эзотерическим языком обещались новые беды, почему-то связанные с ближайшим полнолунием. Смысл этой угрозы остается нам не вполне ясен. Как известно, нацистские вожди охотно прибегали к услугам немецких астрологов, скорее всего не обошлось без них и на этот раз. Между тем, в этой оккультной системе Россия, а в особенности Ленинград считались воплощением стихии воды – или, в другом плане, «мирового льда». Вода же традиционно полагалась связанной с луной. Поэтому теоретически прибавление Луны должно было придавать силы защитникам Ленинграда, и наоборот. Как бы то ни было, в день перед полнолунием немцы предприняли попытку прорыва непосредственно на улицы города. Эту «психическую атаку» удалось, к счастью, остановить. Не поддались панике и жители блокированного города. Свою лепту в поддержание их духа внесла церковь, богослужения не прекращались в течение всей блокады. Среди верующих распространился слух, что икона Казанской Богоматери не напрасно осталась в городе: она продолжает чудесным образом его защищать.
Как раз в то время, вдали от истекавшего кровью Ленинграда, тихо творил молитву перед списком Казанской иконы благочестивый иерарх востока, митрополит Гор Ливанских Илия Салиб. Неожиданно в чудесном свете ему явилась сама Богоматерь и поведала о Своем постоянном покровительстве осажденному северному городу. Приехав в Ленинград при первой возможности, а представилась она только в 1947 году, владыка Илия произнес в Князь-Владимирском соборе проповедь, в которой со слезами на глазах рассказал о чудесном явлении, и в память о нем возложил драгоценное украшение на икону Казанской Богоматери … Еще в 1922 году, один из последних оптинских старцев, Нектарий послал свое благословение Петрограду, как «самому святому городу во всей России». Как видим, этот ореол не потускнел и к годам блокады, несмотря на все ее трудности и лишения. Для нашей же темы видение владыки Илии ценно и тем, что подтвердило сохранность духовной связи между Константинополем – и теперь уже Ленинградом. Ведь как мы помним, Дева Мария издревле почиталась как небесная заступница города на Босфоре.
Новый этап гонений пришелся уже на «хрущевское десятилетие», в особенности на его вторую половину, отмеченную свертыванием либеральных прожектов партии и правительства. Номенклатура брала власть в свои руки. О ликвидации церкви и речи уже не было: ее существование было признано полезным для контактов на международной арене, а в определенных пределах – и терпимым внутри страны. Советская бюрократия была даже готова пойти на включение в свои ряды церковных руководителей «высшего и среднего звена». Взамен она требовала прекращения катехизации, а пуще всего – всестороннего контроля за подбором и расстановкой кадров священнослужителей, прежде всего заботами «уполномоченных по делам религий». Не уклонившись и от этих объятий власть предержащих, церковные иерархи нашли способы выжить в новых условиях. Далее дело пошло к некоторым послаблениям. Летом 1975 года Л.И.Брежнев подписал Заключительный акт Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В соответствии с ним, советское правительство взяло на себя определенные обязательства по части соблюдения прав человека, которые не собиралось ни серьезно соблюдать, ни демонстративно нарушать. Входило туда и требование «свободы мысли, совести, религии и убеждений». В таких-то условиях церковь дожила до времен перестройки. С ее наступлением патриарх Алексий II мягко, но определенно отмежевался от «сергианства», с сожалением признавая присущий этому течению трагизм компромисса с узурпаторами власти. Пришло время выработать новую стратегию действий, а с ней и религиозное истолкование центральных событий нашей истории ХХ века: крушения православной «петербургской империи» и победы безбожной коммунистической идеологии.
Разработка этой тематики внутри страны при коммунистах была по понятным причинам крайне затруднена. Зато у религиозных мыслителей, оказавшихся после революции в эмиграции, можно найти немало мыслей, не потерявших актуальности и по сей день. В основе целого ряда влиятельных работ, обнаруживается одна базовая интуиция, которую можно представить здесь на математический манер следующим образом: «1. Дано: крушение „Третьего Рима“ – а, стало быть, и его духовной основы, в лице греко-российской веры; 2. Требуется доказать: порча пошла с некоторого этапа в истории русского православия; 3. Следствие: определив этот этап, необходимо мысленно вернуться к нему и исправиться». Подгонять под эту схему взгляды разных, тем более исключительно самостоятельных мыслителей – дело безнадежное, но как основа для беглого обзора она приемлема.
Преданность православию была делом принципа для основателей евразийства. Другим принципом была верность той наднациональной и сверхрелигиозной общности, которая на протяжении тысячелетий объединяла геополитическое пространство Евразии. Местом наиболее плодотворного скрещения обоих принципов виделась ранняя московская держава, где произошло «оправославление татарщины» – или если угодно, «туранизация» самой византийской традиции, как писал в 1925 году Н.С.Трубецкой. Восстановление доминант этого «московско-татарского православия» представлялось евразийцам весьма перспективным и составляло предмет их постоянных размышлений. Следует мимоходом заметить, что радикальность этого направления мысли скорее преувеличивается в публицистической литературе наших дней. Достаточно указать на московского публициста времен Ивана Грозного, по имени Иван Пересветов. В Сказании о Магмете, указанный сочинитель, вовсе не мысля о разрыве с православным мироощущением, рассматривает административные реформы турецкого султана Мухаммеда II и видит все основания для их переноса на русскую почву. «Чтобы к той истинной вере християнской да правда турецкая, ино бы с ними ангелы беседовали. А к той бы правде турецкой да вера християнская, ино бы с ними ангели же беседовали», – так звучал основной вывод Пересветова. В этом проекте можно отчетливо рассмотреть аналоги того «оправославления татарщины», об актуальности которого, как «лекарства против большевизма», писал через 400 лет князь Николай Трубецкой.
Крупнейшему нашему софиологу, С.Н.Булгакову, причина кризиса виделась в другом – а именно, в неверном определении баланса между духовной и светской властью. «В истории Церкви одна прямая линия соединяет Византию, Москву и Петроград, это одна церковно-историческая эпоха – несомненного, открытого, решительного цезарепапизма, при котором носителем церковного единства является император». Поскольку гарантом правильного разделения властей философу виделся римский папа, оставалось сделать вывод о возвращении к какой-то форме унии с католической церковью, от «мирного сосуществования», предшествовавшего разделению церквей (1054) – до Флорентийской унии (1439), когда последние византийцы пошли на поклон в «Первый Рим». Как можно заключить из текста цитированного сочинения «У стен Херсониса», Булгаков готов был в 1923 году пойти даже на такую откровенную капитуляцию. Работа не была напечатана, философ впоследствии отказался от высказанных в ней упований, но текста все же не уничтожил. Помнить о ней полезно, поскольку эти взгляды имели достаточно глубокие корни в истории «петербургского периода» – от Чаадаева до Соловьева.
Известная книга Н.А.Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма» вышла в свет в конце 1930-х годов, и многим на Западе открыла глаза на загадку успеха нового движения. В русской истории после татаро-монгольского нашествия философ увидел одну и ту же «волю к теократии», нашедшую себе воплощение сначала в московской, затем в петербургской и, наконец, в большевистской, «новомосковской» империи. Исторические основания такого взгляда очевидны, так же как то, что прообразом этих держав во многом служила империя византийская. На последних страницах книги Бердяев к такому выводу и пришел. В предвидении нового «витка истории» он призвал не повторять ошибок прошлого, а пуще всего – «очиститься и освободиться от печати царства кесаря, которая лежит на церкви со времен Константина». Дальнейшая перспектива виделась философу в совмещении учения церкви с разработанной им «системой персоналистического социализма». Разбор этой системы выходит за рамки нашей темы. Что же касалось «печати Константина», то в истории византийской церкви было еще одно, не менее глубокое влияние.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?