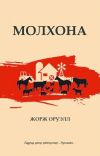Автор книги: Дориан Лински
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В Испанию Оруэлла привела ненависть к фашизму, но спустя полгода он уехал из страны с чувством ненависти к другому противнику. Поведение фашистов было вполне предсказуемым, но вот жестокость и ложь коммунистов его сильно удивили. Его товарищ из НРП Джек Брентвейт вспоминал: «Он раньше говорил, что все, что говорят про коммунистов, – капиталистическая пропаганда, но тогда заметил мне: “Знаешь, Джек, все это правда”»85.
«Практически каждый работавший в Испании журналист, – писал американский репортер Фрэнк Ханинген, – становился другим человеком после того, как пересекал Пиренеи»86. Именно это и случилось с Оруэллом. В разные периоды он считал, что пребывание в Испании является захватывающим, скучным, вдохновляющим, ужасным, и, в конце концов, очень полезным в смысле достижения понимания ситуации. «Война в Испании и события 1936–1937-го перевесили чашу весов, после этого я точно знал, что к чему, – писал он через десять лет перед тем, как приступил к работе над романом «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый». – Каждая строчка, написанная мной начиная с 1936 года, прямо или косвенно направлена против тоталитаризма и за тот демократический социализм, каким я его понимаю»87.
Заключительным актом процесса потери наивности была вера в то, что его старые коллеги захотят опубликовать сделанные им во время войны выводы. Голланц не захотел издать его книгу, а Кингсли Мартин из The New Statesman & Society отказался публиковать не только его эссе про войну, но и рецензию на книгу Боркенау «Кабина испанского пилота», в которой Оруэлл пытался протолкнуть основные мысли. Когда писателю удалось опубликовать эссе в New English Weekly Филипа Майре, название его статьи гласило: «Правда об Испании». «Существует самый настоящий заговор… с целью того, чтобы никто не понял ситуацию в Испании, – писал он. – Те, кто вообще-то должен понимать положение вещей, позволили себя обмануть, объясняя это тем, что, если кто-то расскажет правду об Испании, это будет фашистской пропагандой»88.
На самом деле Оруэлла бесило не только это (ведь ложь во время войны почти так же повсеместна, как трупы и вши). Он терпеть не мог, когда что-то прикрывают и скрывают. В его понимании такие слова, как «обман», «жульничество» и «шантаж», были самыми ругательными. Именно поэтому ему не понравилось отношение Голланца и Мартина. Замалчивание правды ради какой-то краткосрочной выгоды можно сравнить с введением чрезвычайного положения, то есть ситуации, при которой временная отмена гражданских прав легко может стать постоянной. Информация о том, что внутри одной войны шла другая грязная война, было определенной лакмусовой бумажкой, тестом, который левые в Великобритании не смогли пройти, потому что больше верили тоталитарной пропаганде. А он ожидал, что левые окажутся немного мудрее и прозорливее.
Правда для Оруэлла была важна именно в ситуациях, когда она не была удобной и приятной. В своих ранних эссе он ради художественного стиля использовал и облагораживал анекдоты и упускал некоторые неприятные факты, но в «Памяти Каталонии» старался писать максимально объективно и не шел на сделки с собственной совестью. Он писал, что без понимания того, что реальность достигается посредством консенсуса, «не может быть спора, невозможно будет достигнуть минимально необходимого соглашения»89. Оруэлл был достаточно прозорлив, чтобы понимать, что далеко не всегда можно найти объективную правду, но, если даже не предполагать, что она существует, то дело будет совсем плохо. «У меня появилось чувство, что правдивую историю этой войны так никогда и не напишут, – отмечал он много лет спустя. – Реальных цифр и объективных описаний того, что произошло, просто не существует»90. Именно это он имел в виду под фразой «История остановилась», которая неоднократно встречается в тексте романа «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый». Когда главным арбитром реальности являются сила и власть, победители сделают все возможное, чтобы превратить ложь в правду.
По крайней мере, до определенной степени. Обман режима рано или поздно выплывет наружу. Боркенау обратил внимание на то, что начавшие обманывать окружающих испанские коммунисты обманули в конечном счете самих себя. Паранойя привела к поискам козлов отпущения, чисткам и ухудшению морального состояния, а преувеличения коммунистической пропаганды – к поражениям на фронте. В СССР те, кто врал, превратились в тех, о ком врали. Большинство ведущих русских участников конфликта в Испании расстреляли или посадили. Военного советника Берзина, рекомендовавшего ликвидировать членов ПОУМ, обвинили в шпионаже и расстреляли на Лубянке.
Благодаря помощи Феннера Броквея Оруэллу удалось найти издателя для своей книги «Памяти Каталонии». Это было молодое издательство Secker & Warburg, занимавшее антисталинистские позиции и готовое пропагандировать альтернативное мнение. Один из директоров издательства, Фредерик Варбург, писал в мемуарах: «Я хотел найти и поддержать писателей, которые предлагали план достижения утопии и программу осуществления этого плана. Но я не был уверен в том, какие из этих планов и программ выводят в страну обетованную, что можно считать очком в мою пользу»91.
«Памяти Каталонии» является лучшей документальной прозой Оруэлла. Книга была опубликована 25 апреля 1938-го, через год после выхода «Дороги на Уиган-Пирс». «Памяти Каталонии» – более мудрое, спокойное, щедрое и полное смирения произведение. Филип Майре писал: «Эта книга демонстрирует невинное сердце революции, а также и то, что это сердце в гораздо большей степени убивают миазмы лжи, а не жестокость»92. Со временем она стала чуть ли ни важнейшим изданием, описывающим события гражданской войны в Испании, но в то время являлась всего лишь одним из многочисленных произведений на эту тему. Тираж издания составлял полторы тысячи экземпляров, из которых распродали всего половину. Английские коммунисты назвали книгу в лучшем случае сумбурной, в худшем – предательской, льющей воду на мельницу Франко. Оруэлл флегматично относился к плохим рецензиям, считая, что даже плохие рецензии работают на продвижение. Кроме того, он совершенно не отрицал субъективность своих позиций: «Я предупреждаю всех о том, что у меня есть предубежденность, а также о возможных ошибках. Тем не менее я сделал все возможное, чтобы быть честным»93, – писал он. Он считал, что за правду надо бороться, и поэтому писал жалобы на книжные рецензии, в которых клеветали на его старых боевых товарищей. Возможно, что в книге он преувеличил свои симпатии к ПОУМ, но сделал это исключительно потому, что никто не выступал за тех, кого обвиняли в грехах, которые они не совершали. «Если бы меня это не разозлило, я бы вообще никогда не написал эту книгу»94, – писал он позднее.
Переселившийся в Англию Боркенау написал Оруэллу письмо с одобрительным отзывом на книгу, в котором были такие строки: «Для меня ваша книга является очередным подтверждением моего убеждения в том, что можно быть совершенно честным по поводу приводимых фактов вне зависимости от занимаемой политической позиции»95. Чувство уважения между писателями было взаимным. Оруэлл хвалил книгу «Кабина испанского пилота», написав про нее, кроме прочего, следующую типичную для него метафору технофоба: «Как приятно слышать человеческий голос среди воя пятидесяти тысяч играющих одну и туже мелодию граммофонов»96. Позднее он назвал труд Боркенау «Коммунистический Интернационал» «книгой в большей степени, чем все остальные, познакомившей меня с общим ходом революции». В 1929 году Боркенау вышел из немецкой компартии в знак протеста против политики Сталина, финансово поддерживал антинацистскую партию и разработал одну из ранних теорий тоталитаризма. Он писал: «Цивилизация неизбежно исчезнет не из-за существования определенных ограничений свободы мысли… а из-за тотального подчинения мыслей людей приказам партии» 97. Всего лишь один человек высказал предположение о том, что Оруэлл одобрял коммунизм. Когда писатель в конце 1920-х бомжевал в Париже, он периодически навещал свою тетю Нелли Лимузин и ее сожителя Юджина Адама. Адам и его друг Луис Банньер были в прошлом коммунистами, а потом стали большими поклонниками эсперанто – языка международного общения, которым интересовались Гитлер и Сталин. Позднее Банньер утверждал, что помнит спор, произошедший между Адамом и молодым Оруэллом, «утверждавшим, что советская система является примером высшей стадии социализма» 98. Это утверждение противоречит всему тому, что писал сам Оруэлл. Сложно сказать, является эта история правдивой или нет, но, возможно, Адам был первым человеком, страстно рассказавшим молодому писателю о коммунизме.
В годы после гражданской войны в Испании многие из любимых писателей Оруэлла были бывшими коммунистами. Это австриец Боркенау и британец венгерского происхождения Кёстлер, итальянец Иньяцио Силоне, русский Виктор Серж, американцы Макс Истмен и Юджин Лайонс, французы Андре Жид, Борис Суварин и Андре Мальро. Все эти люди поняли, что такое коммунизм, таким же способом, как и он империализм, – изнутри. О сталинском режиме Оруэлл узнал из книг Жида «Возвращение из СССР» (Retour de l’U.R.S.S.) и Суварина «Кошмар в СССР» (Cauchemar en U.R.S.S.). Многие аспекты деятельности Сталина, подробности и анекдоты попали в роман «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый»: культ личности, переписывание истории, отсутствие свободы слова, отказ от объективной правды, отголоски испанской инквизиции, произвольные и необоснованные аресты, выбивание признания пытками, а также удушающая атмосфера подозрения, самоцензуры и страха.
Вот пример из романа. Уинстон Смит обнаруживает фотографию, доказывающую, что Джонс, Аронсон и Резерфорд, которых все считают предателями, в день своего признания были, оказывается, не в Евразии, а в Нью-Йорке. Оруэлл читал о случаях, когда написанные под диктовку признания противоречили реальным фактам. Одного из «врагов народа» сфотографировали на конференции в Брюсселе в тот же самый день, когда тот «во всем признался» в Москве. Другой «враг народа» говорил, что встречался с Троцким в Копенгагене в отеле, который, как выяснилось, снесли пятнадцатью годами ранее.
Оруэлл не только уважал этих авторов за предоставленную ими важную информацию. Критика этими авторами Сталина обуславливалась личным стыдом и желанием искупить свою доверчивость или соучастие при помощи текстов, которые Оруэлл называл «литературой разочарования»99. Бывшие коммунисты в порыве откровения первой ереси писали с подкупающей убедительностью. Кроме того, их одиночество казалось ему героическим. Оруэлл с одобрением писал, что Силоне «был одним из тех, кого коммунисты считали фашистами, а фашисты – коммунистами, член небольшого, но растущего сообщества людей»100.
Почему Оруэлл более активно критиковал коммунизм, а не фашизм? Потому что у него было больше опыта общения с коммунистами и потому что привлекательность коммунизма казалась ему более обманчивой. Обе идеологии вели к тоталитаризму, но коммунизм начинал с более благородных целей, чем фашизм, и поэтому для поддержания веры в него требовалось больше лжи. Коммунизм становился «формой социализма, делающей невозможной умственную честность»101, а его литература становилась «механизмом оправдания ошибок»102. Оруэлл лично не знал ни одного фашиста и с презрением относился к поэту Эзре Паунду и основателю Британского союза фашистов Освальду Мосли, речь которого слышал в 1 936-м в городке Барнсли, после чего писал: «Несмотря на то что его речь была произнесена в ораторском смысле прекрасно, говорил он совершенную ерунду»[7]7
Это не означало, что Оруэлл считал Мосли безобидным. «Стоит следить за Мосли, опыт показывает (vide / см. карьеры Гитлера и Наполеона III), что для политического лидера иногда является преимуществом то, что его не воспринимают слишком серьезно в начале его карьеры»104.
[Закрыть]103. Оруэлл знал многих коммунистов. В среде литературной интеллигенции фашизм не пользовался большой популярностью, в то время как коммунизм «обладал практически неотразимой привлекательностью для любого писателя в возрасте до сорока»105. Оруэлл был все еще возмущен этим лицемерием, когда в романе «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый» писал, что зверства 1930-х «терпели и защищали даже те, кто считал себя просвещенным и прогрессивным»106.
Бывшие коммунисты сломали логическую цепочку, связывавшую большую часть левых со Сталиным: я верю в социализм – СССР является единственным социалистическим государством, следовательно, я верю в СССР. У Оруэлла по этому поводу было два возражения. Во-первых, любые, даже самые утопические цели не оправдывают жестокие средства, во-вторых, сталинистская Россия не являлась по-настоящему социалистической страной, так как в ней не было свободы и справедливости. Кроме этого писатель в интеллектуальном, социальном и эмоциональном смыслах никогда не «вкладывался» и не верил в русский эксперимент. Те, кто это делал, оказались в ситуации экзистенциального кризиса.
Одним из таких людей был Юджин Лайонс – иммигрант еврейского происхождения из России, выросший в бедных районах Нью-Йорка и ставший журналистом, писавшим для СМИ социалистической ориентации. В 1922 году он стал коммунистом, после чего от его услуг отказались многие газеты либерального толка. В период с 1928-го по 1934-й он был представителем United Press в Москве и писал для американских читателей об СССР. Изначально он был сторонником Сталина и первым западным журналистом, взявшим у него интервью, но потом ему стала омерзительна пропаганда, преследования и ложь, в которой он в качестве журналиста принимал участие. В июне 1938 года Оруэлл написал рецензию на эпическое покаяние Лайонса, в которой обратил внимание на призыв Сталина закончить первую пятилетку за четыре года:
В моей голове мгновенно появилась формула: 2 + 2 = 5. Сама идея казалась мне смелой и одновременно нелепой – отважной и отражающей парадоксальную и трагическую абсурдность происходящего в СССР, характеризующейся мистической простотой, отрицанием логики, изведенной до убийственной арифметики… 2 + 2 = 5, формула, написанная электрическими лампами на фасадах московских домов, огромными буквами на рекламных щитах, осознанная ошибка, гипербола извращенного оптимизма, что-то ребячески упорное и трогательно творческое107.
Спустя несколько месяцев Оруэлл начал сам использовать это нереальное уравнение. В рецензии на книгу Бертрана Рассела «Власть: новый социальный анализ» Оруэлл усомнился в представлении о том, что здравый смысл победит (в целом рецензия была положительной). «Кошмар настоящей ситуации заключается в том, что мы не можем быть уверены в том, что так оно и будет. Вполне возможно, что мы идем к временам, когда “два плюс два будет пять”, если так говорит Вождь… Стоит только вспомнить о зловещих возможностях радио, образования и науки в условиях государственного контроля над ними, чтобы понять, что “правда восторжествует” – всего лишь желание, а не аксиома»108.
Оруэлл наверняка обратил внимание на описание Лайонсом последствий, с которыми тот столкнулся после своего «предательства». После возвращения в Нью-Йорк он долго мучился над вопросом о том, стоит ли быть честным по поводу всего того, что ему пришлось увидеть в России. Рассказать правду – это моральное обязательство, результатом которого было бы социальное самоубийство. Лайонс сделал свой выбор, после чего от него отреклись все его старые товарищи. Для тех, кто свято верил в социализм, обличение Сталина было непростительным духовным предательством. «Я был виновен в самом страшном злодеянии – уничтожении благородных заблуждений»109, – писал Лайонс. Мифическую Россию надо было любой ценой оградить от варварской реальности. «Многие уставшие, скучающие или панически настроенные американцы нашли свой духовный приют в ее чертогах, поэтому все те, кто подрывал основы этих чертогов, становился бессовестным вандалом. Вполне возможно, что он таковым и был»110.
Книга Лайонса, которую рецензировал Оруэлл, называлась «Командировка в утопию».
2
Утопическая лихорадка. Оруэлл и оптимисты
Какое веселое, наверное, время было в те полные надежд 80-е. Тогда можно было трудиться ради самых всевозможных целей – и какой тогда был выбор целей! Кто бы мог предположить, к чему все это приведет?1
Джордж Оруэлл, The Adelphi, май 1940
«Карта мира, на которой нет Утопии, не стоит того, чтобы бросить на нее даже взгляда, – писал Оскар Уайльд в 1891 году в эссе «Душа человека при социализме». – Прогресс – это претворение в жизнь Утопий»2. Ответом Оруэлла на это было: «Да, но…» Ему нравилась идея утопии в качестве вдохновляющего средства для излечения пессимизма и осмотрительности, однако все попытки описать утопию его не вдохновляли, а стремление ее построить казалось губительным. В рождественском выпуске Tribune 1943-го под псевдонимом Джона Фримана вышло его эссе «Могут ли социалисты быть счастливыми?». В этом эссе не ощущалось радости, которую читатель чувствует в конце «Рождественской песни в прозе» Чарльза Диккенса. Оруэлл писал, что состояние «перманентного счастья»3 утопий кажется ему неубедительным. По его мнению, люди боролись и умирали за социализм из-за его идеала братства, а не представления об «освещенном яркими огнями рае с центральным отоплением и кондиционерами»4. Бесспорно, мир можно и нужно улучшить, но его невозможно сделать идеальным. «Тот, кто пытается представить себе что-то идеальное, сталкивается со своей собственной пустотой»5.
Утопии появились раньше дистопий или антиутопий, точно также как рай появился раньше ада. Надо отдать человечеству должное за то, что люди начали мечтать об идеальном обществе задолго до того, как решили придумать его полную противоположность. Первые мысли об утопии были заложены в диалогах Платона «Государство», идеи которых легли в основу «Утопии» Томаса Мора, вышедшей в 1516 году. Слово «утопия» создано на основе греческих слов ou (нет) и topos (место), то есть получается, что утопия – это место, которого не существует. Однако звук ou можно легко перепутать со звуком eu (хороший). Мы не знаем, была ли это осознанная шутка Мора, но слово «утопия» обрело конкретный смысл: «рай на земле». В политике прижилось последнее значение этого слова, но в литературе этого долго не происходило, и поэтому Оруэлл мог считать роман «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый» «утопией». Писатель различал «благоприятные» и «пессимистические» утопии, но ему не пришло в голову назвать последние «дистопиями». Несмотря на то что впервые понятие «дистопия» (буквально «нехорошее место») Джон Стюарт Милль употребил еще в 1868 году, оно в течение почти столетия практически не использовалось. (Более употребимым было понятие какотопия (cacotopia), буквально «плохое место», которое ввел Иеремия Бентам.) И только в 1960-е годы «дистопия» наконец завоевала популярность. Получается, что роман Оруэлла стал олицетворять слово, которое сам писатель никогда не использовал.
Надо сказать, что Оруэлл был прекрасно знаком с литературой, в которой описывались утопии. Писатель неоднократно упоминал вышедшее в 1872 году сатирическое произведение Сэмюеля Батлера «Едгин»[8]8
Erewhon (англ.) – анаграмма слова «нигде». – Примеч. перев.
[Закрыть], социалистическую фантазию «Вести ниоткуда» (1890) Уильяма Морриса, а также многочисленные произведения Герберта Джорджа Уэллса. Однако он далеко не всегда считал, что утопический сюжет может быть основой для хорошего худлита. В эссе «Путешествия Гулливера» уточнял: «Описать счастье катастрофически сложно, а описания справедливого и хорошо организованного общества редко оказываются привлекательными или убедительными»6. Еще в «Фунтах лиха в Париже и Лондоне» он рассуждал о том, что обещание «какой-то марксистской утопии»7 является препятствием на пути социализма. В глубине души Оруэлл считал, что утопии скучны и безрадостны, и не думал, что люди хотели бы жить при таком общественном порядке. В эссе 1941 года «Искусство Дональда Макгилла» он писал: «В целом люди хотят быть хорошими, но не слишком хорошими и не постоянно»8.
Учитывая интересы писателя, кажется весьма странным, что в его работах и записях нет упоминаний книги, которая превратила представление о построении идеального общества в культурный феномен конца XIX века. Во всех изданных трудах Оруэлла мы не находим ни одного упоминания писателя и журналиста Эдварда Беллами.
В августе 1887 года Эдвард Беллами был малоизвестным автором и журналистом из Массачусетса. В тот год ему было тридцать семь лет, он был серьезным и чувствительным человеком с грустным выражением лица, гигантскими усами, серьезным и чувствительным моралистом. Суфражистка Франсис Уиллард писала, что он был «тихим, но наблюдательным, скромным, но самовлюбленным, обладающим вкрадчивым мягким голосом и при этом ярким характером, а еще он всегда стремился достичь цели, какой бы она ни была»9. Анализируя ситуацию в США в конце позапрошлого века, Беллами пришел к выводу, что «нация стала нервной, желчной и находится в подавленном состоянии»10 из-за чудовищного неравноправия. Несколько семей миллионеров контролировали экономику, а рабочий класс трудился шестьдесят часов в неделю, зарабатывая гроши на фабриках с минимальной системой безопасности и охраны труда и проживая в грязных трущобах. Технологический прогресс шел семимильными шагами (появились электрические лампочки, фонограф, телефон), но производство отравляло реки и воздушную атмосферу. Периоды бурного экономического роста сменялись кризисами и рецессиями, и производство периодически останавливалось из-за забастовок рабочих.
Беллами считал такую ситуацию не только несправедливой, но и недостойной человеческого существования. Он считал, что живет в переломный период, в котором изменения в худшую или в лучшую сторону являются совершенно неизбежными. Судьба Америки должна была решить судьбу всего мира. «Будем иметь в виду то, что если это закончится провалом, то это будет финальный и окончательный провал, – писал он. – Мы уже не откроем новых миров и континентов для того, чтобы начать на них новые предприятия»11.
Именно в августе 1887 года Беллами закончил роман, в котором кризисы переходного периода 1880-х были названы болезненной, но необходимой предтечей мирной социалистической утопии. Он писал своему издателю: «Мне очень хотелось бы, чтобы книга была издана как можно быстрее. Мне кажется, что сейчас – самое идеальное время для предоставления читателям произведения, затрагивающего социальные и экономические вопросы»12.
Именно эти вопросы и затрагивались в романе Беллами «Взгляд назад: 2000–1887». Эта утопия была опубликована в 1888 году и стала одной из самых читаемых и популярных книг после романа «Хижина дяди Тома»[9]9
Роман американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу.
[Закрыть]и самой имитируемой после романа «Джейн Эйр»[10]10
Роман английской писательницы Шарлотты Бронте.
[Закрыть]. Точно так же, как и в случае с многими другими неожиданными бестселлерами, в утопии Беллами чувствуется влияние уже существовавших трендов и вышедших ранее произведений, таких как популярный роман Уильяма Генри Хадсона «Хрустальный век» и радикальный и феноменально успешный трактат Генри Джорджа «Прогресс и бедность». Журналист Генри Ллойд писал, что в США роман Беллами «обсуждали все, включая чистильщиков обуви на тротуарах»13. В Англии произведение Беллами стало настолько популярным, что в интеллектуальных кругах считалось неприличным, если человек его не читал. Писатель и дизайнер Уильям Моррис писал в 1889 году другу: «Я думаю, что ты читал или, по крайней мере, пытался читать “Взгляд назад”14. Роман хорошо продавался и в России, где его хвалили Чехов, Горький и Толстой, назвавший его «исключительно выдающейся книгой»15. В США поклонниками романа были Джек Лондон, Эптон Синклер, Элизабет Герли Флинн и будущие руководители социалистической партии. Марк Твен назвал его «самой последней и лучшей из всех Библий»16.
Точно так же, как и с Библией, у книги «Взгляд назад» появились апостолы, жаждущие рассказать окружающим о респектабельном, исключительно американском варианте социализма для среднего класса, который он сам называл национализмом. «Беллами – Моисей наших дней. Он показал нам, что земля обетованная существует»17, – писал один из поклонников писателя и его идей. В 1888 году последователи идей Беллами организовали в Бостоне первый клуб националистов. Спустя три года в стране насчитывалось уже 160 таких клубов, членами которых были журналисты, художники, адвокаты, доктора, бизнесмены и реформаторы, среди которых были юрист Кларенс Дарроу и феминистка Шарлотта Перкинс Гилман. В сельской местности книгу писателя распространяли продавцы, стучавшиеся в двери домов. Незадолго до этого образовавшаяся популистская партия (та, что победила в пяти штатах на президентских выборах 1892 года) многие из своих идей заимствовала у Беллами. Жители Лос-Анджелеса по сей день могут видеть здание, связанное с Беллами и его романом. Архитектор Джордж Вайман нарисовал проект здания Бредбери-билдинг[11]11
На крыше Бредбери-билдинг позднее снимали финальные сцены картины Ридли Скотта «Бегущий по лезвию».
[Закрыть] на основе описания Беллами универмага будущего.
В период, когда Оруэлл начинал свою журналистскую карьеру, началась Великая депрессия, возродившая интерес к оптимистическим прогнозам Беллами. Президент Рузвельт читал и обсуждал работы Беллами, а в состав его администрации, проводившей так называемый «новый курс», входил биограф писателя Артур Морган. В 1935 году журнал The Atlantic Monthly назвал «Взгляд назад» самой важной книгой за последние пятьдесят лет после «Капитала» Карла Маркса (с точки зрения изменения мира). Лидер лейбористской партии Клемент Эттли был сторонником высказанной Беллами идеи «кооперативного содружества» и говорил сыну писателя Полу, что послевоенное правительство лейбористов было «детищем идеала Беллами»18. Книга была настолько популярна в США, что в 1949 году президент книжного клуба Book-of-the-Month Гарри Шерман заявил, что «“Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый” был “Взглядом назад” Беллами наоборот»19.
Может показаться странным, что сейчас почти никто не знает о книге, которая относительно недавно была настолько популярной. Впрочем, гадать над этим вопросом можно только до тех пор, пока человек сам не прочитает роман Беллами. Истории выдерживают проверку временем, а вот манифесты, замаскированные под литературные произведения, исчезают без следа.
Сюжет романа Беллами следующий. 1887 год. Безвольный аристократ Джулиан Вест беззаботно живет в Бостоне и готовится к свадьбе со своей красавицей-невестой. Он страдает от бессонницы, призывает врача-шарлатана, который вводит его в транс, после чего Джулиан засыпает в подземном бункере под домом. Как и другой литературный герой, Рип ван Винкль, Джулиан спит очень долго и просыпается спустя сто лет в доме некого доктора Лити, который объясняет ему, что современное общество достигло идеала на основе «солидарности рас и братства людей»20. Повествование идет от лица Джулиана, и, по сути, весь роман представляет собой набор разговоров о политике. После выхода романа Беллами признавался в том, что добавил в произведение романтические сцены «не без некоторого чувства раздражения и только для того, чтобы завлечь читателя»21. Учитывая, что единственными представительницами прекрасного пола в романе являются жена доктора Лити и его дочь Эдит, сложно назвать роман Беллами произведением в стиле «Пятьдесят оттенков серого».
Несмотря на то что Беллами, не вдаваясь в подробности и детали, предсказал такие технические инновации, как кредитную карту и радио с часами, его сложно назвать Жюлем Верном. Чтобы созданная им утопия понравилась «трезвым и высокоморальным массам американцев»22, его роман должен был быть доступным и понятным. Точно так же, как и в популярной перед французской революцией книге Луи Себастьяна Мерсье «Год 2440», в романе Беллами обозначены точные время и место[12]12
В 1863 году Жюль Верн написал похожий роман под названием «Париж в XX веке», однако его издатель отверг его со словами: «Ты задумал решить невозможную задачу»23.
[Закрыть]. Изначально Беллами планировал описать «заоблачные дворцы, в которых обитает идеальное человечество», но «споткнулся на предначертанных историей краеугольных камнях нового социального порядка»24. В предисловии ко второму изданию он писал, что его произведение «является серьезным прогнозом будущего»25.
Доктор Лити не устает объяснять Джулиану устройство жизни людей в будущем. В каждой главе Джулиан задает доктору вопрос о том, как такой удивительный прогресс в той или иной области стал возможным, на что тот спокойно отвечает, что все это «является естественным результатом развития человеческого потенциала в условиях полной рациональности»26. Именно такого мнения и придерживались социалисты в 1880-х. В эссе «Что такое социализм?» (1946) Оруэлл объяснял, что до революции в России «любые умозаключения социалистического толка являлись в определенной степени утопическими»27, потому что в реальности эту идею никто еще не пробовал осуществить. «С исчезновением экономической несправедливости исчезнут и другие формы тирании. Начнется эпоха человеческого братства, и война, преступность, болезни, бедность, а также переработки навсегда уйдут в прошлое».
Самое главное в мире доктора Лити – это равноправие. В будущем каждый гражданин входит в систему «индустриальной армии». Нет адвокатов, законодателей, священников, налоговиков и тюремщиков. Женщины равноправны с мужчинами, но трудятся в отдельной индустриальной армии. Воздух чистый, работа не обременительна, ложь практически исчезла, продолжительность жизни выше восьмидесяти пяти лет. Люди стали более здоровыми и спортивными, стали добрее, счастливее и во всех смыслах лучше. В обществе будущего присутствуют все черты, которые Оруэлл высмеивал в рецензии на утопию Герберта Луиса Сэмюэля «Неизвестная страна»: «гигиена, средства увеличения продуктивности труда, фантастические машины, акцент на науке, полное здравомыслие в сочетании с сильно разбавленной религиозностью… Нет войн, нет преступлений, нет болезней, нет бедности, нет классовых различий и так далее и тому подобное»28. «Взгляд назад» Беллами – это книга, в которой много «и так далее и тому подобное».
В видении будущего Беллами есть одно удивительное упущение. Вскоре после того как Джулиан просыпается, доктор Лити отводит его на крышу своего дома, чтобы показать вид города. Джулиан смотрит на длинные бульвары, здания, деревья, фонтаны. Кругом сплошная гармония, но не видно людей. Словно он смотрит на диораму архитектора до того, как туда поставили миниатюрные фигурки людей. Но когда наконец появляются люди, Джулиан приходит в ужас. Беллами так успешно «убаюкал» читателя рассказом о жизни в 2000 году, что, когда Джулиан просыпается в Бостоне 1887-го, толпы мрачных людей наводят на него ужас. Беллами пытается заставить читателя увидеть современную ему действительность другими глазами и таким образом подтолкнуть к политическому действию. Эта сцена показывает, что Беллами был социалистом-патерналистом, который любил трудовые массы чисто теоретически, а не в реальности. Потом Джулиан снова просыпается в 2000-м, понимает, что реальность 1887-го была кошмарным сном. Его отталкивает «ужасная масса человеческого страдания»29. Герой наблюдает «грубые маски» людей и с грустью констатирует: «Они все мертвы». Если надежда и есть, то она явно не в пролах.