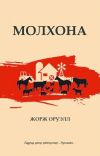Автор книги: Дориан Лински
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
3
Вниз по наклонной. Оруэлл 1938–1940
Будущее, по крайней мере ближайшее, не принадлежит «здравомыслящим» людям. Оно принадлежит фанатикам1.
Джордж Оруэлл, «Время не ждет», 8 июня 1940
22 мая 1938 года Оруэлл написал своему другу Джеку Коммону о том, что, несмотря на то что исторические предпосылки не благоприятствуют, он планирует приступить к своему четвертому роману. «Если я начну в августе, то, боюсь, мне придется его заканчивать в концентрационном лагере»2, – мрачно пошутил он[16]16
Под «концентрационным лагерем» Оруэлл имел в виду его первоначальное значение «лагерь для интернированных».
[Закрыть].
Оруэлл писал из санатория Престон-Хилл, расположенного в графстве Кент местечка Эйлсфорд, в который попал за два месяца до этого из-за того, что начал харкать кровью. Брат его жены, Лоренс «Эрик» О’Шонесси, был одним из ведущих специалистов в стране по лечению туберкулеза. Лоренс обнаружил поражение левого легкого писателя и рекомендовал ему лечь в санаторий, в котором сам был консультирующим хирургом. В санатории Оруэлл провел три месяца, во время которых принимал посетителей, с которыми познакомился в разное время своей хаотичной жизни, перепрыгивая из одного социального класса в другой. В один день сестры слышали из его палаты голоса его литературных друзей Ричарда Риза и Сирила Коннолли, а на следующий – акцент представителей рабочего класса, его приятелей по НРП и соратников по войне в Испании. Генри Миллер прислал ему дружеское письмо с советом «перестать думать и волноваться по поводу внешних факторов»3. С таким же успехом Оруэлл мог бы посоветовать Миллеру перестать думать о своей собственной персоне.
Раз в две недели в санаторий из деревни Воллингтон, где у них был дом, приезжала Эйлин. У супругов был серый пудель. «Мы назвали его Марксом для того, чтобы напомнить друг другу, что никто из нас не читал Маркса, – с юмором рассказывала Эйлин подруге. – Но вот недавно мы немного его почитали, он нам очень не понравился, и теперь мы не можем смотреть в глаза собаке, когда разговариваем с ней»4. С другой стороны, супруги поняли, что могут многое узнать о своих гостях по ответу на один вопрос: в честь какого из Марксов назван их пудель?[17]17
Карл Маркс, Граучо Маркс, магазин Marks & Spencer.
[Закрыть]
Доктора в санатории рекомендовали Оруэллу провести зиму в более благоприятном климате. Писатель Лео Майерс анонимно предоставил Оруэллу 300 фунтов, после чего супруги решили отправиться в Марокко и прибыли в Марракеш 11 сентября. Несмотря на усилия традиционно аккуратно фиксировать в своем дневнике наблюдения о местных обычаях, Оруэлл заметил на его страницах, что в целом страна показалась ему «довольно скучной»5. Так что это было хорошее место для того, чтобы писать роман.
На протяжении приблизительно двух лет между участием в гражданской войне в Испании и попыткой участвовать во Второй мировой войне Оруэлл занимал позицию пацифиста. Официальная британская версия антифашизма казалась ему «плохо завуалированным ура-империализмом»6. Он был уверен в том, что война «офашистит»7 жизнь англичан: «снижение зарплаты, подавление свободы слова, жестокости в колониях и так далее»[18]18
В то время так думали многие. Писатель Эдвард Морган Форстер считал, что, «если фашизм победит, нам конец, и мы сами должны стать фашистами, чтобы победить»8.
[Закрыть]. Одной из любимых цитат Оруэлла в то время было высказывание Ницше о том, что те, кто хочет победить дракона, рискуют сами стать драконами9. «В конечном счете фашизм – это всего лишь стадия развития капитализма, и при возникновении сложностей даже самая так называемая мягкая демократия превратится в фашизм»10, – писал в 1937 году Оруэлл своему другу Джеффри Гореру. В письме одному читателю Оруэлл выразился еще более конкретно: «Фашизм и так называемая демократия – это Траляля и Труляля11». Оруэлл подписал антивоенный манифест New Leader, вступил в ряды НРП и к июлю 1939-го уже писал яростные антивоенные эссе. Писатель даже планировал организовать несанкционированные протесты12. В 1938-м он говорил Ричарду Ризу и своему агенту Леонарду Муру о том, что пишет антивоенный памфлет «Социализм и война», который никогда так и не был опубликован, следовательно, обоснование пацифизма и причины, по которым он чувствовал себя пацифистом, можно найти в романе, написанном им в Марокко.
Роман «Глотнуть воздуха» был о том, что, по мнению писателя, могло остановить его от завершения работы над этим произведением. Вскоре после приезда четы Оруэллов в Марокко было подписано Мюнхенское соглашение, которое только на некоторое время отсрочило неизбежное. Позднее Оруэлл утверждал, что уже в 1931 году знал, что «в будущем должна произойти катастрофа»13, и с 1936-г о был уверен в том, что Англия вступит в войну с Германией. Позднее он вспоминал «чувство бесполезности и непостоянства, словно сидишь в комнате на сквозняке и ждешь, когда начнут стрелять»14. Пессимизм Оруэлла смешил Эйлин, написавшей сестре мужа Марджори о том, что по возвращении в деревню Джордж планирует построить там бомбоубежище. «Впрочем, землянка – это мелочи, он чаще говорит о голоде и концентрационных лагерях»15.
Некоторые из друзей Оруэлла объясняли беспросветный пессимизм романа «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый» ухудшавшимся состоянием здоровья писателя, но ощущение беспомощности человека прослеживается во всех его произведениях. В своих литературных произведениях Оруэлл был таким же беспощадным, каким сострадательным был в своей журналистике. Обычно его герой – ничем не выделяющийся, посредственный человек, которому кажется невыносимой своя собственная роль в обществе, который стремится бороться и убежать и оказывается там, где он начинал, только с пониманием того, что на лучшую жизнь не стоит надеяться. Все сюжеты его романов построены по этой схеме. В «Днях в Бирме», «Дочери священника», «Да здравствует фикус!» и «Глотнуть воздуха» его герои не только разбиты, но чувствуют себя чужими и сломлены силами далеко не такими экстремальными, как электрошок и комната 101.
В романе «Дни в Бирме» (1934) торговец тиком Джон Флори представляет собой империалиста, который мучается угрызениями совести и живет в «удушающем, отупляющем мире… в котором цензуре подвергается каждая мысль и каждое слово… свобода слова немыслима»16. Колонизаторы лгут себе, утверждая, что поднимают Бирму на новый уровень, а не эксплуатируют, и молчаливое несогласие Флори с такой постановкой вопроса превращает его в одинокого и неудовлетворенного человека: «Житие своей настоящей жизнью в секрете разлагает»17. В романе «Да здравствует фикус!» все серо, безвкусно и тоскливо, за исключением тех моментов, когда все зловеще и мрачно. Герой романа Гордон Комсток пишет стихотворение (которое Оруэлл уже ранее публиковал в The Adelphi), где Лондон 1930-х превращается в зарисовку Взлетной полосы I с развевающимися на ветру оборванными плакатами и давящей атмосферой власти:
Этот тиран – «бог денег», его «денежное духовенство»19 – партия, а «тысяча миллионов рабов»20 – пролы. Если Уинстона тошнит от пропагандистских плакатов, то Комстока – от плакатов рекламных. Роль Большого Брата для Комстока исполняет Роланд Бутта, персонаж, продвигающий напиток «Бовекс». Название рекламного агентства, в котором работает Комсток, «упаковывая мир лжи в сто слов»21, звучит немного по-фашистски: Новый Альбион.
Можно сказать, что Оруэлл как писатель-фантаст был наделен ограниченным воображением и обладал склонностями скопидома. Его первые четыре романа были своего рода барахолками, до потолка набитыми всякой всячиной, которой он не смог найти лучшее применение. В 1946 году писатель Джулиан Саймонс заявил Оруэллу, что такое вполне допустимо при написании биографии, но из-за этого «Глотнуть воздуха» с большой натяжкой можно назвать романом, а Оруэлл не стал спорить, так ответив Саймонсу в письме: «Ты, конечно, прав. Мой собственный характер и я сам постоянно перебиваем рассказчика. Но я, в любом случае, не являюсь настоящим писателем-романистом»22. Он считал романы «Дочь священника» и «Да здравствует фикус!» «глупой халтурой, которую вообще не стоило публиковать»23. Ранние романы писателя стоит читать не из-за их сюжета и описаний героев, а именно из-за авторского голоса, постоянно предлагающего вниманию читателя разные мнения, наблюдения, анекдоты и шутки, а также как выражение миропонимания автора, ощущения того, что автор высказывается и облегчает этим свою душу.
Роман «Глотнуть воздуха» – это смесь ностальгии и тоски, при этом каждое из этих чувств только усиливает действие другого. Роман написан от лица Джорджа Боулинга – пухлого и весьма посредственного горожанина, семьянина и страхового агента. Однажды на улицах Лондона Боулинга, угнетенного ощущением надвигающейся войны, посещает желание съездить порыбачить в Нижнем Бинфилде – идиллическом местечке на берегах Темзы, где прошла часть его детства. Многословные воспоминания Боулинга об этом сельском рае предвосхищают нежные чувства, которые Уинстон Смит питал к Золотой стране. Оруэлл вывалил на читателя переработанные воспоминания своего собственного детства, и в связи с этим было бы уместно вспомнить шутку Коннолли, назвавшего Оруэлла «революционером, влюбленным в 1910 год»24. В данном случае ностальгия писателя кажется совершенно обоснованной. В 1938 году прошлое уж точно казалось гораздо более привлекательным, чем будущее. Память и воспоминания имеют огромное значение, в романе «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый» память и воспоминания играют роль как меча, так и щита. Боулинг признает, что во времена его юности общество было более неравноправным и суровым, но тогда «у людей было что-то, чего у нас сейчас нет.
Чего? Просто они не думали, что будущего надо бояться»25.
Боулинг не просто боится того, что может произойти в будущем, он видит эту опасность. Он идет по Лондону, «словно рентгеновским лучом»26 просвечивая прохожих и улицу, на которой возникают видения людей, стоящих в очереди за продуктами, видит пропагандистские плакаты и дула пулеметов в окнах спален. Кроме этого ему кажется, что он видит то, что случится после войны:
Мир, к которому мы катимся, мир ненависти, мир лозунгов. Цветных рубашек. Колючей проволоки. Резиновых дубинок. Секретных камер, в которых электрический свет горит днем и ночью и следователи следят за тобой, даже когда ты спишь. И демонстраций с плакатами, на которых изображены огромные лица, и миллионных толп, славящих лидера до тех пор, пока они не станут думать, что его боготворят, и все время в душе они ненавидят его так, что им хочется блевать27.
Это описание – предвестник Взлетной полосы I. В романе «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый» он писал: «Все то, что, как ты говоришь, кошмар, который может произойти только в других странах, на самом деле может случиться в твоей собственной»28.
Боулинг даже наблюдает своеобразную двухминутку ненависти, когда во время посещения «Клуба левых книг» слышит речь говорящего лозунгами антифашиста. «Ужасная вещь на самом деле – человек, который, словно из жерла, постоянно стреляет в тебя пропагандой. Повторяет одно и то же. Ненависть, ненависть, ненависть. Давайте соберемся вместе и хорошенько чего-нибудь поненавидим»29. Оруэлла отталкивала не политика (ведь он сам был антифашистом), а язык и тон. Даже отказавшись от пацифизма, он продолжал с подозрением относиться к риторике. В романе «Тысяча девятьсот восемьдеся четвертый» есть интересный момент, когда член внутренней партии О’Брайен, изображая из себя члена секретного Братства, спрашивает Уинстона и его любовницу Джулию о том, готовы ли они убивать, саботировать, закладывать бомбы и даже «плеснуть серной кислотой в лицо ребенка»30 для того, чтобы свергнуть режим Большого Брата. Те без колебаний отвечают утвердительно. Позднее О’Брайен напоминает Уинстону об этом эпизоде, подтверждающем то, что цель оправдывает средства. Противники Большого Брата называют свою организацию Братством, что говорит о том, что режим и его противники не так далеки друг от друга, как Уинстону хотелось бы верить.
Боулинг добирается до Нижнего Бинфилда, но пребывание в этом месте не приносит ему радости. Место, которое он помнил райским уголком, стало шумным и застроенным. Все современное претит герою, и его язык является своеобразным мостом между демократией и тоталитаризмом. «Новый вид людей из Восточной Европы… которые думают лозунгами и говорят пулями»31, они рационализированы, как и современная Англия[20]20
Вспомним слова Уинстона о его жене Кэтрин: «В ее голове не было ни одной мысли, которая бы не являлась лозунгом»32.
[Закрыть]. В лексиконе Оруэлла 1930-х слово «рационализация» было таким же опасным, как слова «гигиеничный», «стерильный» и «выхолощенный». Вот как он описывал капиталистическую дистопию: «Везде целлулоид, резина и хром, лампы горят у тебя над головой, все радио играют одну и ту же мелодию, зелени не осталось, все залито бетоном…»33 Все это напоминает список того, что ему не нравится, приведенный в сборнике «Авторы XX века»: «Мне не нравятся большие города, шум, автомобили, радио, консервированная еда, центральное отопление и “современная” мебель»34. У Оруэлла были скромные и старомодные вкусы, и это означало, что хотя он и уважал простого человека, но презирал многое из того, что нравилось обычным людям, жившим в 1930-х.
Так что было кое-что, что, по мнению Боулинга, стоило разбомбить. Точно так же и Комсток из романа «Да здравствует фикус!» боится и одновременно жаждет вой ны, ужасного чистилища, в котором исчезнут самые неприятные аспекты современной жизни. «Еще немного – и появятся аэропланы. Бабах! Несколько тонн тротила – и наша цивилизация летит к черту, куда ей и дорога»35. Точно с таким же апокалиптическим инстинктом Уэллс фантазировал о том, что марсиане уничтожат Уокинг, а Джон Бетжемен хотел, чтобы бомбы падали на Слау. Уничтожить все и начать заново. В первых четырех романах Оруэлла, несмотря на их различия, прослеживается ощущение клаустрофобии, распада и живой смерти. И конечно, запах страха.
Мы в нем купаемся. Это наша стихия. Все те, кто до смерти не боятся потерять работу, до смерти боятся войны, фашизма, коммунизма или чего-нибудь еще36.
30 октября 1938 года в восемь часов вечера по Нью-Йорку на радиостанции CBS непреднамеренно провели федеральное психологическое исследование чувства страха. Подготовленная на Хеллоуин передача программы The Mercury Theatre on the Air была адаптацией романа Г. Уэллса «Война миров». Сценарий писали двадцатитрехлетний вундеркинд Орсон Уэллс и писатель Ховард Кох. Уэллс не собирался никого обманывать или вводить в заблуждение. Позднее он говорил так: «Мы считали, что такая невероятная история может только утомить или слегка возмутить людей»37. Несмотря на то что в информацию о том, что смертоносные космические корабли марсиан приземлились в Нью-Джерси, действительно сложно поверить, в начале и конце каждого получасового сегмента в общей сложности часовой передачи транслировали объявление о том, что это развлекательная передача на основе художественной книги. Но сама программа была довольно убедительно представлена в виде чрезвычайных информационных сообщений, к тому же нервы людей сразу после подписания мюнхенских соглашений были напряжены.
Некоторые американцы пропустили предупреждение, приняли рассказ за правду и запаниковали. Репортеры достали Уэллса слухами о самоубийствах и массовой панике. В полицию, в редакции газет и на радиостанции звонило множество людей, пытаясь выяснить подробности «вторжения». Радиокомментатора в Кливленде (после его заявления о том, что никакого вторжения нет) обвинили в том, что он «говорит неправду»38. Реакция на радиопередачу была настолько бурной и неожиданной, что в течение последующих трех недель на эту тему было напечатано более 12 000 газетных статей. Даже Ховард Кох на следующее утро услышал на улице в Манхэттене разговоры о вторжении и предположил, что Германия напала на США.
В книге «Вторжение с Марса: исследование психологии паники» (1940) психолог из Принстона Хадли Кантрил сильно преувеличил количество людей, которых испугала радиопередача, хотя его намерения были самыми искренними, а проведенное им исследование было интересным. Его команда ученых установила, что чаще всего сведениям в передаче были склонны доверять люди сильно религиозные, легко поддающиеся панике и финансово неустойчивые или несостоятельные. Они не проверили полученную информацию, и в итоге программа подтверждала их страхи и ощущение недостаточного контроля, который они чувствовали. Кантрил писал: «Сложности современных институтов финансов и управления, различия экономических и политических предложений разных “экспертов”, угроза коммунизма, фашизма, продолжительной безработицы среди миллионов американцев – все это вкупе с тысячами других характеристик нынешней жизни создает среду, которую среднестатистический индивид совершенно не в состоянии осознать»39.
Один из опрошенных заявил, что реальные новости готовят почву для того, чтобы человек поверил во что-то удивительное, «потому что многое из того, что мы слышим, звучит совершенно нереально»40.
Оруэлл считал, что книга Кантрила была полезна для понимания методов влияния тоталитарных режимов. Этот случай продемонстрировал, что радио может быть отличным манипулятивным инструментом и может управлять общественным мнением даже тогда, когда не ставит перед собой такой цели. Газеты, писал он, «не в состоянии воспроизвести ложь, большую какого-то определенного масштаба»41. В газете для работников СМИ Editor & Publisher предупреждали: «Сохраняется угроза для всей нации со стороны недостаточно развитого и зачастую не всегда правильно понимаемого источника информации, который пока все еще должен доказать, что у него есть все необходимые компетенции для передачи новостей»42.
Кроме прочего, исследование Кантрила показало, что слушатели могут вести себя иррационально и не проверять получаемую информацию. «Существует очевидная связь между ощущением отсутствия личного счастья и готовностью верить в небылицы, – писал Оруэлл. – Это настрой, который в свое время заставил целые народы поверить в Спасителя»43. Занятно, что манипулятор общественным мнением Гитлер счел курьезный эпизод с радиопередачей доказательством декадентства современной демократии. Журналистка Дороти Томпсон писала, что этот инцидент «прекрасно продемонстрировал, что опасность приходит не с Марса, а от артистичного демагога»44.
Если Уэллс неосознанно оказался в состоянии обмануть огромное количество людей, каких успехов может добиться человек, который ставит обман своей целью? Именно такие вопросы ставил перед собой Патрик Гамильтон в пьесе «Газовый свет», постановка которой состоялась в Richmond Theatre 5 декабря 1938 года. «Газовый свет» – викторианская мелодрама, в которой муж, коварный Маннингам, чтобы отправить свою жену Беллу в дурдом, пытается убедить ее в том, что она сходит с ума. Чтобы собрать все необходимые доказательства, он говорит ей, чтобы она не верила своим собственным чувствам. «Вы не сходите с ума, миссис Маннингам, вас медленно, методично и систематически сводят с ума»45, – заявляет Белле полицейский детектив. Оруэлл часто сравнивал последствия массовой лжи с психическим заболеванием. Во время коммунистических чисток в Барселоне он назвал город «дурдомом»46. В романе «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый» Уинстон стремится сохранить рассудок, несмотря на то что О’Брайен считает его «сумасшедшим»47. Русская писательница Юлия Нэмир[21]21
Юлия Михайловна Нэмир (в первом браке де Бособр, ур. Казарина) эмигрировала из СССР в 1934 году. – Примеч. ред.
[Закрыть] провела два года в застенках НКВД, после чего написала мемуары «Женщина, которая не могла умереть». У Оруэлла была эта книга, хотя он ее не рецензировал. Психологическое давление тоталитарного режима она описала тремя вопросами: «Я сошла с ума? Или все сошли с ума? Или весь мир стал сумасшедшим?» 48 Целью психологического давления был распад личности.
Благодаря пьесе «Газовый свет» в медицинский, а позднее и политический лексикон вошел глагол «газлайтинг». К тому времени Гитлер и Сталин уже провели «газлайтинг» народам, которыми управляли.
Оруэлл с Эйлин вернулись в Лондон 30 марта 1939-го, за два дня до того, как последние части испанских республиканцев сдались франкистам. Оруэлл оставил рукопись романа «Глотнуть воздуха» своему издателю Виктору Голланцу, после чего супруги провели три недели в Гринвиче с Лоренсом О’Шонесси, навестили больного отца Оруэлла в небольшом городке Соузволд поблизости от реки Оруэлл в графстве Суффолк. Отец Оруэлла умер от рака в июне в возрасте восьмидесяти двух лет. За несколько часов до его смерти сестра писателя Авриль прочитала отцу положительную рецензию на роман «Глотнуть воздуха», и тот умер с надеждой на то, что его сын все-таки чего-то добился в этой жизни. Супруги приехали в Воллингтон, где Оруэлл собирался дожидаться наступления войны, которую считал величайшей катастрофой и личным оскорблением. Он планировал написать семейную сагу из трех частей под названием «Быстрые и мертвые». «Мысль о том, что меня убьют или мне придется отправиться в какой-нибудь вонючий концлагерь до того, как я закончу книгу, приводит меня в ярость. Мы с Эйлин решили, что, когда начнется война, самое лучше, что мы сможем сделать, – это остаться в живых, чтобы здравых людей было больше»49, – писал он Джеку Коммону.
При чтении написанного Оруэллом в то время складывается впечатление, что он упорно пытался прояснить отношения между фашизмом, коммунизмом и капитализмом. Лично ему больше по душе был четвертый вариант – демократический социализм, который, увы, не стоял на повестке дня. До своей поездки в Испанию он считал «вульгарной и популярной в наши дни ложью»50 представление о том, что «коммунизм и фашизм – это одно и то же». Однако после того как Оруэлл прочитал «Командировку в утопию» Юджина Лайонса, он понял, что сталинизм «не очень сильно отличается от фашизма»51.
Объяснить странную схожесть коммунизма и фашизма можно было с помощью одного ключевого понятия. Концепция тоталитаризма появилась в 1920-е в Италии. По словам Муссолини, это была политика, когда «все находится внутри государства, ничего не находится вне государства, ничего против государства» 52. Для англосаксов это определение звучало исключительно негативно. В выпущенной в 1940 году книге «Тоталитарный враг» Боркенау писал, что нацизм и сталинизм являются двумя обличьями одного и того же монстра – «коричневый большевизм»53 и «красный фашизм». Это было свежо по сравнению с идеями Джона Стрейчи, выдвинутыми в 1932 году в книге «Приближающаяся борьба за власть», в которой тот утверждал, что фашизм был «дубинкой капиталистического класса»54, а коммунизм – единственной защитой. «Оба режима, начав развиваться с разных концов политического спектра, быстро движутся в сторону одной и той же системы – определенной мутации олигархического коллективизма»55, – писал Оруэлл в рецензии на книгу Боркенау, предвосхищая появление в романе «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый» названия книги Эммануэля Голдстейна «Теория и практика олигархического коллективизма». Позднее Оруэлл писал: «Проблема практически всех левых, начиная с 1933-го, заключалась в том, что они хотели быть антифашистами, но не антитоталитаристами»56.
История не давала никаких подсказок, потому что это была совершенно новая ситуация. В рецензии на книгу о Франко Оруэлл писал: «Издание называется “Назад в Средние века”, что несправедливо по отношению к Средним векам. Тогда не было пулеметов, а инквизиция была весьма любительским мероприятием. Торквемада сжег всего две тысячи людей за десять лет. В современной России или Германии сказали бы, что он даже и не пытался»57.
3 сентября 1939 года в 11:15 утра премьер-министр Англии Невилл Чемберлен объявил, что Великобритания находится в состоянии войны с Германией. Спустя несколько минут в Лондоне провели первые учения по подготовке к бомбардировке. Началась эвакуация детей в сельскую местность. На тротуарах города появились мешки с песком, а в небе – заградительные дирижабли. Ночью запрещали включать свет. Журналист Малкольм Маггеридж писал: «Когда я пробирался по темным улицам, мне казалось, что навсегда исчезал старый, привычный и такой удобный стиль жизни… Сложно представить, что что-то из существующего сейчас появится в будущем, оборвалась последовательная линия связи времен»58.
Оруэлл перестал быть пацифистом. Через пару недель после начала войны британская писательница Этель Мэннин написала ему письмо, в котором восхищалась антивоенным посылом романа «Глотнуть воздуха». Ее «дико удивило, обозлило и напрягло»59 то, что в ответном письме Оруэлл подчеркнул, что готов надеть форму и защищать родину. «Я же думала, что ты считаешь борьбу с нацистами полным идиотизмом», – писала она в ответ.
Настрой Оруэлла изменило подписание советско-германского пакта о ненападении. 23 августа министр иностранных дел Рейха фон Риббентроп прилетел в Москву, где его приветствовали висящими рядом красными флагамим с серпом и молотом и свастикой. Военный оркестр Красной армии исполнил нацистский марш Хорста Весселя, являвшийся официальным гимном Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Оруэлл считал, что в данной ситуации надо выбирать империалистическую Англию, а не союз двух тоталитарных государств. Он был очень рациональным человеком, но на этот раз объяснил изменение своего решения не фактом подписания пакта о ненападении, а сном, который ему приснился ночью, перед днем объявления о его подписании: «Этот сон показал мне две вещи. Во-первых, что я с облегчением узнаю о том, что начнется эта война, которой все боятся, и во-вторых, что в глубине души я – патриот, не буду саботировать своих, поддержу эту войну и буду сражаться, если это возможно»60. Он покинул ряды НРП и начал называть пацифизм формой умиротворения, являющейся «объективно профашистской»61 (позднее он говорил, что обвинения его в том, что он придерживается этой позиции, являются «бесчестными»). «Интеллектуалы, утверждающие, что демократия и фашизм – это одно и то же, ужасно меня угнетают»62, – заявлял он Голланцу. Так что никаких больше Траляля и Труляля.
Английское правительство дало указание приготовить картонные гробы и копать братские могилы в ожидании двадцати тысяч жертв бомбардировок. Однако немцы не торопились бомбить. 3 сентября начался период «псевдовойны», как говорил Оруэлл. Позднее он неоднократно и весьма точно описывал его как период «холодной войны»63. Это время напомнило ему о затяжном бездействии на арагонском фронте. Писатель не любил ощущения того, что ничего не происходит. Читая спустя шесть месяцев результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской компанией Mass Observation, Оруэлл узнал, что «большинство британцев удивлены и слегка раздражены, хотя при этом в некоторой степени и обнадежены совершенно несправедливым представлением о том, что выиграть войну будет легко»64.
Эйлин нашла работу в цензорском отделе министерства информации и переехала в Лондон. Оруэлл, чувствуя себя совершенно бесполезным, остался в деревне. Он хотел сражаться в этой «чертовой войне»65, но больные легкие не давали ему возможности вступить в ряды армии. В то время он практически не занимался фриланс-журналистикой, а мрачно размышлял о том, как эта «псевдовойна» поставит мир на грань катастрофы.
Оруэлл настолько сильно любил негативные гиперболы, что весьма сложно оценить истинную глубину его пессимизма. «Все удивительно странное в конечном счете меня завораживает, даже если я это просто ненавижу»66, – писал он в романе «Дорога на Уиган-Пирс». Начиная с повести «Фунты лиха в Париже и Лондоне» и заканчивая романом «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый» пульс его прозы каждый раз неизменно учащается по мере приближения описания катастрофы. Неудивительно, что Оруэллу понравилась «блестящая и депрессивная»67 книга Малкольма Маггериджа «Тридцатые». Маггеридж работал московским корреспондентом The Manchester Guardian, прекрасно владел словом, и его книга была правдивым и не лишенным юмора рассказом о сложной эпохе 1930-х годов. В рецензии на эту книгу Оруэлл писал: «Он смотрит только на темную сторону вопроса, но весьма сомнительно, что у него вообще была светлая сторона. Ну и десятилетие! Буйство ужасного вздора, которое неожиданно превращается в кошмар, красивый путь, заканчивающийся камерой пыток»68.
Маггеридж сделал много выводов, но одним из самых неожиданных был вывод о том, что в тридцатые появилась мания сбора информации в виде документальных фильмов, исследований и опросов общественного мнения. «Занятно, а может, и закономерно, что наряду с желанием иметь факты и их огромным количеством появилось желание иметь что-то фантастическое, в чем тоже не было недостатка… Можно предположить, что никогда ранее статистика не являлась такой востребованной и ее так экстравагантно не фальсифицировали»69. Превращение статистики в фетиш для производства ложной информации не только отдаляло людей от правды, но лишь плодило все больше оптимистичной лжи. Подобные процессы происходили в Германии и России, а также и в Океании, где Уинстон Смит по долгу службы целыми днями переписывает архивные копии The Times. Для министерства правды факты не имеют никакого значения. В министерстве считают, что надо сделать так, словно они это значение имеют, потому что воспоминания мимолетны и эфемерны. Человеческая память – ничто по сравнению со «свидетельствами» и «доказательствами».
Как должен вести себя писатель в такие сложные времена? Как он должен реагировать на ужасы войны? Сидя в одиночестве в Воллингтоне, Оруэлл ломал голову над этими вопросами. В его первом сборнике эссе «Во чреве кита» есть одноименное эссе, в котором Оруэлл не смог убедить ни себя, ни читателя в прелестях политически апатичной самовлюбленности Генри Миллера (позднее он называл позицию этого писателя «нигилистическим отмалчиванием»70), а также в том, что он сам предпочитает американский прямой и грубый стиль без лишних глупостей по сравнению с «ярлыками, лозунгами и упущениями»71 прокоммунистической интеллигенции. «Хорошие романы пишут не те, кто вынюхивает отсутствие ортодоксальности, и не те, кто в душе страдает по поводу своей неортодоксальности. Хорошие романы пишут люди, которые не боятся»71. Основной посыл эссе – отчаяние и попытка спасти свою порядочность из-под обломков 1930-х. В ситуации, когда не предлагается никаких нормальных вариантов, когда мир «движется к эпохе… в которой свобода мысли сначала станет смертным грехом, а потом бессмысленной абстракцией»72, человек, по крайней мере, должен стремиться оставаться честным.
Не стоит цитировать «Во чреве кита», не отмечая, что в момент написания эссе Оруэлл находился в состоянии эмоционального напряжения и интеллектуального переосмысления. Например, «литературная история тридцатых, судя по всему, оправдывает мнение о том, что писателю лучше держаться подальше от политики»73 – это точка зрения, которую сам писатель всю жизнь игнорировал. Второе эссе из сборника посвящено писателю, который отказывался прятаться внутри кита. Оруэлл отмечал, что Чарльз Диккенс «всегда был на стороне проигравшего, слабого против сильного» и «всегда поучал… Творить можно только тогда, когда ты переживаешь и заботишься»74. В этом вопросе Оруэлл был настолько солидарен с Диккенсом, что эссе превратилось в бурный поток самоанализа. В роли литературного критика Оруэлла в меньшей степени интересовал анализ текста, чем сами индивиды и их идеи. Какими людьми были Диккенс, Шекспир, Миллер и т. д.? Каким они видели мир? Эссе заканчивается известным описанием лица Диккенса или скорее описанием лица, которое, по представлению Оруэлла, было у этого писателя. «Это лицо человека, который всегда с чем-то борется, который борется в открытую и не боится, лицо человека, который щедро зол – другими словами, лицо либерала XIX века, свободного ума, лицо того, кто одинаково ненавидит все вонючие мелкие ортодоксии, бьющиеся за наши души»75. Это лицо человека и писателя, которым сам Оруэлл стремился стать, человека, который во многом находится вне своего времени.