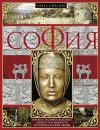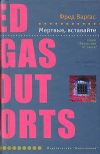Автор книги: Дж. Майкл Стражински
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 12
Слова, миры и эстроген
Первые дни в Лос-Анджелесе нам пришлось прожить в машине, пока наконец Чарльз не снял дешевую квартиру в Инглвуде. Только переехав туда, мы поняли, почему арендная ставка была такой низкой: дом стоял там, где широкая лента шоссе вкатывалась в международный аэропорт Лос-Анджелеса.
Самолеты ревели двигателями день и ночь, да так, что разговаривать было просто невозможно.
Но это было лучше, чем спать в машине, а что до разговоров, то мы и так почти не разговаривали друг с другом.
Единственное, в чем я был на сто процентов уверен, когда речь шла о профессии писателя, – так это в том, что придется много печатать. Так что как только я пошел учиться в среднюю школу Леннокса, то сразу записался на начальный и продвинутый курсы машинописи, а в последнем я неожиданно для себя оказался единственным парнем в группе. Даже в начале семидесятых от девушек ожидали, что они пойдут на курсы машинописи, чтобы подготовиться к карьере секретарш важных мужчин, в то время как парни предпочитали спортивные секции, чтобы потом превратиться в тех самых сильных и властных бизнесменов. Девчонки были для меня абсолютной загадкой, они казались такими же чужеродными и непознаваемыми, как поверхность Марса.
Я никогда в жизни еще не был на свидании и в свои пятнадцать лет был болезненно застенчив. Мысль о том, чтобы подойти к девчонке и начать с ней разговор, пугала меня гораздо больше, чем все, что когда-либо было написано Лавкрафтом. Понятно, что я впал в тихий ужас, когда некоторые из представителей этой формы жизни сгрудились вокруг меня во время первого дня занятий и стали разговаривать со мной, спрашивая, откуда я родом и что делаю на их планете. Неужели я хотел стать секретарем?
ЕДИНСТВЕННОЕ, В ЧЕМ Я БЫЛ НА СТО ПРОЦЕНТОВ УВЕРЕН, КОГДА РЕЧЬ ШЛА О ПРОФЕССИИ ПИСАТЕЛЯ, – ТАК ЭТО В ТОМ, ЧТО ПРИДЕТСЯ МНОГО ПЕЧАТАТЬ.
Я обнаружил себя в плотном кольце из мини-юбок, запаха духов и феромонов. Моей отличительной чертой было то, что я всегда правдиво отвечал на все вопросы, вот и в тот день, смущаясь, я едва выдавил из себя, что хочу научиться печатать, чтобы стать писателем. Мой ответ не только не заставил их отстать от меня, но вызвал дополнительный живой интерес, и вот уже почти все они, столпившись вокруг, продолжали со мной разговаривать!
– А что ты уже успел написать? – подступали они все ближе и ближе.
С горящими от смущения щеками, низко склонившись над машинкой, я пробормотал что-то совершенно нечленораздельное. Когда же закончится эта пытка?
Меня тут же попросили показать что-нибудь, что я уже успел написать.
– Нет! – громче, чем следовало бы, воскликнул я голосом, который еще не перешел из фальцета в нечто, звучащее более или менее по-мужски. Когда я все же объяснил, что ничего еще не написал, потому что еще не был к этому готов, девчонки потеряли ко мне интерес. Они решили, что я или вру, или просто слишком странный, так что быстренько вернулись на свою планету, оставив меня наедине с клавишами печатной машинки.
Вот уже долгие годы я говорил о том, что хочу стать писателем, но мой отец всегда поднимал меня на смех, считая, что я слишком круто замахнулся и слишком важничаю. Мнения своего он не изменил, но когда узнал, что я хожу на курс машинописи, то решил, что может использовать мои новые навыки себе на пользу.
– Хочешь стать писателем? Отлично. У меня есть кое-что для тебя. Напишешь о том, как я застрял в России во время войны.
Ага, всю жизнь мечтал.
С тех пор как отец вернулся из Европы, прошли уже десятки лет, но он до сих пор был уверен, что мог бы задорого продать свою историю, если бы пресса отнеслась к ней более внимательно. Ну а теперь, когда в доме был свой писатель, или, на худой конец, удивительно быстрая машинистка в моем облике, то почему бы не попробовать продать ту же историю еще раз. И вот каждый день я приходил из школы и садился за старую, 1930 года выпуска машинку Royal American, которую отец купил в местном кабаке всего за десять баксов.
Она годами стояла на полке над баром и была элементом интерьера, а вовсе не рабочим инструментом. Все это время никто и не думал даже почистить ее и привести в порядок. Клавиши заедали, лента высохла, рычаг перевода строки периодически не работал, а сам валик был весь в щербинах и зазубринах. Мне приходилось с силой бить по каждой клавише, чтобы буква отпечаталась на бумаге. После этого рычаг медленно отходил назад на свое место и тихо замирал, словно отдыхая после тяжелой работы.
ТОГДА Я ЕЩЕ НЕ ПОНИМАЛ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ «ДРАМОЙ» И «МЕЛОДРАМОЙ», «КРАТКОСТЬЮ ПОВЕСТВОВАНИЯ» И «ВЫСОКОПАРНЫМ СЛОГОМ», И ТЕКСТ МОЙ СЛИШКОМ ЧАСТО БЫЛ СЕНТИМЕНТАЛЬНЫМ И ОДНОВРЕМЕННО ЗАНУДНЫМ.
Отец назвал свой опус (в действительности же всю работу от «а» до «я», приходилось делать мне[21]21
Любопытно, что это все еще задевает меня. Спор о том, кто именно был автором этой бредятины, сродни диспуту на тему, у кого была лучшая каюта на «Титанике».
[Закрыть]) «Каникулы, которые так хочется забыть». По мере того как он описывал каждый этап своего путешествия, я делал подробные заметки. После этого уходил в свою комнату и начинал писать, пытаясь придать тексту литературный вид. На самом деле я только перегружал текст различными словами и выражениями. Тогда я еще не понимал разницы между «драмой» и «мелодрамой», «краткостью повествования» и «высокопарным слогом», и текст мой слишком часто был сентиментальным и одновременно занудным.
Ниже я привожу начало истории, которое печатал на слух, и некоторые свои комментарии.
«Когда мать сказала нам, что мы едем в Европу, мы с сестрой на несколько дней впали в восторг[22]22
«Впасть в восторг» – хуже и не скажешь. Можно «прийти в восторг» или «впасть в кому». Этим двум словам вообще нечего делать в одном предложении.
[Закрыть]. Наконец наступил день отплытия. Несмотря на то что путешествие должно было продлиться всего три месяца, мы везли с собой столько вещей, что хватило бы и на год[23]23
Типичная ошибка начинающего писателя: преувеличение значимости мелкого события, чтобы нагнать драматизма.
[Закрыть].
Я был мальчиком десяти лет[24]24
Совершенно ненужное упоминание пола, достаточно было бы написать «Мне было десять лет».
[Закрыть], сестре было восемь, у нее был полиомиелит, и доктор сказал, что поездка за границу может пойти нам на пользу.
Вечером 6 июня 1939 года небольшая группа наших друзей собралась на пирсе в Хобокене, Нью-Джерси, чтобы пожелать нам счастливого пути. Мы поднялись на палубу польского лайнера „Бэтори“, который должен был доставить нас в Польшу, к родственникам.
Жизнь на лайнере была наш настоящий праздник каждый день[25]25
Я не понимаю, что случилось с этим предложением.
[Закрыть]. Почти все время мы проводили на палубе, наслаждаясь морским бризом, а на пятый день путешествия встретились в океане с лайнером „Пилсудский“, абсолютной копией нашего „Бэтори“. Он шел из Польши в Америку. Оба судна поприветствовали друг друга серией гудков, и целая толпа людей махала нам с того корабля, ну и мы помахали им в ответ[26]26
Учитывая политическую ситуацию, можно предположить, что пассажиры того лайнера попросту пытались сообщить: «Ребята, да вы не туда плывете!»
[Закрыть].
Путешествие длилось десять дней, и 16 июня 1939 года мы прибыли в польский порт Гдыня. Вход лайнера в порт[27]27
Еще один образец плохого стиля. Нет необходимости писать о каждой детали совершенного действия. Вполне достаточно: «В порту лайнер приветствовали…»
[Закрыть] приветствовали оркестры, люди пели и танцевали. Нас очень хорошо встретили.
Сегодня, когда я вспоминаю те дни, то хорошо понимаю, какими счастливыми мы были тогда. Мы и не подозревали о том, какой ужас сторожит[28]28
Ужас не может «сторожить», он может ждать или поджидать, а вот проблемы могут «настораживать», но это уже не про «ужас».
[Закрыть] нас в недалеком будущем».
Все написанное было ужасным. В конце каждого предложения звучало трагическое «Та-да-да-дам-м!» Единственное, что меня оправдывает, – это мой юный возраст и то, что я работал с отвратительным материалом и на смертельно раненой машинке.
Отец становился все более и более словоохотливым, вспоминая все новые и новые детали. А потом случилось кое-что любопытное[29]29
Та-да-да-дам-м!
[Закрыть]: мы добрались до того периода, когда он, Тереза и София жили на железнодорожной станции Богданово, захваченной немцами. Отец на мгновение замолк, словно пытаясь решить, как лучше рассказать о чем-то, чтобы не сболтнуть лишнего.
– А теперь о Вишнево, – сказал он наконец.
Я весь напрягся. Это было то самое слово, которое тетка использовала, чтобы поставить папашу на место. Я подумал, что наконец-то узнаю о том, что оно значило.
Он сказал, что ближе к концу августа 1942 года на станцию прибыл отряд солдат СС. Соединившись там с одним из подразделений гестапо, они отправились в направлении деревни Вишнево.
Вот отрывок из текста, записанный по его словам:
«Я шел за ними, держась на расстоянии. Они прошли мимо православной церкви и повернули направо, по направлению к еврейскому кладбищу. Я пересек поле, спрятался в развалинах старого бункера времен Первой мировой войны и стал ждать. Через несколько минут привели евреев, и гестаповцы вместе с полицией оттеснили толпу евреев к заранее выкопанным ямам. Раздавались крики, я не очень хорошо слышал, что кричали, но, думаю, им приказали построиться в шеренгу перед ямами. Многие двигались медленно и нерешительно. Других же силой оттесняли к ямам. Наконец раздалась команда. Грянули выстрелы, громко протыкая небесное спокойствие.
Пленные медленно оседали на землю и падали в ямы. Кто-то пытался спастись, но я не уверен, что кому-то это удалось. Из бункера, в котором прятался, я видел, что некоторые еще были живы, но похоронная команда сталкивала их в ямы и засыпала землей».
После этого отец описал еще один случай, который случился там же, в Вишнево, но немного позже:
«В августе 1942 года помощницы[30]30
Это были совсем молоденькие еврейские девушки, которых заставили работать на Софию.
[Закрыть] моей матери пришли на работу очень рано. Эдмунд Ланг[31]31
Один из немецких офицеров, служивших на станции.
[Закрыть] по секрету сказал матери, что у него есть информация, что в скором времени в Вишнево должно кое-что произойти. Мать рассказала об этом своему дяде, который гостил у нас в то время. Я случайно подслушал их разговор и сразу же отправился в Вишнево. Через час я уже был на месте и обнаружил, что на площади и вокруг царила какая-то суета. Здесь было много грузовиков, изредка раздавались пистолетные выстрелы, а поперек дороги стоял немецкий грузовик, заблокировав выезд из деревни, и солдаты никого не выпускали из деревни.
Я спросил у человека, стоявшего рядом со мной, что происходит, и он ответил, что немцы вытесняют евреев из гетто и пытаются собрать их всех в конце улицы.
Кто-то шел пешком, а тех, кто был стар и слаб, подвозили на грузовиках. Я подобрался как можно ближе. Я слышал жуткие крики, их не заглушали даже самые громкие выстрелы. Я понимал, что в кого-то стреляли, но не стал искать, в кого именно. Я помнил, что случилось на кладбище, и не хотел увидеть нечто подобное еще раз. Вместо этого я решил уйти и вернуться на станцию».
В этой истории было больше вопросов, чем ответов. Как Чарльзу удалось стать свидетелем тех событий, если, по его же словам, от станции до деревни надо было ехать полчаса по плохой дороге?
– Я шел за ними, держась на расстоянии.
Он что, шел пешком? Поспевая за грузовиками и солдатами на марше? Он делал это все пять миль?
– Услышав это, я тут же отправился в Вишнево.
Так уж прямо сразу и отправился?
Как это он сразу отправился? Залез в грузовик? Дематериализовался, а потом снова материализовался около деревни? Отец отказался что-либо объяснять. Он просто оказался там, и все. Точно к таким же умалчиваниям папаша прибегал, когда ему нужно было избежать лишних деталей для своей же защиты, что, учитывая обстоятельства, выглядело очень подозрительно.
ОТЕЦ СТАЛ СВИДЕТЕЛЕМ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ. НО У МЕНЯ БЫЛО ТАКОЕ ЧУВСТВО, ЧТО ИСТОРИЯ БЫЛА РАССКАЗАНА НЕ ПОЛНОСТЬЮ,
А еще мне показалось странным, что немецкий офицер вдруг взял и поделился с Софией, которая вроде как была чуть ли не просто уборщицей, тактическими деталями запланированного нападения. Еще более странным было то, что другой немецкий офицер предупредил Софию о том, что она должна срочно бежать, если не хочет, чтобы ее объявили пособницей нацистов из-за того, что работала на железнодорожной станции. На той же станции работали и другие люди, и многие делали это против своей воли, но почему же предупредили только Софию?
УЖ СЛИШКОМ АККУРАТНО ОТЕЦ ПОДБИРАЛ СЛОВА, И ЭТО ВЫЗЫВАЛО ВПОЛНЕ ОБОСНОВАННЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ.
Отец отказался объяснять что-либо.
– Пиши давай, без вопросов, – только и сказал он.
Позднее, проходя мимо спальни родителей, я увидел, что отец разложил свой немецкий китель на кровати и смотрел на него с выражением сожаления и ностальгии в глазах. Наши глаза встретились, и тут его взгляд вдруг стал жестким и холодным, как будто это не он смотрел на меня. В этом взгляде ощущалась какая-то черная бездонная жуть. Тут отец захлопнул и запер дверь, и все, слава богу, закончилось. Удивительно, но на один короткий миг я почувствовал к нему жалость. Он стал свидетелем страшного преступления, и это точно был травматичный опыт. Сколько людей было убито! Это было действительно важно. Отец стал свидетелем исторических событий. Но у меня было такое чувство, что история была рассказана не полностью, уж слишком аккуратно отец подбирал слова, и это вызывало вполне обоснованные подозрения.
Было там что-то, что он хотел от меня скрыть.
В феврале 1971 года отец нашел работу. Международная телефонно-телеграфная компания ITT искала опытных специалистов в области производства изделий из пластика для своего предприятия Hydrospace Cable в Нешнел-Сити, к югу от Сан-Диего[32]32
Через много лет суд признает корпорацию ITT виновной в ряде уголовных преступлений, в том числе в активном участии в военных переворотах в Бразилии и Чили и незаконной продаже оружия и нарушении Акта по контролю над экспортом вооружения. Мой отец для этой конторы подходил просто идеально.
[Закрыть]. Отец каким-то образом смог убедить своих будущих работодателей в том, что его бизнес в Матаване был очень успешным. Он был нанят, и корпорация оплатила нам все расходы по переезду семьи в Сан-Диего.
Мы поселились на Пятой авеню, 1250, в Чула-Виста, в спальном районе южной части Сан-Диего. Я должен был закончить свой первый год обучения в средней школе Чула-Виста, и это была уже моя двенадцатая школа и восемнадцатый переезд на новое место за неполные семнадцать лет.
Поскольку я не имел ни малейшего представления об индексе Стремного Дерьма в этом городе, я старался держаться подальше от местных жителей на случай, если они вдруг превратятся в зомби, алчущих человеческого мяса, и набросятся на меня. Учителя знали меня скорее как имя и фамилию в списке учеников, а не как человека. За контрольные я получал средние оценки, и я знал нескольких других учеников достаточно хорошо, чтобы изредка с кем-то здороваться в коридоре или в столовой.
В городе была хорошая библиотека, и я тут же воспользовался этим серьезным преимуществом, чтобы расширить свой кругозор. Я читал не только фантастику и фэнтези, но и книги на исторические темы, биографии, университетские учебники по правописанию, истории, естественным наукам, психологии, а также книги на общественно-политические темы. Внутри моей головы вдруг образовалась черная дыра, которая требовала все больше и больше знаний. Во мне аккумулировалась энергия, готовая в любой момент к… К чему?
Начать писать? А был ли я готов? Я не понимал, накапливался ли во мне некий заряд писательского импульса или это были мои гормоны, которые наконец-то стали выходить из режима спячки.
Каждый раз, когда я думал, что, возможно, готов начать писать, я сталкивался с тем, что не понимаю разницы между стилем и голосом писателя. Я чувствовал разницу, но не мог объяснить ее более или менее понятным способом. Рассказы Рэя Брэдбери звучали мягко и тепло, как осенние листья на лужайке, а рассказы Роберта Хайнлайна были резки и надежны, как стальные шестеренки. Они выражали то, кем были их создатели, их индивидуальный стиль.
Но был ли этот стиль тем же самым, что и их голос?
Ответ на этот вопрос пришел ко мне летом, в конце моего первого года в средней школе, когда я читал сборник коротких рассказов Г. Ф. Лавкрафта под названием «Цвет из иных миров». Прозу Лавкрафта можно хвалить за образность, цветастость, сюрреалистичность и способность унести читателя далеко-далеко от реальности, но она никогда не была утонченной. Лавкрафт обрушивается на вас очередями прилагательных и определений, совсем не заботясь о том, что кто-то может оказаться под их перекрестным огнем, выплескивает одну длинную фразу за другой, описывая инопланетные города как «циклопические конструкции зловещих рас» и используя такие слова, как «сквамозный», «тошнотворный» и многие другие. В поиске значений многих из них мне пришлось переворошить кучу словарей и справочников.
КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА Я ДУМАЛ, ЧТО, ВОЗМОЖНО, ГОТОВ НАЧАТЬ ПИСАТЬ, Я СТАЛКИВАЛСЯ С ТЕМ, ЧТО НЕ ПОНИМАЮ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ СТИЛЕМ И ГОЛОСОМ ПИСАТЕЛЯ.
Его рассказы разворачивались в древних, покинутых городах, где согбенные (смотри словарь) существа передвигались, взгромоздившись (еще раз смотри словарь) на огромных чудовищ где-то глубоко под водой, а за ними из бесконечных космических далей наблюдали другие космические сущности, всю степень величия которых может понять лишь тот, кто взирает на них сквозь призму безумия.
Лавкрафт был настолько избыточен, что я вдруг понял:
стиль является шагом или переходом от одного слова к другому для создания мелодии, которая несет в себе образы, характеры, и устремляется непосредственно в мозг, создавая особый, искусный ритм, который можно замедлять или ускорять, в зависимости от настроения или замысла. Голос же – это то, чем является сам писатель, который стоит за элементами стиля: отношение, точка зрения, личность. Писатель может использовать разные стили:
жестко-нуарный, готический, а потом перейти к барокко, но каждый шаг в развитии содержания контролируется одним и тем же интеллектом. Стили могут приходить и уходить или использоваться разными авторами одновременно (так, Лавкрафт позаимствовал некоторые стилистические инструменты у Лорда Дансени и Артура Мэкена), но голос писателя всего один, собственный, уникальный.
Стиль – это одежда, а голос – тело.
В тот самый момент, когда я это понял, электрическая цепь внутри меня замкнулась и запустила двигатель в моей голове. Все отдельные знания о том, что значит быть писателем, вдруг соединились в одно целое, и все стало так ясно и понятно, что у меня перехватило дыхание.
Я отбросил книгу Лавкрафта в сторону, схватил блокнот и лихорадочно принялся за свой первый рассказ.
Слова выскакивали так быстро, что я не успевал записывать. Через несколько часов, едва дыша и в полном возбуждении, я закончил свой первый (очень) небольшой рассказ.
Но двигатель в голове не желал успокаиваться. «Еще один!» – приказал он мне.
Я принялся за второй рассказ и закончил его уже после полуночи.
Но и это был не конец. «Еще!» – требовал мой мозг.
Я не мог остановиться. Все нужные слова были здесь, со мной. Я мог использовать их в своем рассказе или пропустить, чтобы ими воспользовались другие писатели, но их поток казался неиссякаемым. Только на рассвете этот поток пошел на убыль, и я упал в кровать, чтобы проспать двенадцать часов.
«Что ЭТО было?» – первым делом подумал я, когда проснулся. Я чувствовал себя так, словно меня чем-то опоили. Но осознание случившегося было бесконечно более важным.
Первый раз за всю свою жизнь я действительно проснулся.
Весь остаток лета я провел в экспериментах. Я писал рассказы в стиле Лавкрафта, потому что его было легче всего определить. Кроме того, он был профессиональным писателем, и я думал, что именно так все и пишут.
Затем я прочитал рассказ Харлана Эллисона и подумал: «Нет, погоди, вот как надо писать», и сочинил рассказ в его стиле. Прочитав Брэдбери и Хантера Томпсона, я снова поменял стиль. «Все понятно, должно быть так все писатели и пишут».
Еще много лет я не понимал, что писатель всего лишь разговаривает своим обычным голосом, но только не с помощью языка, а с помощью бумаги. Писатели пишут так, как говорят, и говорят, как пишут. Нужно найти правильные слова, чтобы сказать именно то, что ты имеешь в виду, не пытаться перехитрить самого себя.
Как и большинство писателей-неофитов, я приукрашал текст, пытаясь заставить его выглядеть более «литературно», а именно это делать категорически нельзя.
К концу лета я написал одиннадцать коротких рассказов. Я не перечитывал их некоторое время, но, когда до занятий в школе осталось две-три недели, я решил перечитать их, предвкушая насладиться собственным великолепием. Но все мои рассказы были полным дерьмом. Это был какой-то тихий ужас.
ЕЩЕ МНОГО ЛЕТ Я НЕ ПОНИМАЛ, ЧТО ПИСАТЕЛЬ ВСЕГО ЛИШЬ РАЗГОВАРИВАЕТ СВОИМ ОБЫЧНЫМ ГОЛОСОМ, НО ТОЛЬКО НЕ С ПОМОЩЬЮ ЯЗЫКА, А С ПОМОЩЬЮ БУМАГИ. ПИСАТЕЛИ ПИШУТ ТАК, КАК ГОВОРЯТ, И ГОВОРЯТ, КАК ПИШУТ.
Я не мог ничего понять. Где они, мои великолепные, потрясающие, достойные Нобелевской премии рассказы?
Кто украл их у меня и заменил этими жалкими уродцами? А ответ на эту загадку был прост. Все рассказы были написаны с использованием тех инструментов, которые были у меня в наличии, когда я работал. Все писатели начинают сочинять, используя один и тот же набор инструментов, в котором едва ли найдется еще что-то, кроме отвертки да ржавых плоскогубцев. С такими инструментами далеко не уедешь. Но каждый завершенный рассказ добавляет в набор еще один новый инструмент, которым можно будет воспользоваться в будущем, чтобы писать лучше, и помогает понять сильные и слабые стороны прошлых работ.
За исключением изредка появляющихся вундеркиндов, которые всех бесят, писатели, художники и музыканты в начале своей карьеры очень плохи, поэтому многие из них так рано и легко и забрасывают свое дело. «Что-то у вас не очень хорошо получается», – говорят нам скептики, и ужас состоит в том, что они не ошибаются, и мы это знаем. Но дело ведь не в отсутствии таланта, а в отсутствии опыта, а чтобы его получить, требуется время. Недостатки в ранних работах отражают не более чем нехватку опыта. Вся суть состоит в том, что надо продолжать двигаться вперед и собирать все необходимые инструменты, пока качество работы не начнет улучшаться, – а это обязательно случится.
Еще одна беда состоит в том, что доброжелательные друзья и родственники часто говорят, мол, «Отлично, попробуй писать/играть/сочинять музыку год или два, а если не получится, оставь это дело и займись чем-нибудь другим». Искусство имеет тенденцию к развитию: чем больше работаешь, тем лучше получается. Я готов поспорить, что если написать пятнадцать рассказов, то пятнадцатый хоть немного, но будет лучше самого первого. Другое просто невозможно. Если устанавливать срок, после которого бросишь заниматься любимым делом, то может случиться так, что вы бросите свое любимое дело в тот самый момент, когда у вас начнет действительно получаться.
Если говорить о тех одиннадцати рассказах, которые я написал, то рассказы с восьмого по одиннадцатый предоставили мне набор инструментов достаточный, чтобы понять, что рассказы с первого по седьмой были полным дерьмом. Но этих инструментов не хватало, чтобы понять, как их исправить. Так же было и дальше: после того как я написал с двенадцатого по шестнадцатый, с восьмого по одиннадцатый тоже стали полным дерьмом. Недостатки моих творений были настолько удручающе очевидны, что я начал думать, что они больше подходят для выстилания кошачьих лотков, чем для литературных журналов. И только крошечные качественные изменения в некоторых из последних рассказов вселяли в меня надежду. Я начал понимать, что обучение писательскому мастерству сродни бурению в поисках нефти. Прежде чем получить хорошую, качественную нефть, необходимо выкачать огромное количество грязи, воды, костей динозавров и черт его знает чего еще. Поэтому я решил, что буду писать так много и так быстро, как только смогу, чтобы прорваться сквозь этот «обожекакаячушь» этап в работе. Я самонадеянно думал, что мне понадобится год, ну, может быть, два года, чтобы научиться писать как надо.
Я НАЧАЛ ПОНИМАТЬ, ЧТО ОБУЧЕНИЕ ПИСАТЕЛЬСКОМУ МАСТЕРСТВУ СРОДНИ БУРЕНИЮ В ПОИСКАХ НЕФТИ.
Я пишу эти слова, и мне уже шестьдесят четыре, а я все еще жду, когда же придет это славное время.
Начался новый учебный год, я перешел в старший класс и записался на два предмета, которые довольно неожиданно и достаточно серьезно изменили траекторию моей жизни. Первым предметом была «Сатира», занятия в классе вела Рошель Терри, а вторым – мой первый класс «Креативного письма», которым руководила Джо Энн Мэсси. Когда я признался им, что мечтаю стать писателем, я думал, что они поднимут меня на смех так же, как все остальные взрослые до них. Вместо этого они стали всячески поддерживать меня, а я в ответ заваливал их своими рассказами. Там, где другие студенты боролись с письменными заданиями, выдавливая из себя по четыре-пять страниц, я выдавал по двадцать или даже больше страниц, отпечатанных на машинке. Миссис Мэсси включила один из моих рассказов в ежегодный журнал старшеклассников, а миссис Терри вдохновила меня на написание коротких сатирических пьесок, которые мы ставили и показывали ученикам из других классов. Да, писал я из рук вон плохо, но преподаватели видели проблески в моих работах, и я надеялся, что с их помощью со временем стану писать чуть менее ужасно.
Уже давно сложилось клише, что подходящий учитель, оказавшийся в нужном месте и в нужное время, может изменить чью-то жизнь. Хочу сказать, что в моем случае все так и случилось, и я совсем не преувеличиваю.
Мои преподавательницы вложили в меня свои время, усилия и веру, в то время как другие люди меня даже не замечали. Эти две женщины читали в моих рассказах каждую строку и каждое слово, они внимательно шли от запятой до точки, показывая мне, весьма ершистому молодому писателю, что можно и критически относиться к чужой работе, и поддерживать ее одновременно. Все, чего я когда-либо достиг в своем творчестве, случилось благодаря тому моменту, когда эти два преподавателя появились в моей жизни.
Каждый год местные средние школы совместно участвовали в мероприятии, которое называлось «День будущей карьеры». Для участия в этом дне приглашали известных писателей, художников, музыкантов и артистов.
Преподаватели надеялись, что все эти люди могут стать хорошим примером для учеников. Мои преподаватели Мэсси и Терри, хорошо зная о моем стеснительном характере, все же хотели, чтобы я представил свои работы всему остальному миру. Они пригласили меня участвовать в мероприятии, которое должно было пройти той весной.
МОИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦЫ ВЛОЖИЛИ В МЕНЯ СВОИ ВРЕМЯ, УСИЛИЯ И ВЕРУ, В ТО ВРЕМЯ КАК ДРУГИЕ ЛЮДИ МЕНЯ ДАЖЕ НЕ ЗАМЕЧАЛИ.
А еще они порекомендовали меня преподавательнице из другой школы, и та, в свою очередь, пригласила меня поучаствовать в другом, менее масштабном событии неформального характера. Оно должно было состояться в ноябре 1971 года в общественном колледже Саутвестерна.
В назначенный день я сел в автобус и доехал до Саутвестерна, и уже оттуда направился на место встречи участников. Мы сидели за столами, которые были расставлены около кафетерия. Здесь же была выставка картин начинающих художников, а на лужайке в тени деревьев играли на гитарах и пели песни другие студенты. Обстановка была праздничной и дружелюбной и даже уж слишком непринужденной. Самым официозным элементом были небрежно засунутые в уголки досок для объявлений флаеры, так что большинство учеников и студентов, как и я сам, слонялись без дела, не понимая, зачем нас всех вообще собрали и что мы здесь делаем. Кто-то рассматривал выставленные картины, кто-то слушал музыку, но возможности представить свои рассказы не было, для этого надо было встать на видное место и начать читать, а на такое вряд ли кто-то готов был пойти.
Шло время, тени становились длиннее, а большинство участников уже разъехалось, забрав с собой свои работы. До автобуса оставался час, когда из тени деревьев неожиданно вышел мужчина и подошел к столу, за которым сидел я и пара из тех немногих учеников, кто еще не уехал домой. У него было обветренное загорелое лицо и темные с проседью волосы, зачесанные в прическу в стиле помпадур, чья высота попирала законы ньютоновской физики. Он кого-то мне напоминал, но я никак не мог вспомнить кого. Мужчина бегло просмотрел распечатки оставшихся студенческих работ, а потом подошел ко мне, взял буклет с одним из моих фантастических рассказов и молча уселся на одно из садовых кресел на лужайке и принялся читать. Было уже темно, и ему пришлось устроиться поближе к окну кафе, откуда падал свет люстры, чтобы разобрать написанное. Закончив, он снова подошел, взял еще один рассказ, прочитал, а потом внимательно и изучающе посмотрел на меня из-под густых тяжелых бровей.
– А вы весьма талантливы для своего возраста, – сказал он. Его голос звучал подозрительно знакомо, но я все еще не мог понять, кому он может принадлежать.
– Позвольте мне дать вам пару советов. Первый: уберите каждое третье прилагательное в тексте[33]33
До сих пор над этим работаю.
[Закрыть]. Второе: никогда и никому не давайте останавливать вас. Вы должны рассказать свои истории.
А потом он глянул на часы, пожелал мне хорошего дня и ушел.
И секунды не прошло, как ко мне подскочила одна из учительниц и спросила, что он сказал.
Я пересказал ей все, и она засветилась гордостью.
– А ты что, не знаешь, кто это был?
– Нет, – ответил я. – Я подумал, что это кто-то из учителей. Мне показалось знакомым его лицо, но…
– Это был Род Серлинг! Он выступает с лекцией в колледже сегодня вечером. Он, должно быть, приехал слишком рано и решил прогуляться по кампусу, перед тем как…
Понятия не имею, что она сказала дальше, потому что в этот момент уже бежал в сторону, где исчез мой собеседник. Увы, его нигде не было, он растворился в воздухе, словно призрак из собственного рассказа.
ПИСАТЕЛЬ, НАСТОЯЩИЙ ПИСАТЕЛЬ, ЧЕРТ, ДА ЧТО Я ПИШУ, ОДИН ИЗ ПИСАТЕЛЕЙ-НЕБОЖИТЕЛЕЙ, СКАЗАЛ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ТАЛАНТ!
Я даже не мог себе позволить купить билет на его лекцию о том, как он работал над «Сумеречной зоной» и «Ночной галереей».
Впрочем, это уже не имело никакого значения. Писатель, настоящий писатель, черт, да что я пишу, один из писателей-небожителей, сказал, что у меня есть талант! Это был момент трансформации моего сознания, который поддерживал меня еще долгое время.
Годами позже я получил возможность поработать с Кэрол Серлинг, вдовой Рода. Мы пытались возобновить сериал «Ночная галерея» и не раз разговаривали о той случайной встрече. Мы пришли к совместному выводу, что иногда мир настолько тесен и настолько удивителен, что даже сам Род едва ли мог представить себе такое.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?