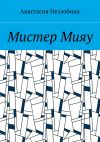Текст книги "Дублинцы"
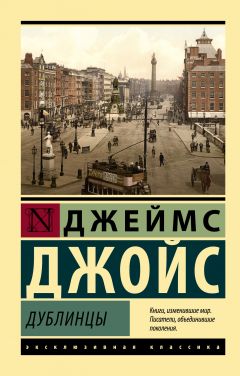
Автор книги: Джеймс Джойс
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
Незнакомец продолжал свой монолог. Казалось, он забыл свое недавнее свободомыслие. Он сказал, что, если бы он когда-нибудь узнал, что мальчик разговаривает с девочками или что у него есть подружка, он стал бы его пороть и пороть, и это научило бы этого мальчика не разговаривать с девочками. А если у мальчика есть подружка и он это скрывает, тогда он задаст этому мальчику такую порку, какой не видел ни один мальчик. Славная была бы порка! Он описывал, как стал бы пороть такого мальчика, точно раскрывал передо мной какую-то запутанную тайну. Это, сказал он, было бы для него самым большим удовольствием на свете; и его монотонный голос, постепенно раскрывавший передо мной эту тайну, стал почти нежным, точно он упрашивал меня понять его.
Я ждал до тех пор, пока его монолог не прекратился. Тогда я порывисто встал на ноги. Чтобы не выдать своего волнения, я нарочно провозился несколько секунд с башмаками, завязывая шнурки, и только после этого, сказав, что мне нужно идти, пожелал ему всего хорошего. Я поднимался по откосу спокойно, но сердце у меня колотилось от страха, что он схватит меня за ноги. Поднявшись, я обернулся и, не глядя на него, громко закричал через поле:
– Мэрфи!
В моем голосе звучала напускная храбрость, и мне было стыдно своей мелкой хитрости. Мне пришлось крикнуть еще раз, и только тогда Мэхони заметил меня и откликнулся на мой зов. Как билось у меня сердце, когда он бежал мне навстречу через поле! Он бежал так, словно спешил мне на помощь. И мне было стыдно, потому что в глубине души я всегда немного презирал его.
«Аравия»[4]4
Перевод И. Дорониной.
[Закрыть]
Заканчивавшаяся тупиком Норт-Ричмонд-стрит была тихой улицей, если не считать того часа, когда школа Братьев-христиан[5]5
Религиозная община католической церкви.
[Закрыть] отпускала мальчиков по окончании уроков. В слепом конце улицы, посреди квадратного участка земли, в отдалении, стоял пустовавший двухэтажный дом. Остальные дома, в осознании добропорядочности протекавшей в них жизни, глядели друг на друга невозмутимыми коричневыми фасадами.
Прежний жилец нашего дома, священник, умер в дальней гостиной. Воздух во всех долго остававшихся закрытыми комнатах был спертым, а по всей кладовке за кухней валялись старые ненужные бумаги. Среди них я отыскал несколько книг в мягких обложках, с отсыревшими и загнувшимися страницами: «Аббата» Вальтера Скотта, «Благочестивого причастника»[6]6
Произведение известного английского католического писателя Пацификуса Бейкера (1695–1774).
[Закрыть] и «Записки Видока»[7]7
Эжен Франсуа Видок (1775–1857) – французский преступник, ставший впоследствии одним из первых частных детективов; автор нескольких книг, в том числе «Записок Видока, начальника Парижской тайной полиции».
[Закрыть]. Последняя нравилась мне больше всех, потому что бумага в ней была желтой. В центре запущенного сада позади дома росла яблоня, а вокруг – давно не стриженые кусты, под одним из которых я нашел заржавленный велосипедный насос бывшего жильца. Священнослужитель был человеком благочестивым и завещал все свои деньги благотворительным учреждениям, а всю свою мебель – сестре.
По наступлении коротких зимних дней сумерки опускались еще до того, как мы успевали закончить обед. Когда мы встречались на улице, дома́ уже погружались в темноту. Лоскут неба над нами имел фиолетовый цвет, непрерывно сгущавшийся, и от уличных фонарей к нему восходил тусклый свет. Морозный воздух больно жалил, но мы играли до тех пор, пока тело не начинало гореть от холода. В тишине улицы эхо разносило наши крики. Сюжет игры вел нас через грязные темные переулки позади домов, где мы бросали вызов диким племенам из окрестных лачуг, к задним калиткам темных мокрых огородов, от которых тянуло неприятным гнилым душком, и к темным вонючим конюшням, где какой-нибудь конюх обычно чистил лошадь, чесал ей гриву или возился со сбруей, которая музыкально позвякивала в его руках. Когда мы возвращались на улицу, свет из кухонных окон уже местами рассеивал темноту. Если из-за угла появлялся мой дядя, мы прятались в тени, пока не убеждались, что он благополучно вошел в дом. Или если сестра Мэнгана выходила на крыльцо, чтобы позвать его пить чай, мы из своего укрытия наблюдали, как она оглядывает улицу в один, потом в другой конец, и ждали: уйдет в дом или останется. Если она оставалась, мы выходили из тени и смиренно приближались к крыльцу. Она нас ждала, свет, падавший из полуоткрытой двери, очерчивал контур ее фигуры. Прежде чем повиноваться, брат всегда поддразнивал ее, а я стоял возле перил и смотрел на нее. Когда она двигалась, платье на ней колыхалось, и мягкий жгут заплетенных волос на спине раскачивался из стороны в сторону.
Каждое утро я ложился на пол в передней гостиной и следил за ее дверью. Между опущенными жалюзи и оконной рамой оставалась щель не более дюйма шириной, так что снаружи я не был виден. Когда она выходила на порог, сердце у меня подпрыгивало. Я бросался в переднюю, хватал учебники и шел следом за ней, не упуская из виду ее коричневую фигурку. Когда мы приближались к месту, где наши пути расходились, я ускорял шаг и проходил мимо. И так утро за утром. Я никогда не разговаривал с ней, если не считать нескольких случайно оброненных слов, и, тем не менее, ее имя звучало для меня как зов, откликавшийся во всей моей глупо бурлившей крови.
Ее образ сопровождал меня даже в местах, решительно несовместимых с романтикой. Субботними вечерами, когда моя тетя отправлялась за покупками, я должен был носить за ней сумки. Мы шли по шумным улицам, забитым пьяными мужчинами, торгующимися женщинами и оглашаемым руганью трудяг, пронзительными, назойливыми криками мальчишек-зазывал, стоявших на страже бочек со свиными щечками, и гнусавым завыванием уличных певцов, исполнявших балладу об О’Донаване Россе[8]8
Иеремия О’Донаван (по месту рождения прозванный Россой, 1831–1915) – деятель ирландского национально-освободительного движения, символ мужества и отваги.
[Закрыть] или какую-нибудь народную песню о тяготах родной земли. Для меня все эти шумы сливались в единое ощущение жизни: я воображал себя бесстрашно несущим свою чашу сквозь скопище недругов. Порой имя ее срывалось с моих губ, вплетенное в молитву или гимн, смысла которых я сам не понимал. Зачастую глаза мои наполнялись слезами (сам не знаю почему), а иногда грудь затоплял поток, изливавшийся из глубины сердца. Я не задумывался о будущем. Не знал, заговорю я с ней когда-нибудь или нет и если заговорю, то как смогу выразить свое невнятное обожание. Но собственное тело представлялось мне арфой, а ее слова и жесты – пальцами, перебирающими струны.
Однажды вечером я забрел в дальнюю гостиную, где умер священник. Вечер был хмурый, дождливый, и в доме царила полная тишина. Сквозь разбитое окно было слышно, как дождь молотит по земле, тонкие нескончаемые водяные иглы вонзались в раскисшие грядки. Где-то внизу, в отдалении светился фонарь, а может, чье-то окно. Я был рад, что вижу так мало. Казалось, все мои чувства стремятся укрыться под какой-то вуалью, и вот, будучи уже близок к тому, чтобы вовсе лишиться их, я стиснул ладони до дрожи и стал бормотать, без конца повторяя: «О, любовь! О, любовь!»
Наконец она сама заговорила со мной. При первых обращенных ко мне словах я так смутился, что не знал, как отвечать. Она спросила, не собираюсь ли я в «Аравию»[9]9
«Аравия» – ежегодный благотворительный базар в Дублине, проводившийся в середине мая в пользу городских больниц.
[Закрыть]. Не помню, ответил я «да» или «нет». Это будет восхитительный базар, сказала она и добавила, что ей бы очень хотелось на нем побывать.
– А почему вы не сможете пойти? – спросил я.
Отвечая, она все время крутила на запястье серебряный браслет. Она не сможет пойти, сказала она, потому что базар совпадет в ее монастырской школе с неделей ретрита[10]10
Ретрит (англ. «уединение», «затворничество») – международное обозначение времяпрепровождения, посвященного духовной практике. Временное духовное уединение, распространенное во многих религиозных общинах.
[Закрыть]. Ее брат и два других мальчика дурачились, срывая друг с друга шапки и перебрасываясь ими, у перил крыльца оставался я один. Держась за поручень, она стояла, склонив ко мне голову. Свет от фонаря напротив дома выхватывал из темноты белый изгиб ее шеи, подсвечивал упавшие на него волосы и ниже – ладонь, лежавшую на перилах, и одну сторону платья, из-под которого выглядывал узкий край нижней юбки, невидимый, когда она стояла ровно.
– Везет вам, – сказала она.
– Если я пойду, – сказал я, – я вам что-нибудь оттуда принесу.
Какие только безрассудства не бушевали в моем воображении наяву и во сне с того вечера! Мне хотелось, чтобы оставшиеся нудные дни исчезли сами собой. Меня раздражали школьные занятия. По вечерам в моей комнате и днем во время уроков ее образ стоял между мной и страницами, которые я тщетно пытался читать. Слоги слова «А-ра-ви-я» взывали ко мне сквозь тишину, в которой блаженствовала моя душа, и отбрасывали на меня отсветы восточного очарования. Я попросил разрешения съездить в субботу вечером на базар. Тетушка удивилась и выразила надежду, что это не связано с какими-нибудь франкмасонскими глупостями[11]11
Католики считают франкмасонов врагами истинной веры.
[Закрыть]. В классе я часто отвечал невпопад и видел, как дружелюбие на лице учителя сменялось строгостью; он выказывал надежду, что я не вздумал бездельничать. Но я никак не мог сосредоточиться на учебе. У меня едва хватало терпения на серьезные житейские дела; теперь, стоя между мной и моим желанием, они казались мне ребяческой забавой, противной нудной детской игрой.
В субботу утром я напомнил дяде, что вечером хотел бы съездить на базар. Он суетился возле вешалки в поисках шляпной щетки и ответил отрывисто:
– Да, мальчик, я знаю.
Поскольку он копался в передней, я не мог пойти в гостиную и залечь под окном. Я вышел из дому в скверном настроении и медленно поплелся к школе. Воздух был безжалостно промозглым, и сердце мое уже чуяло беду.
Когда я вернулся из школы, дяди еще дома не было. Впрочем, было еще рано. Некоторое время я сидел, уставившись на часы, а когда их тиканье стало меня раздражать, ушел из гостиной и поднялся по лестнице, верхний этаж дома был в полном моем распоряжении. В холодных, мрачных пустых комнатах с высокими потолками я почувствовал облегчение и бродил из одной в другую, напевая. Из окна, выходившего на улицу, я увидел своих товарищей, игравших внизу. Их крики доносились до меня приглушенно и неразборчиво; прислонившись лбом к холодному стеклу, я смотрел через улицу на темный дом, в котором жила она. Должно быть, я простоял там не меньше часа, не видя ничего, кроме одетой в коричневое платье фигуры, созданной моим воображением, с благопристойно тронутыми светом фонаря изгибом шеи, рукой на перилах и видневшимся из-под платья краем нижней юбки.
Снова спустившись вниз, я обнаружил там миссис Мерсер, сидевшую у камина. Это была старая болтливая женщина, вдова ростовщика, которая с некой благочестивой целью собирала погашенные марки. Пришлось мне за чаем выслушивать сплетни. Чаепитие затянулось больше чем на час, однако дяди по-прежнему не было. Миссис Мерсер встала, собравшись уходить: ей, мол, очень жаль, но больше она ждать не может, потому что уже девятый час, а она так поздно старается не выходить из дому, поскольку вечерний воздух ей вреден. Когда она ушла, я, сжав кулаки, начал мерить шагами комнату. Тетушка сказала:
– Боюсь, на нынешний вечер Дня Господня тебе придется отменить свой поход на базар.
В девять часов я услышал из прихожей звук поворачивающегося в замке дядиного ключа. Потом услышал, как дядя разговаривает сам с собой, потом – как вешалка закачалась, приняв на себя тяжесть его пальто. Эти звуки мне были хорошо знакомы. Когда дядя наполовину управился с обедом, я попросил его дать мне денег, чтобы съездить на базар. Он все забыл.
– Люди давно спят вторым сном[12]12
«Второй сон» – определение, идущее из стародавних времен, когда люди засыпали на закате, просыпались около полуночи, проводили часа два-три в бодрствовании, предаваясь молитвам, дневным делам или творческому труду, после чего снова засыпали, «вторым сном».
[Закрыть], – сказал он.
Я не улыбнулся. Тетя решительно сказала ему:
– Ты не можешь просто дать ему денег – и пусть едет. Ты и так его уже достаточно задержал.
Дядя сказал, что очень сожалеет о своей забывчивости и еще – что верит в старую пословицу: «Умей дело делать – умей и позабавиться». Он спросил меня, куда я собрался, и после того, как я объяснил ему это во второй раз, поинтересовался, знаю ли я «Прощание араба со своим скакуном»[13]13
Баллада британской поэтессы Каролины Нортон (1808–1877).
[Закрыть]. Когда я выходил из кухни, он уже декламировал первые строки баллады тете.
Крепко сжимая в кулаке флорин, я быстрым шагом направлялся по Бэкингем-стрит к станции. Вид запруженных покупателями и сияющих газовым светом улиц напоминал мне о цели моего путешествия. Я занял место в безлюдном вагоне третьего класса. После невыносимо долгой задержки поезд медленно отошел от перрона. Он еле тащился мимо разваливающихся домов, потом – над мерцающей рекой. На станции Уэстленд-Роу к дверям вагона бросилась толпа народу, но проводники отогнали ее, объяснив, что это – специальный состав, который идет только до базара. Я так и остался один в пустом вагоне. Через несколько минут поезд подкатил к временной деревянной платформе. Я вышел на улицу и, взглянув на светящийся циферблат часов, увидел, что уже без десяти десять. Передо мной высилось большое здание с завораживающим названием на фасаде.
Не сумев нашарить в кармане шесть пенсов на вход и опасаясь, что базар вот-вот закроют, я быстро прошел через турникет, сунув шиллинг устало выглядевшему мужчине, и очутился в большом зале, опоясанном галереей на уровне второго этажа. Почти все киоски были закрыты, и бо́льшая часть зала тонула в темноте. Тишина вокруг напомнила мне тишину, наступающую в церкви по окончании службы. Я неуверенно прошел в центр зала. Возле киосков, которые еще были открыты, оставалось немного народу. Перед занавесом, над которым разноцветными лампочками светилось слово «Кафе-шантан», двое мужчин считали деньги на подносе. Я прислушался к звяканью падающих монет.
С трудом вспомнив, зачем сюда пришел, я приблизился к одному ларьку и стал рассматривать фарфоровые вазы и чайные сервизы с цветочными рисунками. У входа в ларек юная особа, смеясь, разговаривала с двумя молодыми людьми. Отметив их английский акцент, я рассеянно прислушивался к разговору.
– Ах, я никогда ничего подобного не говорила!
– Нет говорили!
– Ах нет, не говорила!
– Разве она этого не говорила?
– Конечно говорила. Я тоже слышал.
– Ах вы… выдумщик!
Заметив меня, барышня подошла и спросила, не желаю ли я что-нибудь купить. Тон ее отнюдь не был располагающим, казалось, она заговорила со мной лишь по обязанности. Я смущенно посмотрел на огромные вазы, которые, подобно восточным стражам, охраняли темный дверной проем, ведущий в киоск, и пробормотал:
– Нет, благодарю вас.
Барышня поправила одну из ваз и вернулась к своим собеседникам. Они возобновили разговор на прежнюю тему. Раза два девушка бросала на меня взгляд через плечо.
Я еще немного задержался возле ее киоска, чтобы сделать свой интерес к ее товару более убедительным, хотя и понимал, что это бесполезно. Потом медленно развернулся и побрел через середину зала к выходу. Выпущенный из пальцев двухпенсовик звякнул в кармане, ударившись о лежавший в нем шестипенсовик. Голос в конце галереи крикнул, что сейчас потушат свет. В верхней части зала стало совсем темно.
Подняв голову и уставившись в темноту, я увидел себя – существо, прельщенное тщеславием и посрамленное, и глаза мои обожгло тоской и гневом.
Эвелин[14]14
Перевод Н. Волжиной.
[Закрыть]
Она сидела у окна, глядя, как вечер завоевывает улицу. Головой она прислонилась к занавеске, и в ноздрях у нее стоял запах пропыленного кретона. Она чувствовала усталость.
Прохожих было мало. Прошел к себе жилец из последнего дома; она слышала, как его башмаки простучали по цементному тротуару, потом захрустели по шлаковой дорожке вдоль красных зданий. Когда-то там был пустырь, на котором они играли по вечерам с другими детьми. Потом какой-то человек из Белфаста купил этот пустырь и настроил там домов – не таких, как их маленькие темные домишки, а кирпичных, красных, с блестящими крышами. Все здешние дети играли раньше на пустыре – Дивайны, Уотерсы, Данны, маленький калека Кьоу, она, ее братья и сестры. Правда, Эрнст не играл: он был уже большой. Отец постоянно гонялся за ними по пустырю со своей терновой палкой; но маленький Кьоу всегда глядел в оба и успевал крикнуть, завидев отца. Все-таки тогда жилось хорошо. Отец еще кое-как держался; кроме того, мать была жива. Это было очень давно; теперь и она, и братья, и сестры выросли; мать умерла. Тиззи Данн тоже умерла, а Уотерсы вернулись в Англию. Все меняется. Вот теперь и она скоро уедет, как другие, покинет дом.
Дом! Она обвела глазами комнату, разглядывая все те знакомые вещи, которые сама обметала каждую неделю столько лет подряд, всякий раз удивляясь, откуда набирается такая пыль. Может быть, больше никогда не придется увидеть эти знакомые вещи, с которыми она никогда не думала расстаться. А ведь за все эти годы ей так и не удалось узнать фамилию священника, пожелтевшая фотография которого висела над разбитой фисгармонией рядом с цветной литографией святой Маргариты Марии Алакок. Он был школьным товарищем отца. Показывая фотографию гостям, отец говорил небрежным тоном:
– Он сейчас в Мельбурне.
Она согласилась уехать, покинуть дом. Разумно ли это? Она пробовала обдумать свое решение со всех сторон. Дома по крайней мере у нее есть крыша над головой и кусок хлеба; есть те, с кем она прожила всю жизнь. Конечно, работать приходилось много и дома, и на службе. Что будут говорить в магазине, когда узнают, что она убежала с молодым человеком? Может быть, назовут ее дурочкой; а на ее место возьмут кого-нибудь по объявлению. Мисс Гэйвен обрадуется. Она вечно к ней придиралась, особенно когда поблизости кто-нибудь был.
– Мисс Хилл, разве вы не видите, что эти дамы ждут?
– Повеселее, мисс Хилл, сделайте одолжение.
Не очень-то она будет горевать о магазине.
Но в новом доме, в далекой незнакомой стране все пойдет по-другому. Тогда она уже будет замужем – она, Эвелин. Ее будут уважать тогда. С ней не будут обращаться так, как обращались с матерью. Даже сейчас, несмотря на свои девятнадцать с лишним лет, она часто побаивается грубости отца. Она уверена, что от этого у нее и сердцебиения начались. Пока они подрастали, отец никогда не бил ее так, как он бил Хэрри и Эрнста, потому что она была девочка; но с некоторых пор он начал грозить, говорил, что не бьет ее только ради покойной матери. А защитить ее теперь некому. Эрнст умер, а Хэрри работает по украшению церквей и постоянно в разъездах. Кроме того, непрестанная грызня из-за денег по субботам становилась просто невыносимой. Она всегда отдавала весь свой заработок – семь шиллингов, и Хэрри всегда присылал сколько мог, но получить деньги с отца стоило больших трудов. Он говорил, что она транжирка, что она безмозглая, что он не намерен отдавать трудовые деньги на мотовство, и много чего другого говорил, потому что по субботам с ним вовсе сладу не было.
В конце концов он все-таки давал деньги и спрашивал, собирается ли она покупать провизию к воскресному обеду. Тогда ей приходилось сломя голову бегать по магазинам, проталкиваться сквозь толпу, крепко сжав в руке черный кожаный кошелек, и возвращаться домой совсем поздно, нагруженной покупками. Тяжело это было – вести хозяйство, следить, чтобы двое младших ребят, оставленных на ее попечение, вовремя ушли в школу, вовремя поели. Тяжелая работа – тяжелая жизнь, но теперь, когда она решилась уехать, эта жизнь казалась ей не такой уж плохой.
Она решилась отправиться вместе с Фрэнком на поиски другой жизни. Фрэнк был очень добрый, мужественный, порядочный. Она непременно уедет с ним вечерним пароходом, станет его женой, будет жить с ним в Буэнос-Айресе, где у него дом, дожидающийся ее приезда. Как хорошо она помнит свою первую встречу с ним; он жил на главной улице в доме, куда она часто ходила. Казалось, что это было всего несколько недель назад. Он стоял у ворот, кепка съехала у него на затылок, клок волос спускался на бронзовое лицо. Потом они познакомились. Каждый вечер он встречал ее у магазина и провожал домой. Повел как-то на «Цыганочку», и она чувствовала такую гордость, сидя рядом с ним на непривычно хороших для нее местах. Он очень любил музыку и сам немножко пел. Все знали, что он ухаживает за ней, и, когда Фрэнк пел о девушке, любившей моряка, она чувствовала приятное смущение. Он прозвал ее в шутку Маковкой. Сначала ей просто льстило, что у нее появился поклонник, потом он стал ей нравиться. Он столько рассказывал о далеких странах. Он начал с юнги, служил за фунт в месяц на пароходе линии Аллен, ходившем в Канаду. Перечислял ей названия разных пароходов, на которых служил, названия разных линий. Он плавал когда-то в Магеллановом проливе и рассказывал ей о страшных патагонцах. Теперь, по его словам, он обосновался в Буэнос-Айресе и приехал на родину только в отпуск. Отец, конечно, до всего докопался и запретил ей даже думать о нем.
– Знаю я эту матросню, – сказал он.
Как-то раз отец повздорил с Фрэнком, и после этого ей пришлось встречаться со своим возлюбленным украдкой.
Вечер на улице сгущался. Белые пятна двух писем, лежавших у нее на коленях, расплылись. Одно было к Хэрри, другое – к отцу. Ее любимцем был Эрнст, но Хэрри она тоже любила. Отец заметно постарел за последнее время; ему будет недоставать ее. Иногда он может быть очень добрым. Не так давно она, больная, пролежала день в постели, и он читал ей рассказ о привидениях и поджаривал гренки в очаге. А еще как-то, когда мать была жива, они ездили на пикник в Хоут-Хилл. Она помнила, как отец напялил на себя шляпу матери, чтоб посмешить детей.
Время шло, а она все сидела у окна, прислонившись головой к занавеске, вдыхая запах пропыленного кретона. С улицы издалека доносились звуки шарманки. Мелодия была знакомая. Как странно, что шарманка заиграла ее именно в этот вечер, чтобы напомнить ей про обещание, данное матери, – обещание как можно дольше не бросать дом. Она вспомнила последнюю ночь перед смертью матери: она снова была в тесной и темной комнате по другую сторону передней, а на улице звучала печальная итальянская песенка. Шарманщику велели тогда уйти и дали ему шесть пенсов. Она вспомнила, как отец с самодовольным видом вошел в комнату больной, говоря:
– Проклятые итальянцы! И сюда притащились.
И жизнь матери, возникшая перед ней, пронзила печалью все ее существо – жизнь, полная незаметных жертв и закончившаяся безумием. Она задрожала, снова услышав голос матери, твердивший с тупым упорством: «Конец удовольствию – боль! Конец удовольствию – боль!» Она вскочила, охваченная ужасом. Бежать! Надо бежать! Фрэнк спасет ее. Он даст ей жизнь, может быть, и любовь. Она хочет жить. Почему она должна быть несчастной? Она имеет право на счастье. Фрэнк обнимет ее, прижмет к груди. Он спасет ее.
* * *
Она стояла в суетливой толпе на пристани в Норт-Уолл. Он держал ее за руку, она слышала, как он говорит, без конца рассказывает что-то о путешествии. На пристани толпились солдаты с вещевыми мешками. В широкую дверь павильона она увидела стоявшую у самой набережной черную громаду парохода с освещенными иллюминаторами. Она молчала. Она чувствовала, как побледнели и похолодели у нее щеки, и, теряясь в своем отчаянии, молилась, чтобы Бог вразумил ее, указал ей, в чем ее долг. Пароход дал в туман протяжный, заунывный гудок. Если она поедет, завтра они с Фрэнком уже будут в открытом море на пути к Буэнос-Айресу. Билеты уже куплены. Разве можно отступать после всего, что он для нее сделал? Отчаяние вызвало у нее приступ тошноты, и она не переставая шевелила губами в молчаливой горячей молитве.
Звонок резанул ее по сердцу. Она почувствовала, как Фрэнк сжал ей руку.
– Идем!
Волны всех морей бушевали вокруг ее сердца. Он тянет ее в эту пучину; он утопит ее. Она вцепилась обеими руками в железные перила.
– Идем!
Нет! Нет! Нет! Это немыслимо. Ее руки судорожно ухватились за перила. И в пучину, поглощавшую ее, она кинула вопль отчаяния.
– Эвелин! Эви!
Он бросился за барьер и звал ее за собой. Кто-то крикнул на него, но он все еще звал. Она повернула к нему бледное лицо, безвольно, как беспомощное животное. Ее глаза смотрели на него не любя, не прощаясь, не узнавая.