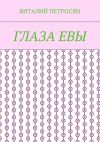Текст книги "Разрыв"

Автор книги: Джоанна Уолш
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Разве сегодня можно страдать синдромом Стендаля, когда мы привыкли к воспроизводимой повсюду красоте: на сайтах, в журналах, в рекламе, где угодно? Однажды я была в галерее Уффици во Флоренции, где Венера выходит из морской пены так же нерешительно, как модель на билборде. С темных стен на меня пялились Боттичелли, тусклые, крохотные. Их не подсвечивали, оставив как есть, – и они оказались меньше, невзрачнее, чем я себе представляла. Но то было много лет назад, и я была вместе с мужчиной, за которого только что вышла замуж. Гугла тогда еще не было, зато были открытки, книги и постеры, и всю ту неделю во Флоренции мы смотрели на то, что до этого видели издали. Не зная, чем еще себя занять, мы только и делали, что разглядывали картины в церквях, монастырях, галереях, и поскольку менялось то, что мы видели, а не то, что мы делали, казалось, что мы стояли неподвижно, а двигались стены, или что мы были в темной бесконечной комнате, где сменялись слайды; иногда шторки открывались, чтобы ослепить нас вспышками солнца. Я не знаю, что чувствовал он, – мы были так молоды, что задавать вопросы было столь же сложно, как и отвечать на них, – но я знала, что меня картины не трогали, разве что своим любопытным несходством с тем, какими я их представляла.
Во Флоренции Стендаль изображал туриста. Он проводил всё свое время в кофейнях, покупал путеводители и бродил от одного дворца к другому. Он писал, что уже был знаком с картой города благодаря «описаниям», которые купил дома. Следуя им, он замечал только то, на что ему указывали, ходил только туда, куда его направляли. Возможно, это было не столь важно в те времена, когда желающих посмотреть было не так много, когда никто не стоял в очереди, чтобы увидеть картины, которые увидела я. К ним веками никто не присматривался, пока спустя пятьдесят лет этого не сделал Рёскин. До Стендаля ни у кого не было синдрома Стендаля, как не было его у жителей Флоренции. Его проявление каким-то образом связано с дистанцией.
Дарио Ардженто даже снял об этом фильм «Синдром Стендаля»; его дочь Азия в главной роли. Она играет сыщицу, выслеживающую серийного убийцу; красавица, страдающая от избытка красоты. Когда она смотрит на картину, та будто оживает или, точнее, героиня входит в нее, словно она и есть ее жизнь (это и есть красота?). Полотна в фильме движутся, расслаиваются, распадаются на пиксели. Плавающие пятна указывают на обволакивающую сущность живописи – а спецэффекты того времени, наверное, должны были показать безграничную силу красоты, – но, распадаясь на части, картины выглядели глупо, утрачивали то неуловимое хрупкое совпадение, которое и есть красота.
Сажусь в поезд, и он отходит от станции. Пытаюсь сделать несколько снимков, но здесь мне сложно фотографировать: повсюду красивые виды. Я путешествую налегке: в багаже нет места для сувениров, во мне нет места для красоты – еще одного сувенира, который мы распознаем как что-то трогательное только после того, как он сохранен в памяти, откуда его можно извлечь в любой момент. Это здорово, – но в то же время – не ужасно ли это? Модель с фотографий осталась позади, то, что она излучает – часть прошлого, красивые картины не меняются, что бы с нами ни происходило. Искусство трогает не всегда. Если ты хочешь, чтобы искусство тебя тронуло, ты должна идти ему навстречу, пока не окажешься на нужном от него расстоянии, как те виллы за пределами Ниццы, только вот, даже если ты приблизишься к картине, тебе откроется ни больше ни меньше, чем прежде, зато, приблизившись к виллам, ты увидишь их трещины, их неприбранные дворы, их обитателей, которые ссорятся из-за неисправных труб. Искусство – еще одна уловка мира, бездушная, но воодушевляющая.
Прямо сейчас я путешествую по центральной Италии. Плоский индустриальный ландшафт, он некрасив, поэтому нет и билбордов с красивыми женщинами, впрочем, это меня устраивает. Рассматривать билборды вдоль красивого побережья у Ниццы из окна поезда – всё равно что рассматривать ниццкие картины Матисса, изображающие красочных женщин в красочных интерьерах; на них женщина, сидящая с книгой, красива так же, как золотая рыбка, или чашка, или скатерть; она столь же неподвижна и декоративна, как сама комната, которая выглядит плоской и яркой, точь-в-точь как пейзаж, вставленный в раму окна, цветы пышные, как на обоях, – словно вторая картина. Женщина, комната, пейзаж – все они одинаково красивы, всем уделено равное внимание, ни больше ни меньше. Натюрморт: я не хотела бы принять картинку за реальность, хоть и всегда боюсь, что ровно так и выйдет.
Кажется, теперь девушка, птица, ваза, книга не способны поодиночке оправдать собственную красоту или объяснить ее значимость. Если все они требуют внимания исключительно к себе, то кажутся эгоцентричными, слишком хрупкими, чтобы выдержать всю серьезность нашего к ним отношения.
Элейн Скэрри. О красоте и справедливости.
Но люди не всегда красивы, не так как в живописи. И даже на картинах Матисса женщины рыхлые, разъединенные, хотя, возможно, они ему такими нравились, и замечательно, если так, ибо кому позволено критиковать мужское желание. Я не хочу выглядеть, как женщины Матисса, но, глядя на моделей с билбордов, я не могу не хотеть быть похожей на них. Если бы я писала женщин, при этом не была бы женщиной сама, наверное, я смогла бы просто смотреть, но если бы я воспринимала красоту только как смотрящая, я бы всего лишь возилась с трупами предпочтений, распределяя женщин по столам в морге. Когда же я пытаюсь сделать красивой себя – укладываю волосы, крашусь тушью, помадой, – я удаляюсь от красоты, которая должна быть спонтанной, не подозревающей о себе до тех пор, пока смотрящий ее не узреет и не повалит на землю. Но если бы я была невинно, невольно красива, что бы в этом было хорошего?
Также нельзя сказать, что люди – впрочем, часто и красивые – существуют ради того, чтобы быть красивыми.
Элейн Скэрри. О красоте и справедливости.
Нет, я не хочу быть красивой, не хочу, чтобы меня видели красивой. Однажды я попыталась объяснить это тебе: как я хочу выглядеть определенным образом, но не хочу, чтобы на меня всегда определенным образом смотрели. Мы были, как ни странно, в какой-то галерее, не в картинной – современной галерее, где выставляли видео– и фотодокументацию перформативного искусства – искусства, рассчитанного на самых первых зрителей, видящих все вживую. Большинство работ, казалось, были призваны шокировать, и я не знаю, была ли в этом очередная попытка красоты.
Некоторые жалуются, что подобное искусство и не искусство вовсе, потому что оно не так красиво, как в былые времена, когда художники изображали вазу с цветами или женщину, склонившуюся над книгой у окна с видом на Ниццу. Хотя, может, так больше не говорят. Теперь даже те, от кого ждешь подобного, говорят, что им по душе самое разное искусство, даже картины, изображающие насилие, например, «Герника» Пикассо, которая красива, потому что притягательна – если бы она не притягивала, о ней бы давно забыли. Красота противится тому, чем она была, и мы постоянно меняем свое о ней представление, а несчастные художники, как бы они ни старались, похоже, не могут не создавать красивое. В «Синдроме Стендаля» – фильме настолько жестоком, что поначалу кажется диким, что он и о красоте тоже – Азия Ардженто не выглядит уродливой, когда ее пытают. Папа-режиссер уберег ее от смерти, но не от боли – попытка подчинить красоту, не умерщвляя ее. Красота и ужас неразделимы.
Конечно, можно представить, что тот, кто восприимчив к красоте сада, может затем его и растоптать, точно так же и тот, кто, осознавая красоту людей или картин, может затем попытаться их уничтожить; впрочем, подобные действия и так нарушают столько законов и правил, что трудно по-настоящему понять, почему вместо того, чтобы использовать эти правила и законы для решения проблемы, необходимо менять правила восприятия в интересах нарушителя.
Элейн Скэрри. О красоте и справедливости.
Но то, что я испытала на Миланском вокзале, не было такой красотой – то была физическая эйфория, переполняющая благодать или радостная восприимчивость, что-то связующее – одним словом, необъятное. Не знаю, была ли она направлена внутрь или вовне, связана с узнаванием красоты или ощущением, что красивой могу быть я. Возможно, и то, и другое. Достаю сумку с багажной полки, чтобы снова посмотреть на женщин в журнале и убедиться, что они по-прежнему красивы, проверить, узнаю ли я, пережившая красоту, в них себя. Но роясь в своих вещах, понимаю, что, похоже, я оставила журнал в баре на вокзале – неразорвавшаяся бомба, которую суждено обнаружить кому-то еще. Подождите, вот же он, в отделении для ноутбука, но бедняжки-модели больше не выглядят красивыми, они всего лишь некий код того, чем красота может быть. Они утратили надо мной власть, не побуждают к установлению связи. Кажется, в первый раз красоту можно пережить только как шок. Если она не сбивает с ног, ты чувствуешь беспокойство: посмотри на страницу, отведи взгляд, посмотри снова. Это всё еще красота?
Андре Бретон завершает «Надю» словами о красоте, а я-то думала, он скажет что-нибудь о любви. Он говорит, что красота «конвульсивна», сочетание остановки и начала хода – не как у моделей, которые выглядят, будто они движутся, хотя это не так, не совсем – что «красота, словно поезд, который без конца подпрыгивает на Лионском вокзале и о котором я знаю: он никогда не уйдет и не ушел»[53]53
Цит. по: Бретон А. Надя // Указ. соч. С. 245–246.
[Закрыть], он движется, как жизнь, и неподвижен, как искусство, всё сразу, как кино, о котором могли бы написать в 20-е годы, но которое нельзя повторить. Не этого ли я хотела: постоянно уезжать, но двигаться не быстро, нет-нет, не так быстро, чтобы куда-то добраться? Потому что нет никого красивее той, что уходит.
Нет, минутку, я ошиблась: Бретон сказал «будет» – «красота будет конвульсивной, или не будет вовсе»[54]54
Цит. по: Бретон А. Надя // Указ. соч. С. 246 (курсив Джоанны Уолш).
[Закрыть]. Это предсказание, не заключение.
Я ищу паттерн, создающий конвульсию, статичный и движущийся, как джазовые перепады глазурных отелей и стройплощадок вдоль Английской набережной в Ницце: розовый – синий – пробел – персиковый – белый – пробел, как чередование света и тени между рекламными щитами вдоль путей, – светло – темно – пробел – светло – пробел – пробел. Красота – это есть или нет? Или она в их чередовании? Это сам паттерн или его разрыв; или красота в том, чтобы паттерн увидеть, затем разорвать или хотя бы попытаться? Иногда мне кажется, что я вижу паттерн, но не уверена, что он что-то значит. Тут я вспоминаю о буддистской открытке. Я хочу, чтобы она что-то для меня значила или не значила ничего, и в этом было бы ее значение. Любовь – постоянную революцию, чистейший разрыв, – нельзя унять. Я не уверена, что любовь может быть красивой.
За окном изменился ритм пейзажа: больше зданий, меньше пробелов. Мы с грохотом несемся по предместьям Рима. Тем временем я вывела несколько правил игры для моих фотографий:
● Избегать: музеев, галерей, церквей, туристических мест.
● Не фотографировать ничего «типичного» для страны.
● Избегать всего «красивого».
● (Пытаться не следовать этим правилам слишком осознанно.)
Делаю пару фото: провода пересекаются над пересечением железнодорожных путей. Женщина напротив меня встает, чтобы достать свой чемодан с полки. Ей за пятьдесят, может, около шестидесяти, хорошо одета, без макияжа. Видны пигментные пятна и мелкие морщины. Голая кожа – это бесстрашно, тем более в ее возрасте. Почему она так себя обнажила? Потому что она кажется достаточно смелой, чтобы не стараться, – она красива. Она достает из своего чемодана косметичку, а из нее – крошечное зеркало. Она открывает его и наносит тональный крем спонжем, пока текстура ее кожи не становится однородной, а цвет – неестественно персиковым. Я знаю, что если подойду к ней поближе, ее кожа будет пахнуть не кожей, а тальком, на ощупь будет, как микрофибра. И если я ее поцелую, то буду целовать не ее, а когда отстранюсь, на моих губах останутся частички краски.
Она достает консилер. Пока мы подъезжаем к вокзалу Термини, она медленно стирает последние следы себя.
Проверяю, в кармане ли моя буддистская открытка. Ее там нет.
5. Рим / Жить
27 апреля

Сижу на руинах – чего? Здесь могла быть чья-то гостиная. Стены не выше колена, словно контуры на поэтажном плане дома, но прочерчены они не синей ручкой, а обломками каменных зубов. Это не Форум – я избегаю памятников, – а просто один из тех кусков Древнего Рима, что пробиваются сквозь бетон современности, как плохое воспоминание, лазейка для травы, для самых разных беспорядочных мыслей. Я у римского вокзала. Как и миланский, на время ремонтных работ он укутан невзрачным полотном бледнее его бетонных стен. Миланский поезд доставил меня прямиком в каменное сердце города, если это можно назвать сердцем. Сердце Рима – это, скорее, Форум, полый и пыльный, словно панцирь мертвого жука. Мягкие живые части города – те, что пульсируют, что бьются – построены вокруг его экзоскелета.
До сих пор не знаю, что делают в гостиных. Вероятно, когда я вернусь, у меня она тоже будет – гостиные есть в большинстве квартир. И что я буду в ней делать? Сидеть в креслах, в которых никогда не сидела? Смотреть телевизор, который я толком не смотрю? Видимо, гостить.
Руины – лишь грамматическая основа. Что-то в них располагает к завершению, просит угадать или додумать. Камни как слова: у них столько способов применения, и новый всегда вытесняет старый, лишая нас возможности прочесть о том, каким всё было раньше; но нередко сквозь трещины в тротуарах случается разглядеть предыдущие значения. Некоторые из них лежат на поверхности и могут мне пригодиться, например, сейчас, пока я жду автобус у центрального вокзала, я могу поставить на камни сумку, или устроить на них пикник, или присесть покурить. Эти камни не в музее; мне не нужно платить за вход, чтобы о них подумать, мои правила позволяют бродить среди них, не пытаясь ничего разглядеть, не выискивая смыслов. Другие камни обнесены забором, и он, будто бархатная лента в галерее, наделяет их смыслом – как раз на них я смотрю и смотрю, и гадаю, что же они означают, ведь заборы намекают на их предысторию.
Я не знаю, в какой момент дом становится руинами. Не всегда дело в упадке. В некоторых ветхих домах продолжают жить, другие для жизни непригодны. В Риме сложно понять, что заброшено, а что нет. Языческие камни замурованы в стены христианских храмов, дворцы эпохи Возрождения построены по образцам древних памятников, которые сами были мемориалами – войнам и убитым в сражениях предкам. Архитектурные стили кивают друг другу через улицу. В столице Империи, по больше части известной своим падением, многое оказывается памятником памятнику. Куда бы я ни посмотрела, всюду здания украшены вазонами с цветами, похожими на погребальные урны, и погребальными урнами, похожими на вазоны с цветами. Их так много, что они не кажутся чем-то печальным.
И вот я в Риме. Снова.
Рим – это место, куда возвращаешься. Бросаешь монетку в фонтан на площади, почти полностью заполненной фонтаном, а остаток пространства заполнен людьми, фотографирующими фонтан. Говорят, это нужно для того, чтобы вернуться, но никто не объясняет, почему ты должна этого захотеть. Впервые я приехала в Рим со своим мужем до того, как мы поженились, затем мы вернулись сюда спустя пару лет. Не сказать, что возвращение было простым. В Риме так много названий для проулков, для переулков, которые заканчиваются тупиками: stradina[55]55
Дорожка (ит.).
[Закрыть], viuzza[56]56
Улочка (ит.).
[Закрыть], vicolo[57]57
Переулок (ит.).
[Закрыть]. Виколы и страдины пересекают полноценных размеров strada[58]58
Дорога (ит.).
[Закрыть] и via[59]59
Улица (ит.).
[Закрыть], наполненные шумом и пылью от удаляющихся автомобилей. Виколы до сих пор принадлежат пешеходам, но решив идти по ним, а не по страдам, мы обнаружили, что те никуда нас не привели, или по крайней мере не туда, куда, как нам казалось, мы идем, – в сторону фонтана, обещавшего возвращение в Рим, расположенного в центре клубка из тех улочек. Мы не смогли отыскать фонтан в первый раз и, вернувшись, не смогли найти его снова.
Супруг, с-упруг, упруг, эластичен, как лента, как резинка. Натяни, отпусти – отскочит обратно. Всегда ненавидела это слово, никогда им не пользовалась.
Сажусь на автобус до хостела. Там, в неопрятной, украшенной искусственными цветами гостиной – стойка регистрации тоже здесь – менеджер смотрит телевизор. Существуя публично, он выглядит как часть перформанса за бархатной лентой, и там никому нельзя сидеть, кроме него. Моя комната еще не готова, я оставляю вещи и иду гулять.
Гуляя по улицам, по которым я гуляла с мужчиной, бывшим моим мужем, по которым не пройду с тобой, я не до конца понимаю, в каком часовом поясе нахожусь. Чувствую себя прозрачной – призраком, без конца повторяющим одно и то же действие, я помню его по прошлой жизни, но в этой оно утратило смысл. Обычный, обычай, обитать. Действие, повторение, призрак; я знаю, что они делают, до мельчайших подробностей, но для чего они – зачем нужны призраки?
Не знаю, есть ли призраки в Риме. Они есть в Лондоне, но не в Париже, а в Лондоне их меньше, чем в остальной Англии. Призраки – особенность деревни. Призраки – это история, требующая простора. Чтобы горожане могли определять время, в городах есть памятники и руины. Возможно, городам не нужны призраки.
Скажи, кого ты преследуешь, и я скажу, кто ты: однажды мы с тобой гуляли по старому городу. Это был не Рим, и хотя ты сам пригласил меня на прогулку, ты вел себя так, словно мечтал от меня отделаться, но я шла за тобой, словно тень, еще не зная, что ты уже начал от меня уходить. В тот раз ты сказал, что меня как будто что-то преследует. Но что? Ты не стал объяснять, и поскольку в том, как ты это сказал, было что-то, к чему я не была готова, я не стала расспрашивать. Я решила, так будет лучше. Любовь всегда сталкивается с призраками: пока смерть не разлучит нас, произносит муж; а смерть придет, я верю, и оттуда тебя любить еще сильнее буду[61]61
Цит. по: Маккалоу, К. Прикосновение / пер. с англ. У. В. Сапциной. М.: АСТ, АСТ МОСКВА, ХРАНИТЕЛЬ, 2007. С. 557–558.
[Закрыть], говорит влюбленная, и я никак не пойму, имеет ли она в виду свою смерть или смерть возлюбленного.
Призраки по-французски – revenants/возвращающиеся. Теперь, когда я вернулась в Рим, меня ничего не преследует, я сама преследовательница, застрявшая где-то между прошлым и несбывшимся. Улицы под углом в двадцать, тридцать градусов, но и камни мостовой, и подоконники выровнены. Тем, кто смотрит из окна, как я взбираюсь по улице, может показаться, будто я поднимаюсь из подвала (как в той пантомиме, когда человек за окном приседает, а затем выпрямляется, словно идет вверх по лестнице, ступень за ступенью). Я долго была мертвой, но вот вернулась и могу в подробностях поведать о том, каково это – быть под землей.
Но вот же Пантеон – опять! С трудом понимаю как, но я снова здесь – иду по той же виколе, как в тот раз, когда я была здесь несколько лет назад, замужняя. Хотела ли я прийти сюда, сама того не зная? Вот та лавка, где мы купили бискотти! Даже кофейня на углу Пьяцца делла Ротонда пережила мой брак. Это торжество камней воодушевляет. Полдень накаляется. Кафе жмутся к краям площади, где испаряются лужицы тени. Захожу в Пантеон просто потому, что заходила сюда в прошлый раз.
В Риме два купола, один языческий, один христианский, и их постоянно сопоставляют друг с другом. Два взаимоисключающих образа жизни, они настолько же далеки друг от друга, как «холост» и «в браке»: выбор невелик. Купол собора Святого Петра, построенный с оглядкой на языческий Пантеон, должен был выйти больше, лучше, но спустя поколения неудач пригласили Микеланджело, чтобы тот переделал план. Поколения. Что ж, Рим не был построен за день. Даже сейчас, колеблясь между классицизмом и барокко, купол собора Святого Петра овальный, не идеально сферический. Спроектированный таким образом, что ему требовалось меньше опор, чем Пантеону, купол должен был выглядеть легче, но он так и не смог стать самонесущей конструкцией. Яйцо треснуло, и теперь его сковывают цепи. Ничто не удерживает купол Пантеона: он возведен вокруг круглого отверстия, дыры в центре потолка, берущей на себя тяжесть стен.
В античном портике Пантеона, однако, изящества столько же, сколько в застекленной пристройке к коттеджу – в этом что-то есть? Есть. «Храм всех богов» – римская диковина, не претерпевшая конструктивных изменений, но вычищенная изнутри от старых богов, их позолоченные статуи сведены с крыши. Прямоугольный алтарь примиряет округлость языческого храма с христианским, отчего тот не кажется ни тем, ни другим. Сегодня пантеоном называют место погребения селебов, как например, храм в Париже, который зовут «Отелем высоких мужчин», и в этом его назначение; правители объединенной Италии, забытые по углам, – ненадежная христианская печать на их светском триумфе.
Hôtel des Grands Hommes, он же Пантеон, Париж
Древние римляне не верили в богов, разве что когда те могли принести им победу в войне, или секс, или еду. Они знали, за что отвечают их боги, вплоть до богов дверных ручек или оконных рам. Трудно поверить, что римляне не поклонялись окулюсу, оку в потолке, его пустоте, его капризному взору, тому, как оно видит и как видится сквозь, как оно проливает смутный свет. Оно похоже на бога. Оно выглядит таким простым и правдивым, что художники по всему Риму впустили ложные окулюсы в закрытые купола католических церквей. Они всегда писали небо синим, порой со взбитыми облаками, а из окулюса Пантеона нисходит белый свет, одинаково устрашающий и прекрасный, и он, часто тусклый и равнодушный, отвечает тебе вопросом и иногда впускает дождь или, в очень редких случаях, снег.
Из-за того ли, что я вижу нечто, похожее на бога (или потому что оно видит меня), мне хочется молиться. Не потому что хочу верить – или вообще чего-то хочу. В школе меня научили повторять формулу, но так и не рассказали, для чего нужна молитва, а я не сумела сформулировать вопрос. Легкомысленные желания, словно загаданные под торт со свечами, казались чем-то непочтительным – обращением к неизвестным третьим лицам, благочестивой фальшивкой, и у меня так и не возникло дел, столь безотлагательных, чтобы прямой запрос стал не просто заполнением эфира. Однажды в школе нас повели на службу в настоящую церковь, мне было четырнадцать. Я надела черный свитер, черную юбку – на мой взгляд, неброские, – красную фетровую шляпу, красные кружевные перчатки без пальцев и колготки; такой костюм я посчитала не менее парадным, чем те, что я видела на службах по телику – единственном месте, помимо школы, где я наблюдала людей за молитвой. Я не думала, что выгляжу странно, скорее, что остальные прихожане не предприняли усилия, подобающего случаю. Тогда-то я и поняла, что такое молитва – что-то вроде перформанса.
Молитва – еще один способ говорить с тем, кого нет рядом, и это чем-то роднит ее с любовным письмом, чем-то – с актом письма, и в два последних, в отличие от первого, я верю. Конечно, мне нет необходимости молиться, если я пишу, и я бы не испытывала потребности писать, если бы молилась. Здесь, в Пантеоне, покинутом старыми богами, так и не заселенным новыми, под оком в потолке, где некуда присесть, не как в английской церкви, молитва – единственное место, где слова кажутся избыточными. Без слов не обойтись – Отче наш или еще что, – но можно не пытаться сказать ими что-то новое. Мне всё равно осточертел звук собственного голоса, с которым я путешествую, стараясь избегать других голосов, – того, что знает слишком много и выбирает длинные слова, или того, что говорит короткими, но длинные у него всегда припрятаны в рукаве. Сейчас я не хочу себя слышать, хочу просто повторять формулу. Она меня успокаивает, собирает, так я могу стоять тихонечко, не думать о словах. Молитва – сама по себе ответ.
Я выхожу, и мгновенно две юные голландки или немки протягивают мне телефон, просят сфотографировать их перед портиком, где разодетые мертвые центурионы позируют с туристами (за деньги), одалживая им пластиковые мечи и шлемы. Мне становится не по себе из-за количества людей, фотографирующих Пантеон: каждый из них увезёт домой свою версию одного и того же изображения. Как они узнают себя среди всех этих стоящих и улыбающихся, когда годы превратят их в призраков собственных образов? Видите женщину, которая старается вписать свое плоское тело в треугольник крыши? Волосы, как у подростка, блестящие, стройное тело, но стоит ей повернуться: лицо шестидесятилетней курильщицы, безволосые брови нарисованы над красивыми ясными глазами, под ними мешки и складки. Но губы ее – выше аккуратного гладкого подбородка – очерчены четко. Получается, она, как Рим, «сделала» один участок своей структуры, оставив другие как есть? Здесь, на Пьяцца делла Ротонда, как и в любом другом месте, первыми я замечаю женщин постарше. Кажется, я ищу в них признаки того, чем могла бы стать сама. Я ищу их с пятнадцати лет и до сих пор не нашла. Зрелые женщины в жизни не похожи на худых загорелых женщин с билбордов, которых я видела из окна поезда, или на крепких белых женщин, безропотно поддерживающих римские портики на протяжении многих лет. Гуляющие по площади женщины не представлены в архитектуре, поэтому я уверена, что они не настоящие, или даже если и настоящие, то женщины-подделки на рекламных щитах или высеченные в камне гораздо важнее. И все-таки я смотрю на них украдкой, зная, что в моем поглядывании есть что-то стыдное. Я стараюсь уловить что-то знакомое – девочку в женщине, как она туда попала, ее историю, – но ищу и что-то большее, возможность существования. Может быть, я распознáю ее, только когда придет моя очередь. Когда мне было двадцать, мне показалось, что я нашла ее, подходящую кандидатуру: женщина шла по торговому центру в моем бетонном новом городе, бывшем тогда всем, что я знала о колоннах и портиках. На ней были чулки сливового цвета, блестящие и необычные, какие можно выбрать только с любовью, чтобы себя порадовать, и наверняка дорогие. Выше блестел аккуратно подстриженный затылок, так сильно отличавшийся от филигранных причесок, которые при помощи плоек сооружали по утрам знакомые мне женщины в возрасте. Если однажды мне удастся стать женщиной в блестящих чулках, подумала я, – всё не было тщетно.
Как же я тщеславна.
Женщина в чулках сливового цвета шла одна, и я смотрю только на одиноких пожилых женщин. Я отворачиваюсь от женщин с партнерами; для меня они будто уменьшены.
Когда я была в Риме с мужчиной, за которым была замужем, я часто наблюдала за тем, как люди в парах достают ланч-боксы из рюкзаков друг друга, один держит карту, второй разглаживает, как они поправляют друг другу шляпы и ремешки от камер, выуживают билеты из карманов. Когда то же самое делали мы, я не была уверена, что хоть один из нас сумеет сделать это правильно, и всё смотрела на другие пары. В то время брак казался мне похожим на прощение, или нет, не на прощение – на признание, принятие – возраста, или смерти, или изменений, или их отсутствия. Я неустанно искала подсказки, как мне быть замужем, и искала их как в реальных людях, так и в персонажах книг и фильмов. Что я хотела у них разузнать: В каком возрасте приятнее быть замужем? Счастливее те, кто в браке давно, или молодожены? Будет брак успешным, если пожениться в юном возрасте или в зрелом; если отношения невинные или искушенные? Сколько времени супругам стоит проводить вместе, сколь сильно им позволено не соглашаться друг с другом? Чем, во всем этом, брак отличается от влюбленности? Я смотрела на пары, по которым казалось, будто их браки счастливые, и радовалась, если они слегка напоминали наш, и на пары, по которым казалось, будто их браки несчастливы, и утешалась, если наш выглядел лучше. После я чувствовала себя виноватой, потому что смотреть само по себе означало сомневаться в собственном браке. Скучные, однообразные женатые пары: почему мне кажется, что я ничему не могу у них научиться? Успешный брак рассеивается в безмолвие. Что-то распадается перед лицом этого слова.
Замужем? Так много несказанного, ненаписанного остается в тени этого высокого слова. Замужем. Называла ли я это любовью? Довольно долго да, затем нет. Зависит от того, что для тебя любовь – вес многих лет или одного мгновения. А где бы вы провели черту: первый взгляд, полгода, пять лет, десять? Поделитесь, если знаете, потому что у меня нет ответа. Знаю только, что между любовью и влюбленностью есть разница. Если бы не этот зазор, хватило бы одного слова. Необходимо мгновение любви для того, чтобы любовь повторялась, хотя, как любой клон, она может непредвиденно мутировать. Зная тебя всего пару месяцев, я уже была готова сказать любовь или предъявить право называть так нашу историю.
Так много историй о любви, и так мало – о браке, всюду лишь только истории о том, что было до; иногда – что после. Брак засасывает все истории в свою черную дыру, чтобы затем вывести их через новое поколение. Даже когда в настоящем мы говорим «я замужем», мы отсылаем к свершившемуся, к уже рассказанной истории. Мне до сих пор приходят свадебные приглашения по случаю брачного союза таких-то… как будто я могу быть свидетельницей всего спектра близости: каждого завтрака, того, как он держит нож, того, как она отпивает чай[64]64
The way he holds his knife, the way she sips her tea (англ.). Парафраз песни Фрэнка Синатры «They Can’t Take That Away from Me» (1937).
[Закрыть], маленьких проявлений нежности или не-нежности: как это бывает: секс, ссоры, примирения, от и до. Во время некоторых свадебных церемоний до сих пор говорят женатое положение – состояние твердого тела, обратное действию. В твердотельном накопителе нового ноутбука, который я взяла с собой, нет движущихся частей. Он сохраняет данные «постоянно» и непрерывно реорганизует память нелинейным образом, перерабатывая прошлое в настоящее. Информацию нельзя необратимо удалить, разве что специальным методом, но, если диск ломается, как правило, все данные – вся история – исчезают. Я не в силах подобрать слова, чтобы описать безмолвие в самой сердцевине брака, а я там была. Мне всё еще интересно, что приходит на смену словам. Неудивительно, что я предпочла романтику, интернет, переписку, безвоздушный твиттер, где у людей нет ни мужей, ни жен, ни семей. Можно ли поселиться там навсегда? Да, если тебе нравится писать. Просто нажимай
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?