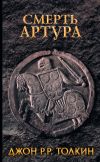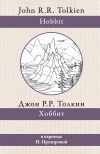Текст книги "Толкин и Великая война. На пороге Средиземья"

Автор книги: Джон Гарт
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Действительно, если говорить об Англии, я – западно-мидлендец и чувствую себя дома только в пограничных графствах между Англией и Уэльсом; и я так думаю, что англосаксонский, западный среднеанглийский и аллитерационная поэзия стали для меня детским увлечением и основной сферой профессиональной деятельности столько же в силу происхождения, сколько и обстоятельств.
Подобно Лённроту, Толкин считал, что его родная культура растоптана и забыта; но, что показательно, он видел события в широком временно́м масштабе, а Нормандское завоевание воспринимал как переломный момент. Вторжение Вильгельма Завоевателя в 1066 году на несколько веков положило конец использованию английского языка при дворе и в литературе и в итоге наводнило английский словами негерманского происхождения. Голос народа заставили фактически умолкнуть на многие поколения, и письменная традиция прервалась. Еще в школе Толкин нанес остроумный контрудар, осудив Нормандское завоевание «в речи, отчасти претендующей на возвращение к оригинальному пуризму саксонской дикции», как сообщалось в школьной «Хронике», – или, как говорил сам Толкин, к «доброму исконно английскому красноречию»: к языку, очищенному от латинских и французских заимствований (хотя в пылу речи он не удержался от «таких заморских кошмаров, как “лауреат” и “варварский”»). Хотя древнеанглийский язык обрел письменность только после того, как англосаксы стали христианами, в нем сохранились отголоски более древних преданий, которые так завораживали Толкина в древнеанглийской литературе и в самой ткани ее языка. Вне всякого сомнения, обширное наследие также было уничтожено в ходе Нормандского завоевания.
Напротив, «Калевала» сберегла древние предания финнов. Выступая перед обществом «Солнечные часы» в Корпус-Кристи-колледже по приглашению Дж. Б. Смита, 22 ноября 1914 года Толкин заявил: «Здесь у нас собрание мифологических песней, полных той первобытной поросли, которую европейская литература в целом вырубала и прореживала в течение многих веков, хотя и в разной мере и в разные сроки среди разных народов». В ходе переработки доклада спустя годы после войны Толкин добавил: «Хотел бы я, чтобы у нас сохранилось побольше такой мифологии – чего-нибудь подобного, но принадлежащего англичанам». По сути дела, это и стало творческим манифестом юного Дж. Р. Р. Толкина.
27 ноября 1914 года Толкин продекламировал «Странствие Эаренделя» в Эссеистском клубе Эксетер-колледжа перед немногочисленным сборищем, которое сам он назвал «своего рода неофициальным последним издыханием»: война опустошала Оксфорд, забирая его студентов. Дж. Б. Смит тоже прочел эти стихи и спросил друга, о чем они. Ответ Толкина многое говорит о его творческом методе, даже на столь ранней стадии. «Не знаю, – ответил он. – Постараюсь выяснить». Он уже вступил на путь подражания Лённроту, углубившись в прошлое от древнеанглийской поэмы «Христос» в «поросль» германской традиции, где мореход по имени Эарендель, возможно, плавал на корабле в небесах. Мифические герои-небожители всегда были родом с земли, но до того времени Толкин ничего не «выяснил» об Эаренделе. А теперь он набросал некие обрывочные идеи:
Корабль Эаренделя плывет через воды Севера. Исландия. Гренландия и дикие острова: могучий ветер относит его на гребне великой волны в края более жаркие, за Западным Ветром. Страна чужеземцев, страна магии. Обитель Ночи. Паук. Он спасается из тенет Ночи с несколькими сотоварищами, видит гигантский остров-гору и золотой город – ветер гонит его на юг. Древолюди, Солнечные жители, пряности, огненные горы, красное море: Средиземноморье (лишается корабля (путешествует пешком через дебри Европы?)) или Атлантика…
Затем в набросках мореход подводится к тому моменту в «Странствии Эаренделя», где он уплывает за край мира, преследуя Солнце. Сразу становится на удивление ясен размах творческих устремлений Толкина. Это – «Одиссея» в зародыше, но «Одиссея», в которой классический антураж Средиземноморья возникает лишь как запоздалое дополнение, а в сердце ее суровые северные моря, омывающие толкиновский островной дом. Но поражает и то, насколько этот краткий набросок уже предвосхищает ключевые моменты из «Сильмариллиона», из истории Нуменора-Атлантиды и даже из «Властелина Колец». Именно здесь эти смутные видения были, вероятно, впервые запечатлены на бумаге. Многие из них, возможно, в какой-то форме уже существовали задолго до того. Но Кюневульф, «Калевала», пытливые расспросы Дж. Б. Смита и, предположительно, даже тревоги Толкина по поводу поступления на военную службу – все это вместе сделало свое дело, и образы хлынули потоком.
3
«Лондонский совет»
Было решено, что в середине триместра, в субботу 31 октября, оксфордское «подразделение» ЧКБО прибудет в Кембридж на выходные, но в итоге явился только Дж. Б. Смит. «Толкин тоже собирался, но не приехал, чего и следовало ожидать, – разочарованно писал Роб Гилсон. – Никто не знает, почему он не смог выбраться, и менее прочих – Смит, который виделся с ним в пятницу вечером». Смит и Гилсон отобедали с Кристофером Уайзменом, побывали на воскресной службе в часовне Кингз-колледжа и прогулялись по Кембриджу. Смит вдохновенно разглагольствовал о том, что ему по душе в университетском городке-сопернике, и, блистая остроумием, высмеивал то, что ему не нравилось. Гилсон писал: «Я всегда ценю его мнение, хотя зачастую с таковым не согласен, и мне ужасно приятно, что он пришел в бурный восторг от моего жилища: мол, ничего лучше он не видывал даже в Оксфорде. Сегодня утром я устроил завтрак для всей компании, и квартирка смотрелась на диво выигрышно. Солнечное утро, на лужайке для игры в шары лежат тени, и чуть-чуть тумана – в самый раз для того, чтобы деревья на заднем плане выглядели прямо идеально – синими и оранжевыми… Выходные получились просто идеальные». Смиту тоже все явно понравилось, потому что на следующие выходные он снова приехал в Кембридж. Друзья поговаривали о том, чтобы однажды собраться в Оксфорде.
По правде говоря, Толкин просто-напросто перестал бывать на встречах ЧКБО. То, что казалось идеальным впечатлительному Гилсону, для Толкина было подпорчено настроем, противоположным исходному духу клуба. Там всегда высоко ценилось остроумие, но поначалу каждый из членов привносил свою собственную разновидность. Толкиновский юмор порой отличался шумливой разухабистостью, но, заодно с Гилсоном, Толкин благодушно находил удовольствие и в более спокойных чудачествах и частенько развлекался каламбурами. Дж. Б. Смит обладал «даром чеканить абсурдные парадоксы» и мастерски пародировал разные стили. «Вчера я играл в “раггер” [регби], так что теперь я один из Трех Самых Одеревенелых Смертных в Европе» – это пародия Дж. Б. С. на гиперболические средневековые валлийские триады. Уайзмен любил комедийные экспромты и мудреные математические шутки. Сидни Бэрроуклоф, с другой стороны, изображал из себя холодного циника, облекая сарказм в изящные словеса, а Т. К. Барнзли и У. Х. Пейтон подражали его остротам. Толкину уже не хотелось проводить время с ЧКБО, подпавшим под их влияние.
В этом он был не одинок. Однажды, промучившись целый вечер под бессмысленную пикировку, в которой не мог и не желал участвовать, Уайзмен решил разорвать свои связи с ЧКБО. Он написал Толкину, сообщая, что на оксфордскую встречу не приедет, заявив: «Ну, выберусь я туда, чтобы в течение пары дней нести чушь, и снова вернусь обратно – зачем? Мне изрядно надоело ЧКБО: сдается мне, никто из его участников не способен всерьез рассердиться из-за чего бы то ни было – они просто отпускают легковесные, остроумные замечания (признаю, в этом деле Дж. Б. С. просто гений) ни о чем». По словам Уайзмена, Барнзли и Бэрроуклоф подорвали их с Гилсоном веру в себя. Пока еще не стало слишком поздно, он заклинал своего старейшего друга «всей памятью о ВТ [Винсенте Трауте], о готском, о пирушках на Хайфилд-роуд, о ссорах из-за филологии» после окончания триместра приехать к нему на экстренную встречу вместе с Гилсоном и Смитом.
Уайзмен настолько разочаровался в ЧКБО, что ответа даже и не ждал. Однако ж обнаружилось, что в кои-то веки они с Толкином полностью солидарны. «Поверь, когда я дочитал твое письмо, я был готов обнять тебя», – написал Уайзмен в ответ. Ни Оксфорд, ни Кембридж не «уничтожили того, что делало нас с тобою Братьями-Близнецами в добрые старые школьные дни, прежде чем возникло ЧКБО помимо нас и ВТ», – говорил он.
Толкин защищал Дж. Б. Смита, уверяя, что его поверхностность – это просто маска, надетая под влиянием «чужеродного духа», ныне преобладающего на собраниях клуба, но соглашался с тем, что Гилсон постепенно утратил интерес к вопросам морально-этическим и превратился в обыкновенного эстета. Толкину казалось, что и Смит более или менее подпадает под ту же категорию, но подозревал, что оба молодых человека скорее все еще малость желтороты, нежели поверхностны от природы. Безусловно, исключать их из рядов клуба он даже не думал. В одном Толкин был непреклонен: «ЧКБО – это четверо и не иначе»; от прилипал необходимо избавиться.
Невзирая на все свои придирки, Толкин считал, что их общество – это «великая идея, которая так и не была четко сформулирована». Два полюса этой идеи – эстетика и мораль – могут взаимодополняться, если их уравновесить, однако члены общества на самом-то деле знали друг друга недостаточно хорошо. В то время как Великие Братья-Близнецы обсуждали между собой фундаментальные основы бытия, никто из них не пытался говорить о том же с Гилсоном или Смитом. В результате, заявлял Толкин, потенциал, которым обладают в совокупности эти четверо «изумительных личностей», оставался нереализован. Так что морально-нравственное крыло ЧКБО постановило: всем четверым собраться в Уондсуорте за две недели до Рождества. «ЧКБО über alles»[30]30
Превыше всего (нем.). – отсылка к «Песни немцев» Г. фон Фаллерслебена на музыку Йозефа Гайдна (1841); ее первая строка звучит как «Германия превыше всего». – Примеч. пер.
[Закрыть], – иронически приписал в конце письма Уайзмен, завершая тем самым бурную переписку нескольких дней.
До последнего было непонятно, сумеют ли Дж. Б. Смит и Роб Гилсон прибыть на «Лондонский совет», как окрестили экстренное собрание. Уайзмен, подобно Толкину, с самого начала решил, что завербуется в армию не раньше, чем до учится и получит диплом, ведь кайзер Вильгельм заявил, что его солдаты вернутся по домам к тому времени, как с деревьев облетят листья. Однако Смит и Гилсон оба уже вступили в армию Китченера.
Кембридж военной поры казался Гилсону унылым и темным, как и Оксфорд – Толкину, и Гилсон с самого начала триместра подумывал, не сократить ли последний год. Его отец, директор школы короля Эдуарда, советовал ему сперва закончить образование и только потом идти воевать и заявил сыну (эта его казуистика была исполнена предусмотрительности), что тот не имеет права бросать Кембридж сейчас, когда университетский корпус нуждается в каждом, дабы обеспечивать подготовку офицеров на будущие военные нужды. Переломный момент для Гилсона, по-видимому, наступил в начале ноября, когда, скрепя сердце, в армию завербовался застенчивый, обидчивый студент Ф. Л. Лукас, с которым он только-только успел подружиться. «Он совершенно не из тех, кто кидается во все это очертя голову, даже не задумываясь, что делает, – писал Гилсон. – На самом деле, он скорее герой»[31]31
Ф. Л. Лукас, студент классического отделения, выжил в войне и стал преподавателем, членом Кингз-колледжа в Кембридже, литературным критиком, поэтом и драматургом.
[Закрыть]. Лекции по военному делу внушили впечатлительному Гилсону, «какая это страшная ответственность – когда тебе доверено столько человеческих жизней». С другой стороны, он мучился чувством вины из-за того, что до сих пор не записался в добровольцы, и, к немалому своему удивлению, обнаружил, что ему нравятся даже самые изнурительные полевые учения. Из более широкого круга ЧКБО в армию вступили и другие. Сидни Бэрроуклофа приняли в Королевскую полевую артиллерию, Ральф Пейтон был зачислен рядовым в 1-й Бирмингемский батальон, в подразделение Т. К. Барнзли, а вот У. Х. Пейтон подыскал для себя достойную альтернативу действующей армии – в августе он стал чиновником Индийской гражданской службы[32]32
Индийская гражданская служба, в XIX в. одно время официально известная как Имперская гражданская служба – высший управленческий аппарат Британской Индии во время британского правления в период с 1858 по 1947 г. – Примеч. пер.
[Закрыть]. Всей душой стремясь положить конец многомесячным сомнениям и угрызениям совести, Гилсон дождался, когда ему исполнился двадцать один год, и 28 ноября был зачислен в Кембриджширский батальон младшим лейтенантом.
Гилсон облегченно выдохнул: хотя он был, строго говоря, слишком чувствителен для военной жизни, но, общительный и компанейский, легко ладил с сослуживцами. Напротив, Дж. Б. Смит, тоже натура чувствительная, был куда менее терпим и по природе своей недисциплинирован: 1 декабря он последовал примеру друзей и теперь чувствовал себя «как вытащенная из воды рыба». От Кэри Гилсона было получено рекомендательное письмо, и молодого поэта зачислили в Оксфордширскую и Бакингемширскую легкую пехоту – полк, штаб которого был расположен в Оксфордском полковом округе. Это означало, что Смиту предстояло проходить подготовку в Оксфорде и, будучи расквартирован в Модлин-колледже, он окажется под рукой, чтобы посмотреть на первые литературные попытки Толкина. Одно из стихотворений Смита, «Ave atque vale» («здравствуй и прощай» [лат. ]), впервые увидело свет на страницах «Оксфорд мэгезин». Ода университетскому городу (а также и самой жизни) возвещала: «…Нам уходить пора. Чуть-чуть побудем – и уйдем…»
В конечном счете, оба новоиспеченных субалтерна сумели-таки договориться об увольнительной, чтобы приехать в Лондон в субботу, 12 декабря. За день до того Гилсон переселился в офицерские бараки в недавно построенном лагере своего батальона в Черри-Хинтоне, под самым Кембриджем. Под эгидой Уайзмена в нормальных обстоятельствах это была бы развеселая, беззаботная поездка, со спонтанными вылазками за город, опозданиями на поезд и бессчетными телефонными звонками – Уайзмен пытался бы держать свою матушку в курсе обо всех их планах. Семья Уайзменов обладала особым талантом создавать хаос: отец работал не по часам и понадобиться мог в любой момент, ни о каких правилах и условностях в доме № 33 по Раут-роуд в Уондсуорте даже не вспоминали. Но на сей раз четверке друзей предстояло обсудить насущно важные вопросы. Они уединились в комнате Уайзмена наверху и разговаривали до глубокой ночи.
Встречу эту друзья окрестили «Лондонским советом», как если бы речь шла о совете военном; на самом-то деле это был совет на тему жизни. Война в беседу не вторгалась, несмотря на то что Смит с Гилсоном вступили в армию; по словам Роба, они четверо «совершенно не отвлекались на внешний мир». Однако ж они приняли своевременное решение объединиться и рассмотреть животрепещущий вопрос: величие ЧКБО. На этот счет друзья питали давнюю убежденность, основанную на взаимном восхищении. Правда, сейчас Гилсон усомнился, а так ли это, но Уайзмен считал, что, когда они вместе, каждый кажется «в четыре раза умнее», словно вбирает в себя таланты всех прочих. Толкин чувствовал то же самое в отношении «вдохновения, что неизменно давали нам всем даже несколько часов, проведенные вчетвером». Но легковесность, за последние годы подчинившая себе более широкий круг, оставила Толкина и Уайзмена в убеждении: необходимо крепко держаться за основополагающие принципы, – иными словами, все четверо должны открыть друг другу душу и обсудить свои самые сокровенные убеждения, как некогда поступали Великие Братья-Близнецы. В повестку дня Толкин внес религию, любовь, патриотический долг и национализм. Единодушно соглашаться не требовалось, но важно было определить «допустимые расхождения», как сам он выразился; то есть, насколько серьезные внутренние разногласия окажутся для клуба приемлемы.
«Совет» превзошел все ожидания. «Таких счастливых часов мне в жизни не выпадало», – писал впоследствии Роб Джону Рональду. Для Толкина эти выходные стали откровением; впоследствии он считал их поворотным пунктом своей творческой жизни. Как сам он говорил полтора года спустя, именно в этот момент он впервые осознал «надежды и стремления (зарождающиеся и смутные, знаю сам)», что неизменно направляли его с тех самых пор и до конца жизни.
Толкин давно уже лелеял творческие амбиции, но до сих пор они воплощались только в придуманных языках и в рисунках. Но теперь все переменилось. Очень может быть, что под грузом гнетущих мыслей о войне он ощутил ответный напор изнутри, не находивший выхода в прежних видах творчества. С прозой Толкин уже пытался экспериментировать в своей «Истории Куллерво». Однако ж теперь он собрался последовать примеру «Калевалы» как таковой, стиха, на который все чаще сбивалось повествование в «Куллерво», а также примеру Дж. Б. Смита. Он решил стать поэтом.
На самом деле начало было уже положено: за неделю до «совета» Толкин написал весьма амбициозное стихотворение – акцентным вариантом долгой строки, которую он использовал в «Там, где над предвечной Темзой ивы клонятся к волне». В самом раннем опубликованном варианте «Прилив» начинается так:
Я сидел у кромки моря, близ изломанной гряды,
Внемля громовым раскатам пенной музыки воды,
Там, где брег седым прибоем осаждаем испокон,
Там, где в камне проступает контур башен и колонн;
Своды сотрясались гулко, тени таяли у дюн —
Словно призраки зубчатых скал, утесов и лагун,
Рассеченных древней бурей и неистовством валов…
Снабженный подзаголовком «На Корнуольском побережье», этот текст стал поэтическим выражением того благоговейного трепета перед морем, который Толкин описывал в письмах и воплощал в рисунках в Корнуолле летом 1914 года. Образы битвы, вероятно, подсказывались тем обстоятельством, что стихотворение создавалось в военное время и в атмосфере всеобъемлющего страха перед иноземным вторжением, однако вместе с тем Толкина занимали процессы в масштабах геологического времени. Присутствие поэта – это не более чем случайное обстоятельство; он всего-навсего наблюдает за движением стихийных океанических сил, величественных и безжалостных. Это небольшое произведение на самой ранней стадии позволяет увидеть, насколько глубоко Толкин осознавал масштабность исторических эпох, вписанных в пейзаж, – именно это осознание и наделяет его мифологический мир фактурой осязаемой реальности.
Очень скоро Толкин на волне небывалого для него творческого подъема уже добавлял новые и новые стихотворения к своему корпусу текстов. «В результате “совета”, – рассказывал Толкин Дж. Б. Смиту, – я обрел голос для выражения всего того, что до сих пор сдерживалось и накапливалось, для меня словно открылись необозримые горизонты». Картина «Земля Похья», написанная через два дня после Рождества, передает это неожиданно приподнятое настроение в разгар темных времен: она иллюстрирует эпизод из «Калевалы», когда Солнце и Луна, привлеченные дивной игрой волшебника Вяйнямёйнена на кантеле, устраиваются на ветвях трех деревьев, заливая обледеневшие пустоши светом.
Толкин опять увлекся финским языком, и язык этот сыграл самую что ни на есть продуктивную роль в творческом прорыве. Когда Толкин зашел в библиотеку колледжа за книгой Чосера, чтобы продолжить изучение английской филологии во время рождественских каникул, он заодно взял снова «Финскую грамматику» Элиота. И погрузился в нее с головой, но не для того, чтобы поупражняться в финском; скорее, финский должен был придать форму языку, который Толкин надеялся создать. Язык «Калевалы» давно уже понемногу вытеснял готский, некогда главенствовавший в его филологическом сердце. В какой-то момент, с наступлением 1915 года, Толкин достал тетрадку, в которой, по всей видимости, набрасывал разные составляющие гаутиска, и повычеркивал все старые записи, приготовившись начать с чистого листа. Он опробовал несколько вариантов названия для нового языка и, наконец, остановился на «квенья» [Qenya].
Для Толкина, работающего в знакомых областях английского и его индоевропейских родственников, финский казался далеким, таинственным и по-особому красивым. Финская доиндустриальная культура корнями уходила в глубокую древность. Приобщаясь к ней, Толкин в своей своеобразной манере следовал современной моде на примитивизм, который некогда привлек внимание Пикассо к африканским маскам. В «Калевале» естественное и сверхъестественное смешались воедино, а язык ее, как говорил Толкин, открывал «совершенно иной мифологический мир».
Небольшой, строгий набор согласных и мелодичные окончания придавали финскому характерную музыкальность – ее Толкин заимствовал для квенья; но ему требовался язык со своим собственным прошлым, так что он в подробностях продумал, как квенья эволюционировала из праязыка, который вскоре был назван праэльдарин. Как и в случае любого языка реального мира, этот процесс представлял собою сочетание передвижений звуков (фонология), перегруппировки слово образовательных элементов (морфология), таких как флексии s и – es, в большинстве случаев образующие множественное число имен существительных в английском языке, и развития значений (семантика)[33]33
Достаточно будет одной-единственной иллюстрации. Толкин решил, что праоснова LIŘI почти без изменений вошла в квенья как liri-, и корень слова означает ‘петь. Посредством добавления разных субстантивных суффиксов от этого же корня образуются liritta ‘стихотворение, песнь, записанное стихотворение’ и lirilla ‘баллада, песня’. Однако форма прошедшего времени – lindë, по всей видимости образованная посредством вставки инфикса – n– (морфологическое изменение), который в сочетании с исходным – ř– перешел в – nd– (фонологическое изменение). Но lindë и само по себе выступает основой: при добавлении суффикса дает lindelë ‘песня, музыка’, а при отпадении безударного последнего слога – lin ‘музыкальный голос, напев, мелодия, мотив’. Также эта основа возникает в составе сложных слов в сочетании с другими квенийскими корнями, как в lindōrëa ‘поющий на рассвете’ (употребляется главным образом применительно к птицам) и lindeloktë ‘поющая гроздь’, название ракитника (здесь мы наблюдаем семантический процесс метафоризации в действии). Все эти типы преобразований имеют свои аналоги в языках реального мира.
[Закрыть]. Что еще больше завораживало в этой лингвистической алхимии – то, что, как и в реальном мире, альтернативная последовательность звуковых изменений и морфологических элементов в других обстоятельствах породила бы совершенно иной язык, восходящий к общему истоку, – такую возможность Толкин очень скоро принялся осваивать.
Толкиновские «законы» передвижений звуков сухо изложены на многих страницах ранних квенийских тетрадок, но они были так же жизненно важны для языка квенья, как изменения, закрепленные в законе Гримма, – для немецкого или английского. Толкин зачастую писал так, как если бы, подобно Якобу Гримму, и он тоже выступал всего-навсего в роли наблюдателя, обращающегося к не зафиксированному в письменных источниках, но, тем не менее, подлинному прошлому живого языка. Даже в этих заметках по фонологии Толкин уже вступал в свой мир как автор и писатель. При таком взгляде «извне» передвижения звуков воспринимались как непреложные факты наблюдаемой истории.
На самом-то деле Толкин еще и примерял на себя роль Создателя (или вторичного творца, подражающего Творцу, как сам он впоследствии сформулирует). Он не просто наблюдал за историей; он ее созидал. Вместо того чтобы продвигаться в обратном направлении от письменных свидетельств и восстанавливать утраченные изначальные «корни» слов, как делал Гримм, воссоздавая картину древнегерманского языка, Толкин мог в свое удовольствие придумывать праэльдарские корни и двигаться вперед, добавляя приставки и применяя передвижения звуков, чтобы в итоге получился язык квенья. Более того, Толкин мог менять закон передвижения звуков – и порою так и делал. А поскольку каждый из законов должен действовать в языке повсеместно, это могло повлечь за собою изменения в самых разных словах и их индивидуальной истории. Переработка настолько масштабная была процессом трудоемким и кропотливым, но перфекционист Толкин им наслаждался. Тут можно было провозиться всю жизнь, и Толкин не собирался упускать такой возможности.
Если эти строгие законы передвижения звуков были своего рода «научными» формулами (столь же основополагающими для индивидуальности языка, сколь ДНК – для нашей), с помощью которых Толкин создавал свой «романтический» язык, – то придумывание квенья явилось также и упражнением в эстетических предпочтениях, так же прочувствованным, как любое искусство. Толкиновские звуковые образы всегда отличались выразительной точностью: басовитое kalongalan ‘звон или лязг (больших) колоколов’ и kilinkelë ‘перезвон (маленьких) колокольчиков’, изящные чередования звуков в vassivaswë ‘шум или гул крыльев’ или труднопроизносимое pataktatapakta ‘тук-тук-тук’. Квенья – язык более чем звукоподражательный: nang– я простужен’, miqë ‘поцелуй’ (произносится примерно как «микве») – именно такие звуки порождает речевой аппарат, когда заложен нос или когда губы влюбленных сближаются. Разумеется, большинство понятий не связаны неразрывно ни с каким конкретным звуком или движением губ. Толкин пытался сочетать звук и смысл подобно тому как художник-импрессионист использует цвет, форму и тень для создания определенного настроения. Если забыть о деривации, лишь вкус подсказывал, что fūmelot означает ‘мак’, eressëa означает одинокий’, а morwen дочь темноты’ соотносится с мерцающей планетой Юпитер.
Толкин прежде всего использовал язык квенья, чтобы создать мир, подобный нашему, и все же отличный от него. Деревья в нем такие же, но благодаря названиям кажется, будто они готовы заговорить: ракитник – это lindeloktë ‘поющая гроздь, siqilissë ‘плакучая ива’ означает также и ‘плач’ как таковой. Это мир austa и yelin, лета’ и ‘зимы’; мир lisēlë, piqēlë и piqissë, отрады’, ‘горечи’ и скорби’. Но язык квенья пронизан волшебством: от kuru ‘магии, чародейства’ до одного из имен Эаренделя – Kampo ‘Прыгун’ и целого сонма других имен и названий для народов и мест, что возникли в течение пары лет работы над лексиконом. Для Толкина даже в большей степени, чем для Чарльза Диккенса, имя было первоосновой сочинительства. Его квенийский лексикон стал записной книжкой писателя.
В начале марта Роб Гилсон написал Толкину приглашая его приехать к ним с Уайзменом в Кембридж. Смит тоже обещал быть, и Гилсону не терпелось повторить опыт «Лондонского совета». С тех самых выходных он терпел непривычные тяготы военного обучения: жил в бараках в полевом лагере, который то и дело затапливало, порою заболевал после очередной прививки и все больше впадал в уныние. «Я уже утратил всякую надежду на то, что война закончится в ближайшие полгода, – писал Гилсон домой. – Если бы кто-то наделенный пророческим даром сказал мне, что война продлится десять лет, я бы ничуть не удивился». Толкину он говорил: «Я способен выносить настоящее только опираясь на воспоминание о том, что я – ЧКБОвец… Но еще одно собрание было бы величайшим мыслимым блаженством». Если Толкин не сможет прибыть в Кембридж на будущей неделе, Гилсон будет «горько разочарован».
Тем не менее, Толкин не приехал. В субботу трое друзей послали ему телеграмму – ультиматум, призывающий его либо явиться, либо выйти из членов ЧКБО. Разумеется, все это было не то чтобы всерьез. «Когда мы дали телеграмму, – писал Уайзмен Толкину на следующей неделе, – мы в тысяча первый раз блуждали в потемках, разыскивая некоего Джона Рональда, от которого не было ни слуху, ни духу… Мы всегда недоумеваем, почему ты единственный постоянно выпадаешь из ЧКБО».
«Школы» стремительно приближались, и Толкину нужно было подготовиться к десяти письменным работам. В большинстве своем они охватывали любимые им области: готский язык, германскую филологию, древнеисландский, древне– и среднеанглийский языки и литературу. «Сага о Вёльсунгах», «Морестранник», «Хавелок-Датчанин», «Троил и Крессида» – с этим материалом проблем не предвиделось. С некоторыми из этих текстов Толкин познакомился за несколько лет до того, как перешел на английское отделение в Оксфорде, и с тех пор как покинул классическое, пребывал в беззаботной уверенности, что курс не составит для него сложности. Но неделю спустя после того, как он пропустил кембриджскую встречу (в это самое время трехдневное наступление британских сил захлебнулось под Нев-Шапель), он уехал на пасхальные каникулы, вооружившись обязательными для изучения текстами, и в гостях у Эдит в Уорике разбирал среднеанглийскую поэму «Сова и соловей» строку за строкой, делая подробные заметки о лексике (как, например, attercoppe ‘ядоглавы’, – позже он подарит это словечко Бильбо Бэггинсу в качестве дразнилки для пауков Мирквуда).
Занимало Толкина и другое его дело: поэзия. В конце триместра Толкин снова обрел аудиторию для своих стихов в Эссеистском клубе Эксетер-колледжа (на самом деле клуб благополучно выжил после ноябрьского «последнего издыхания»): он прочел там «Прилив» или, как он переименовал переработанный вариант стихотворения, «Морскую песнь Древних Дней». Дж. Б. Смит уже видел как минимум рукопись «Странствия Эаренделя», но теперь Толкину захотелось представить ЧКБО целую подборку стихотворений для критического разбора. Он заказал перепечатку разных «фрагментов» об Эаренделе и других произведений и послал их Смиту в Модлин-колледж, где тот был размещен на постой.
Смит пришел в замешательство. Как консервативный приверженец классических форм, он находил своеобычный романтизм Толкина весьма спорным. Кроме того, ему нравилась новая простота «Георгианской поэзии», авторитетной антологии 1913 года под редакцией Эдварда Марша, в которую вошли стихотворения Руперта Брука, Ласселса Аберкромби, Г. К. Честертона, У. Г. Дейвиса и Уолтера де ла Мара. Так что Смит посоветовал Толкину упростить синтаксис «Морской песни» и других произведений. Он убеждал его читать «хороших авторов» и учиться у них, хотя его представление о «хорошем» авторе не вполне совпадало с толкиновским. Однако ж Смит нашел, что стихи «на диво хороши», и показал их Генри Теодору Уэйду-Гери, капитану из своего батальона, бывшему оксфордскому преподавателю классического отделения, который и сам был талантливым поэтом[34]34
Уэйд-Гери принял командование 3-м батальоном «Солфордских приятелей» с апреля 1917 до мая 1918 г. и был награжден Военным крестом. Впоследствии он стал Уикемским профессором древней истории в Оксфорде и членом Мертон-колледжа, когда пребывание там Толкина на профессорской должности уже подходило к концу. Он опубликовал ряд книг по древнегреческой истории и литературе.
[Закрыть]. Уэйд-Гери согласился, что синтаксис местами зубодробительный, но так же, как и Смит, он всецело одобрил следующее любовное стихотворение:
Се! Юны мы, но выстояли всё ж —
под стать сердцам, взрастающим в лучах
любви немало лет (два древа так
в долине солнечной или в лесу
стоят, сплетая ветви и дыша
прохладной свежестью, впивая свет,
неразделимые); так стали мы
едины; так, объятия сомкнув,
мы в почву Жизни глубоко вросли. Отступление в скобках многозначительно замедляет рассказ, словно подразумевая, что влюбленные долго росли вместе, бок о бок, прежде чем в последних строках возвещается итог этой многолетней тесной близости.
Свет как осязаемая субстанция (иногда жидкость) впоследствии станет часто повторяющимся элементом в толкиновской мифологии. Очень заманчиво возвести его происхождение к этим строкам. Примечательно и то, что Два Древа Валинора, которым предстояло освещать придуманный мир Толкина, обрели свои прототипы здесь, в стихотворении, воспевающем их с Эдит любовь, и в его символическом рисунке под названием «Додесятичество».
А еще Смиту и Уэйду-Гери очень понравилось стихотворение, написанное в марте, под названием «Как Житель Луны сошел с вышины» – Толкин взял популярный детский стишок и пересказал его пространно и в деталях. Исходный вариант представляет собою шуточную бессмыслицу:
Раз житель луны
Сошел с вышины
И, в Норидж придя спозаранку
От южных ворот,
Обжег себе рот,
Жуя отварную овсянку.
Пересказ Толкина придает истории смысл (по счастью, ничуть не умаляя ее абсурдности). Житель Луны обретает и характер, и мотивацию: он покидает свое стылое и бесцветное лунное королевство, мечтая об изобилии Земли. По контрасту с «горячими яствами и вином», столь желанными Жителю Луны, его привычная еда – «жемчужные пирожки из легких снежинок» и «жиденький лунный свет» кажутся не слишком-то роскошными яствами. Несбыточные грезы Жителя Луны расцвечены пышными латинизмами – но вот он падает на землю со звуком «бух», или скорее «плюх». С помощью восхитительно ярких и емких образов («его круглое сердце едва не разбилось») более прямые и резкие слова германского происхождения помогают вызвать к нему некоторое сочувствие:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?