Текст книги "Эгипет"
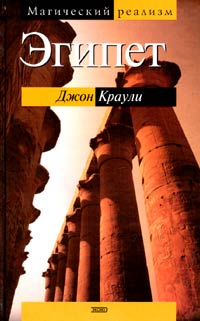
Автор книги: Джон Краули
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава седьмая
Пьеса была об убийстве Цезаря в Капитолии; по его белой тоге, надетой поверх бархатной куртки и шелковых рейтуз, струилась красная кровь, заговорщики били его раз за разом, лезвия кинжалов уходили в рукоятку, одновременно выпуская устрашающие фонтаны крови, – а они все кололи и кололи его. У великого Цезаря еще оставалось время произнести, шатаясь и истекая кровью, пространную речь о зависти, что вечно норовит низринуть орлов, парить привыкших в вышине, – брутальная, скотская зависть, сказал он, и засим последовал мудреный каламбур о Бруте и брутальных бурых зверях, которые теперь берут свое и которых он пригрел за пазухой, как тот греческий мальчик лисенка, а о дальнейшем он не ни слова, как тот маленький спартанец, когда зверь рвал ему внутренности. Он произнес еще много слов, и кое-кто из зрителей охал от жалости и потрясения, а некоторые смеялись над тем, что он до сих пор не умер; тогда он закрыл лицо окровавленной тогой и грохнулся во весь рост на дощатый настил: подмостки содрогнулись от удара.
Он появился и позже, в джиге, которая за сим последовала, в новой нарядной одежде, ловко крутя жену Брута под руки. А вот теперь он выпивал с заговорщиками в захудалой стратфордской харчевне, слегка охрипший, потный от августовской духоты. Уилл, стоя на скамейке снаружи у открытого окна, глядел, как он ловко вертит монетку тыльной стороной пальцев, через всю ладонь, и она не падает, как будто приклеенная.
«И в честь того Брута названа Британия, – сказал он. – Так говорит мой знаменитый ученый друг доктор Ди».
«Нет, не того, – возразил Дженкинс, новый школьный учитель. – Это другой Брут».
«А разве не Цезарь, – спросил актер, подбрасывая монетку, – разве не он доходил до этого острова? Разве не он построил лондонский Тауэр и одержал знаменитые победы? Вы отрицаете это, сэр?»
Было непонятно, сердится актер или забавляется: его глаза вспыхнули, зрачки расширились, указательный палец нацелился на противника, как меч; но только монетка все так же спокойно вертелась туда-сюда между пальцами.
«А Брут был приемным сыном Цезаря. Следовательно…»
«Это был не тот Брут», – сказал господин Дженкинс. Дженкинс ничего не пил, а стоял, сцепив руки за спиной, так, словно находился вовсе и не здесь, не в этой комнатке с низким потолком. Уилл внимательно наблюдал за ним, следующий учебный год предстояло учиться у этого человека, имело смысл узнать его получше.
«Тот Брут – из Трои, он вообще жил в доримские времена. После того как греки захватили Трою, Брут при был на этот остров, так же, как Эней бежал и основал Рим. Так что мы не британцы, а брутанцы».
«Брутанцы, это точно», – промолвил Цезарь и исполнил свой предсмертный монолог.
Сколько же раз, подумал Уилл. Сколько раз уже умирал Цезарь с тех пор, как умер, перед сколькими тысячами глаз. Он уперся локтями в подоконник, вслушиваясь, стараясь не упустить ни единого звука. Цезарь, нарочно запнувшись, сделал внезапную комическую паузу, притворившись, что только теперь его заметил.
«Что за бесенок там в окошке? Зачем он смотрит на меня?»
«Это сынишка Джона Шекспира».
«И чем же, интересно, я так перед ним провинился – что он теперь таращится на меня, не отрываясь? Космы огненные, аки у Врага человеческого. Я его боюсь!»
То, как он заслонил рукой лицо, ладонью наружу, растопырив пальцы, как он поднял брови и веки, именовалось «Ужас». Уилл расхохотался вместе с остальными, и Цезарь, вспыхнув от обиды, тут же вновь преисполнился величием и достоинством: тяжелые руки легли на стол, брови насупились.
«Давайте-ка споем что-нибудь веселое», – предложил он.
Он начал куплет со скорбной миной и так тихо и медленно, что подпевать было невозможно: теперь он стал грустным, грустным-прегрустным человеком, которому вдруг захотелось петь. Уилла уже просто трясло от смеха и удивления. Один жест, одно слово – и этот человек создавал новую личность, цельный образ, который казался образом старого знакомого, хотя таких знакомых у тебя отродясь не водилось; они словно все сидели в нем, и он сам не ведал, кто из них выглянет наружу в следующий момент.
«Эй, паренек, там, в окошке! Можешь спеть эту песню?»
«Да, я ее знаю», – сказал Уилл.
«Ну тогда спой. Вот тебе за то, что ты рыжий».
Едва заметным щелчком пальцев он метнул монетку Уиллу; тот подхватил ее на лету и запел. Жаворонок и соловей. У него был настоящий высокий, звонкий дискант, и он об этом знал; кстати, господину Дженкинсу тоже не мешает послушать; если он любит пение так же, как любил его прежний учитель, господин Саймон Хант, Уиллу полегче будет учиться в году. И розу он прижал к груди, слеза в глазах застыла. Все молча слушали, как поет мальчик в окошке; и Цезарь, мистер Джеймс Бербедж из труппы графа Лестера, загнал всех населявших его разнообразных персонажей внутрь и весь обратился в слух, а выражение лица у него было оценивающим и сосредоточенным, как у торговца мануфактурой, который пробует новую шерстяную ткань на ощупь, или у пивовара, когда тот наблюдает, как из нового бочонка льется прозрачный светло-коричневый эль.
Роузи закрыла книгу, заложив страницу пальцами; Сэм стремглав бросилась к ней, забыв про свой мячик, который подпрыгнул за ней пару раз, звездно-полосатый такой мячик, белые звезды на синем фоне в северном полушарии. Сэм притаилась за шезлонгом Роузи, поглядывая на дверь веранды.
– Идет, – сказала она.
– Правда? – засмеялась Роузи.
Сэм зачарованно смотрела, как открывается дверь и появляется ее двоюродный прадед Бони Расмуссен, как медленно он вышагивает и как внимательно глядит себе под ноги.
– Миссис Писки приготовила чай со льдом, – сказал он. Он подпер дверь стулом, чтобы она не закрывалась, и вернулся в дом.
– Вот видишь, – сказала Сэм.
– Да, – сказала Роузи. – Чай со льдом – это здорово.
Она обняла дочь. Сэм считала Бони существом диковинным и страшным, как огромное животное, этакое чудовище, передвижения которого надо было непрерывно отслеживать, а вступая в переговоры, отгораживаться от него чем-нибудь, лучше всего мамой.
– Послушай, Бони, это, конечно, очень мило с твоей стороны, но ты мог бы просто меня позвать, я и сама в состоянии принести чай.
Он вышел снова, уже с подносом, осторожно неся его обеими руками – вот для чего он подпирал дверь. Поставив поднос на большой плетеный стол, он сделал приглашающий жест рукой: стаканы, большой и маленький, лимон, сахар и тарелка с вафлями.
– Чур, тебе маленький стаканчик, – сказала Роузи дочери, подталкивая ее к столу. Бони туг же отвернулся и принялся созерцать широкие окна веранды. Он прекрасно чувствовал, какое впечатление производит на малышку Сэм, и старался – Роузи была ужасно растрогана – не особо на нее давить своим присутствием. Сэм бочком стала продвигаться к своему стакану.
– Чудесный денек, – сказал Бони в пространство. – Может, дождь пойдет.
Урод он и в самом деле был тот еще. Его темная лысая голова, усеянная коричневыми пятнами, отливала глянцевым зеленоватым налетом, как кожа ящерицы. Руки казались одетыми в перчатки из собственной кожи на пару размеров больше, с желтыми ногтями, и они все время беспокойно вздрагивали, как будто старались попасть пульсу в такт. Роузи не знала точно, сколько ему лет, но в любом случае люди столько не живут, а он при этом еще и ноги передвигает. Вообще-то он ходил довольно много и даже ездил на стареньком велосипеде по дорожкам и тропкам Аркадии. Одна из тех старых сосен, которая скрипит, но стоит, думала Рози, мир сгустился для него и стал вязким, как патока, но он терпеливо одолевает непрестанно возрастающую тяжесть. Должно быть, тяжелее смотреть со стороны, как Бони едет на велосипеде, чем ему – ехать. Или как Бони возится в саду. Или как Бони взбирается по ступенькам.
Он развернулся в ее сторону: очки с толстыми голубоватыми стеклами.
– Что ты там читаешь?
Роузи показала ему «Надкушенные яблоки».
– Интересно, – сказала она. – А это правда, что Шекспир в детстве сбежал из дома, чтобы стать актером?
Бони улыбнулся. Его вставные зубы были такими же старыми, как у большинства людей – свои собственные. Фарфор местами истерся, под ним проблескивало золото.
– Я никогда не спрашивал, где там правда, – произнес он. – Он перерыл немало книг.
– Ты ведь знал его, правда?
– Сэнди Крафта? Конечно. Да уж, мы с Сэнди были старые приятели.
– Сэнди?
– Так его все называли.
Роузи посмотрела с изнанки на бумажную обложку. Там была фотография Феллоуза Крафта: мужчина неопределенного возраста, в открытой рубашке, с кротким взглядом, подпер голову кулаком, светлая челка спадает на лоб. Тридцать лет назад? Сорок? Книга датирована 1941-м, но фотография могла быть и старше.
– Хм, – сказала она. – Он жил в Каменебойне.
– Ну, в общем, неподалеку оттуда. Да ты помнишь этот дом. Он купил его в конце тридцатых. Теперь дом принадлежит Фонду. Сэнди немного сотрудничал с Фондом. У нас есть издательские права, ты не поверишь, но они все еще приносят кое-какой доход. – Он сомкнул трясущиеся руки за спиной и посмотрел в окно. – Он был чудесный человек, мне его не хватает.
– У него остались родные?
– Ну нет, – опять усмехнулся Бони. – Сэнди и слышать не хотел о женитьбе, понимаешь, есть такие…
– Да, – сказала Роузи. – Да уж.
– …что называется, убежденный холостяк.
– Но ведь и тебя можно так назвать.
– Ну… – Он бросил на Роузи лукавый взгляд. – В зависимости от того, как произносишь эту фразу, она может означать совсем разные вещи. Не смей распускать обо мне сплетни.
Роузи рассмеялась. Ох уж эта старинная деликатность. Она знала, что у самого Бони была какая-то застарелая тайна, потаенная печаль, о которой не следовало даже упоминать, какая-то история, которая могла разрастись в грандиозный скандал, но так и не разрослась. А теперь из-за этого не бывает скандалов, теперь все свободно говорят об этом, обсуждают, дают советы. Она посмотрела на широкую подъездную дорожку возле дома. Под кленами был припаркован ее фургон, загруженный по самую крышу пожитками, которые она до сих пор так и не собралась распаковать. Бони пустил ее к себе безо всяких расспросов, как будто она просто приехала погостить, а миссис Писки, прослужившая у него экономкой лет примерно с тысячу, слушалась его и понимала с полуслова. Вот, миссис Пи, Роузи и Сэм поживут у нас немножко, как думаете, спальня на западной стороне сгодится? Там есть ванная и маленький будуарчик. Ну, мистер Расмуссен, там еще нужно проветрить, и вообще я сейчас же займусь там уборкой, хорошо, когда рядом живет молодежь. Любую горесть, думала Роузи, любую застарелую боль можно умерить, если просто ничего не объяснять, если просто хочется уехать, а почему – ты еще не придумала. Может, миссис Писки и лицемерка; конечно, она Уже успела мельком бросить взгляд на те вещи, которые Роузи привезла в дом, зримое выражение полной жизненной неразберихи, все шиворот навыворот, и Сэм смущенная и чумазенькая – безусловно, Писки есть о чем подумать; но насчет Бони Роузи была уверена: он не только ничего лишнего не сказал, но, судя по его бурной радости, ничего лишнего и не подумал.
Аркадия. Что бы она делала, если бы нельзя было приехать в Аркадию, думала она смиренно, в огромную тускло-коричневую Аркадию с большой, выстланной плитами верандой и плетеным шезлонгом, в котором можно было полежать с книжкой в блаженной прохладе, прямо как в детстве, с библиотечной книжкой, между страниц которой мелькало солнечное лето и далекие холмы; что бы она без всего этого делала? Как же, должно быть, мучаются люди, которым некуда сбежать, когда приходится сделать не самые приятные вещи, а они к этому не готовы?
– Ты заметила, – сказал Бони, увидев, что она вновь воткнулась в «Надкушенные яблоки», – как он использует кавычки вместо тире в диалогах?
– Ага, даже мешает немножко.
– Мне тоже. Трудно читать. А знаешь, зачем он так делает? Он мне как-то раз объяснил.
Сказал, что не может делать вид, будто исторические личности на самом деле говорили то, что он вкладывает в их уста, – мы же обычно берем в кавычки цитаты. На самом деле они никогда не говорили этих слов. А с помощью кавычек получается, как будто не настоящий разговор. Сэнди говорил: словно фантазируешь, грезишь о том, что они могли бы сказать или сделать. – Замерев, он медленно перевел взгляд вниз, на Сэм, которая потихоньку подходила к нему все ближе и ближе.
– Вот и все, – сказал он печально. Они с Сэм посмотрели друг на друга: она – задрав вверх свою белокурую головку, он – склонив свою, похожую на голову ящера. – Привет, Сэм.
Спасаясь от близости Бони, Сэм метнулась к матери и так с разбега бухнулась к ней на колени, что та охнула.
От удара «Надкушенные яблоки» захлопнулись, и Роузи пришлось заново искать страницу, на которой она остановилась.
Перед тем как уйти, уже взявшись за ручку двери, Бони замешкался.
– Роузи, – сказал он. – Можно тебя спросить?
– Конечно.
– Тебе ведь нужно будет посоветоваться с юристом?
– Ну, Бони…
– Я просто спросил, потому что…
– Я не знаю. Пока, наверное, в этом нет особой необходимости.
– Ты скажи мне, если нужно будет, – сказал Бони. – Я позвоню Алану Баттерману. Вот и все.
Он улыбнулся себе под нос, вышел за дверь и стал спускаться по широким низким ступеням так осторожно, словно лестница была крутая. Глядя, как он уходит, Сэм вдруг вскочила и выбежала вслед за ним раньше, чем старое пневматическое устройство успело закрыть дверь, и стада спускаться по лестнице, которая для нее тоже была слишком крутой. Бони заметил, что она пошла за ним, но не подал вида.
А ей остался раздольный денек; и пусть себе тянется подольше, и без всяких юристов, если можно. Юный Уилл шел домой по Хенли-стрит, мимо боен и рыночной площади к дверям отцовского дома, сердце его гулко билось: он собирался объявить отцу, что получил от господина Джеймса Бербеджа предложение поступить в труппу графа Лестера.
На первом этаже пропахшей кожей перчаточной мастерской никого не было. Расслышав тихие голоса в верхней комнате, Уилл поднялся туда. Полузакрытые ставни пропускали в комнату мало света, и пока глаза привыкали к полумраку после ясного августовского дня, Уилл не сразу разобрал, кто там стоит за отцовским креслом.
Его отец вытирал глаза рукавом; похоже, он только что плакал. Опять. Дальше в дверях стояла мать, спрятав руки под фартук; трудно было понять, о чем она думает, но вид у нее был встревоженный. Оказалось, мужчина, стоявший за креслом отца, высокий, с прилизанными волосами, – его бывший учитель господин Саймон Хант.
«Уилл, Уилл, – отец поманил к себе мальчика обеими руками. – Уилл, сынок. Мы только что о тебе говорили».
Теперь они все смотрели на него; в полумраке старого дома их глаза, казалось, сами собой излучали свет. Поняв все, Уилл содрогнулся, и на шее у него выступил пот. Он не подошел к отцу.
«Уилл, к нам пришел мистер Хант. Мы долго молились вместе. За тебя, за всех нас. Уилл, мистер Хант завтра отправляется в путешествие».
Уилл ничего не ответил. В последнее время он часто заставал у отца мистера Ханта, причем глаза у отца были заплаканные, они говорили приглушенными голосами о старой вере, о теперешнем печальном мироустройстве и о том, что, покуда истинная вера не вернется на эту землю, ничто не наладится. Хант и его, Уилла, отводил в сторонку и, близко придвинувшись, настоятельно и подолгу с ним разговаривал, а Уилл, оцепенев от неловкости, слушал и кивал, когда это казалось необходимым, мало что понимая из сказанного, но ощущая настойчивость Ханта почти как физическое прикосновение, которое хотелось стряхнуть с себя.
«Я уезжаю за море, Уилл, – сказал мистер Хант. – Повидать другие страны, послужить Богу. Разве это не прекрасно?»
«Куда вы едете?» – спросил Уилл.
«В Голландию. В знаменитый колледж, где люди ученые и благочестивые. И смелые. Настоящие рыцари Господни…»
Почему они разговаривают с ним так, словно он маленький ребенок, которого надо в чем-то убедить? Только мать молчит. Она словно окаменела в дверях, наполовину здесь, наполовину там, она всегда держалась так, когда отец ругал или бил детей, не смея вступиться, но и не желая принимать участие в наказании. Они ждали, Хант ждал, что он скажет, но ему нечего было сказать, кроме той новости, с которой он пришел, но теперь его новость была не ко времени, уж это-то он понимал.
«Ну-ка, сынок, подойди ко мне».
Отец произнес это сквозь слезы. Уилл неохотно приблизился к нему; Хант важно кивнул, словно все шло своим чередом. Отец приобнял сына, похлопал успокаивающе по плечу.
«Я скажу тебе, что я решил – мы с мистером Хаитом, с божьей помощью, решили: ты завтра уедешь с ним. За море. Постой-ка, послушай меня…»
Уилл стал отодвигаться от отца. Отец не отпустил его. Мальчика охватил ужас – они собирались отдать его Ханту, бесконечные нотации, голос и прикосновения Ханта на веки вечные. Только не это!
«Сынок, сынок! У тебя есть голова на плечах, соображаешь ты куда лучше, чем я. Подумай об этом, подумай. Там ты сможешь получить настоящие знания, здесь такой святой учености не сыскать. За таким сокровищем едут на край света. Послушай, ты ведь хороший, ты славный мальчик».
Заключенный в отцовские объятия, Уилл вдруг как-то не по-хорошему присмирел; его успокоила пришедшая на ум хитрость, ее как будто нашептал ему на ухо кто-то другой, куда более умудренный опытом, коварный; почувствовав, что сын перестал сопротивляться отец выпустил его. Теперь он держал его перед собой за плечи, губы улыбались сыну, а влажные глаза внимательно изучали его лицо.
«Молодец. Ты смелый парень. Ты ничего мне не скажешь?»
«Я поступлю так, как вы хотите, батюшка».
Слезы залили отцовские глаза. Уилл уговаривал себя: скажи «да», «да», просто «да», и все. Мал» закрыла лицо фартуком.
«Нужно было все хранить в тайне, – сказал Хант. – Так было нужно. Мы до последнего момента не могли тебе сказать. Из опасения злых сил мира сего».
«Да, конечно».
Он встал на колени перед Уиллом и заглянул ему в лицо.
«Какое приключение, мой мальчик. Отправимся тайком, на рассвете. Я буду рыцарь, а ты мой паж, и мы сразимся со всеми чертями, которые встанут на нашем пути. Ведь мир теперь полон ими».
«Да».
Его улыбка была еще хуже, чем обычная постная учительская мина. Уилл старательно улыбнулся в ответ.
«Да, там ведь тоже будут петь. Там будут петь так, как ты никогда не слышал, там будут представления, великолепные церкви, возведенные во славу Господа нашего. Чудесные, как в книжках. Не то что в этой ослепшей стране, где ненавидят красоту и чудесное пение. И там будет истина, Уилл. Познание истины».
Уилл отступил от него на шаг.
«На рассвете?» – спросил он.
«Да, – сказал Хант. – Я сейчас пойду все приготовлю. Не бери с собой много вещей. У тебя будет все, что нужно».
И он снова стал озабоченный и сосредоточенный, как обычно; он поднялся с колен и сел за стол, где Уилл только теперь увидел деньги – их считали – и кожаный мешочек. Его отец и Хант склонились над ними.
«Жилье в Лондоне у нас будет, – говорил Хант. – Там у меня друг. Он извещен. Но за лодку оттуда до Гринвича нужно будет заплатить».
Они разом повернулись к нему вновь, стоило ему сделать шаг в сторону.
«Я пойду соберусь», – сказал он.
«Давай, – сказал Хант и подмигнул. – Я вернусь где-то в середине ночи. Не уснешь?»
«Нет».
«Ты за ним присмотри, присмотри, – сказал Джон Шекспир жене. – Присмотри за ним».
Но он уже взлетел вверх по лестнице в свою мансарду и закрыл дверь на задвижку, раньше, чем мать успела подняться за ним следом.
Мир раскололся надвое, и он очутился на самом краю огромной пропасти.
По ту сторону были отец и Хант, они звали его к себе, и мать тоже звала. Но он не мог.
Он не чувствовал ничего, кроме того, что внезапно для самого себя оказался в опасности, и теперь нужно было только просчитать, быстро и хладнокровно, как бросить их и спасти себя; его ум работал, словно жужжали шестеренки собравшихся бить часов.
«Уилл?» – робко позвала его мать; Уилл не отвечал. Из потайной ниши в стене он достал бумагу – он обожал бумагу и старался приберечь любой попавшийся под руку чистый клочок – и рожок с чернилами. Руки его вздрагивали в такт со стуком сердца, и только усилием воли он заставил их успокоиться. Он положил бумагу на подокон ник крошечного тусклого оконца и начал писать; испортил один лист, начал другой, более спокойно; слова сами приходили ему на ум, как будто их на самом деле произносил отец – пусть не его родной отец, а некий воображаемый отец, голос которого он слышал.
Едва стемнело, он взял приготовленный матерью узелок с рубашками и штанами, маленький кошелек с монетами, который дал ему отец, и новые лайковые перчатки, которые он сам себе сделал, и отнес все это к себе в комнату: думать, молиться и ждать мистера Ханта, объяснил он родным. А решив, что брат и сестра уснули – отец внизу сосредоточенно пил вино, – он вылез через окно и спустился по стене дома при помощи приспособлений, которыми давно уже пользовался, чтобы выбираться из дома в такую вот летнюю ночь.
Мастер Джеймс Бербедж спешил убраться из города. Один актер из его труппы поссорился с местным парнем, то ли из-за бабы, то ли из-за какой-то смешной суммы денег, и деревенщине не повезло – он был при смерти. Бербедж был в бешенстве от выходки своего человека, однако не имел никакого желания дожидаться местного правосудия, ему грозил по крайней мере штраф, а то и что-нибудь похуже. В десять вечера он уже наблюдал, как последние сценические принадлежности грузят на повозку, луна светила ярко, самое время убираться подобру-поздорову, и, когда к нему подкрался этот мальчишка и дернул за рукав, Бербедж даже вскрикнул от неожиданности.
Поверил ли он записке, которую вручил ему мальчишка? Подписана отцом и заверена мистером Саймоном Хаитом. Полагая, что он будет обращаться с моим сыном, упомянутым Уильямом, справедливо и честно и обучит его актерскому ремеслу и искусству в труппе господина лорда Лестера. Мой любимый сын, жизнь и будущее которого я вверяю упомянутому мистеру Бербеджу, и так далее. А вот ни о каком жалованье не упоминалось; Бербедж знать не знал этого Джона Шекспира и не имел намерения заводить здесь знакомства; в темноте лицо рыжего было маской, маской под названием я сделал то, что от меня требовалось, и вот я здесь. Нет, мистер Бербедж не поверил этому письму ни на минуту, равно как и выражению лица мальчишки. Но магистрат поверит, подумал он, если до этого дойдет; во всяком случае, Бербеджу простят то, что он ему поверил; а он очень спешил; к тому же у бесенка ангельский голос.
«Ладно, забирайся! – сказал он, грубовато подтолкнув Уилла в повозку, но этот тычок не мог омрачить радости, которая зажглась в сердце мальчика. – Лезь на скамью.
Нет, постой, не на скамью, а вон туда, вниз. Вот так, еще ниже. Хорошо. Ну а теперь, господин Шекспир-младший, собирающийся стать актером, сидите там, пока мы не проедем Клоптонский мост, да и после не высовывайтесь. А теперь вперед! Но-о!»
И маленький обоз во главе с мистером Бербеджем верхом на лошади – остальные набились в повозки или сидели по двое на лошади, а то и шли пешком, повторяя песни и монологи (и время от времени прикладываясь к кожаной бутылочке) – выехал из Стратфорда по Клоптонскому мосту, направляясь на юг, в Лондон, а Уилл на дне повозки вертел в руках бутафорскую корону и слушал – казалось, уши его разрослись до размеров пары церковных колоколов – разговоры снаружи в ночи и не мог унять сердца, колотившегося часто и громко.
В записке, которую он оставил отцу, говорилось, что он отправился к знакомому моряку в Бристоль, чтобы там попасть на корабль, отправляющийся в Новый Свет, и попытать счастья на морской службе – или погибнуть, коль не повезет.
– Телефон, – сказала миссис Писки, высунув голову на веранду. – Вам звонят.
Роузи закрыла книгу, заложив пальцем страницу. Она поднялась с шезлонга, стараясь двигаться спокойно и неторопливо.
– Хорошо, – сказала она, вздохнула тяжко, словно ей лень было идти, на самом же деле нужно было выдохнуть неожиданно сгустившуюся в душе мглу; и в этот же самый момент на лужайке и веранде – ой, что такое творится! – тяжелые тучи, долго и мрачно висевшие в небе над в соседним графством наконец оказались прямо над головой. Поднялся ветер. Роузи пошла через мигом потемневший дом следом за миссис Писки, к телефону.
– Алло.
– Привет, Роузи.
– Привет, Майк.
Затяжная пауза, и Роузи поняла, что теперь долго-долго, может быть не на веки веков, но на такой долгий срок, что разницы все равно никакой нет, всем их разговорам судьба начинаться с этакой вот затяжной паузы.
– Во-первых, – сказал Майк. – Во-первых, ты тут оставила все Сэмовы подгузники, на ночь. Три коробки..
– Н-да.
– Заберешь их?
– По-моему, у меня еще есть парочка в дорожной сумке.
Вновь последовало молчание. Прозвучавшее «во-первых» подразумевало: мол, хочет она того или нет, а придется дожидаться продолжения. Если у него там список, она должна будет отвечать по каждому пункту, по мере поступления.
– Еще я нашел одну штуковину, – продолжил он, этакий копуша-археолог, терпеливо изучающий оставленную ей после себя кучу мусора, – похожую на зеркало заднего обзора от фургона.
– Ах это. Да. Я собиралась приклеить его, но не смогла найти эпоксидки.
– Эпоксидки?
– Джин уже один раз посадил ее на эпоксидку, только, наверное, нужно было этой самой эпоксидки не жалеть. Я думала, что у нас в ящике для инструментов есть еще, но оказалось, ничего подобного там нет.
Он рассмеялся:
– В общем, тут оно все равно без толку валяется.
На это она попросту не стала отвечать. Ждала следующего пункта в списке.
Было слышно, как он вздохнул. Знакомое вступление, готовься к обстоятельной разборке.
– Ты не собираешься сообщить мне, какие у тебя планы? – спросил он. – Если они есть.
– Ну… – Она подняла взгляд: миссис Писки возилась в буфетной, а может, только делала вид, что возится.
Роузи хорошо видела ее большое оттопыренное ухо.
– Ты что, всерьез собираешься убедить меня в том…
– Да не о чем пока говорить, Майк, – мягко сказала она. – В смысле, не сегодня. – Донесся какой-то недовольный шорох, наверное, он покачал головой, терпели во или не очень терпеливо. – Я хочу сказать… Ты был в курсе происходящего, и ничего неожиданного, черт возьми, не произошло, вот что она хотела сказать. Способность Майка начинать заново обсуждение давно решенных проблем, давно обговоренных и забытых, была неистощимой. Этакая разновидность психотерапии. Применительно к собственной драгоценной личности. Он прямо-таки расцветал в такого рода беседах, а Роузи, наоборот, увядала, начинала путаться в словах и теряла дар речи до полной немоты, даже предложения порой не могла закончить.
– Ты хотела сказать? – Он ждал. Она словно воочию увидела, как он перекладывает трубку к другому уху и усаживается поудобнее. Она так хорошо знала эту манеру Майка становиться спокойным, большим, терпеливым, источать то, что Роузи называла Ореолом Силы. Но как только она замечала этот ореол, он для нее тут же рассеивался, она оставалась вне его власти, вот потому-то сейчас она была здесь, в Аркадии, а не в Каменебойне.
– Я хотела сказать, что мне нечего тебе сказать.
– А-га.
Она вспомнила, что в руке у нее книга, а страницу она заложила пальцем, а книгу стиснула что было сил – и палец теперь занемел. Она разжала руку. Вдали раздался раскат грома, похожий на выдох облегчения. Она положила книгу, та с шелестом закрылась, Роузи поло жила руку на обложку, как раз в тот момент, когда обложка пыталась лечь на место.
– Ну и что же ты собираешься делать? – спросил он. На колу мочало, начинай сначала.
– Читать.
– Что?
– Книжку.
Под заголовком был эпиграф, цитата, из которой и был позаимствован сам заголовок: Вот юнцы, что витийствуют в театре и дерутся за надкушенные яблоки. Из «Генриха VIII».
– Роузи, честное слово, мне кажется, я заслуживаю большей откровенности. По-моему, ты считаешь, что я не понимаю твоих чувств, но…
– Ох, Майкл, перестань, пожалуйста, говори по-человечески.
Он замолчал, и за это время она приняла решение.
– Мне просто пока, в данный момент, нечего тебе сказать. Мне нечего сказать из того, что я, наверное, должна была бы тебе сказать. Честное слово. Если тебе на самом деле нужно обсудить все это прямо сейчас, можешь позвонить Аллану Баттерману.
– Кому?
– Аллану Баттерману. Он адвокат.
В доме стало темно, как ночью. Прозвучал новый властный раскат грома, миссис Писки запричитала в буфетной и включила свет.
– Думаю, ты найдешь его номер в телефонном справочнике.
Огромные массы теплого влажного воздуха перетекали из комнаты в комнату, миссис Писки суетливо бегала, закрывая окна в столовой, легкие занавески на них беспорядочно метались, как вскинутые в испуге руки.
– Слушай, Майкл, тут дождь начинается, мне надо разыскать Сэм. До свидания.
Она повесила трубку и взглянула на часы. Адвокатская контора уже, наверное, закрыта, она позвонит ему завтра утром, чтобы успеть раньше Майка. Если он вообще будет звонить.
Все хорошо, все в порядке, убеждала она себя; в общем-то она была спокойна, вот только в горле какой-то мерзкий ком.
Все в порядке, потому что всякую чушь типа я-чувствую-что-ты-думаешь, громкие надувные слова, можно теперь говорить, не задевая и не раня друг друга; но каждое обыденное слово казалось до ужаса тяжким, непроизносимым: подгузник, фургон, дом, инструменты. Сэм. Мы.
Так что пусть он разговаривает с Аланом Баттерманом, которому все равно.
Она вышла на веранду. Серые косматые тучи быстро проносились над долиной; деревья пригибались к земле, и листва осыпалась с них, как осенью. Через лужайку бежала Сэм, ветер разметал ее волосы по лицу, за ней шаркал Бони, волоча за собой ее грузовичок. Вокруг них вихрем кружились сухие, попорченные насекомыми листья.
Сдуй, унеси все это, молила Роузи; унеси лето, принеси холодную ясную погоду. Хватит с нее лета. Ей хотелось разводить огонь, спать под одеялом, хотелось ходить в свитере под голыми деревьями, хотелось холодной ясности внутри и снаружи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































