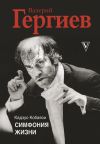Читать книгу "Маэстро и их музыка. Как работают великие дирижеры"

Автор книги: Джон Мосери
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Англичане и американцы нарекли новшество, которое впервые было опробовано с 13 по 17 августа 1876 года на мировой премьере «Кольца нибелунга» Вагнера, «the pit» – «яма». Французы назвали его «la fosse d’orchestre» – «канава для оркестра», немцы – «Orchetergraben», «могила оркестра». Итальянцы, которые изобрели оперу, нашли самый поэтичный вариант: «il golfo mistico», «таинственный залив». Но как бы ни называли оркестровую яму, она до сих пор остается на месте, и там же находится дирижер.
Глава 2. Техника дирижирования
Хотя дирижеры были призваны спасать новые симфонии и оперы в XIX веке, выступая в качестве художественных контролеров, композиторы скоро поняли, что теперь могут пойти дальше в создании новой, более сложной, музыки: ведь дирижеры всегда будут на месте, чтобы донести до музыкантов и воплотить на практике любые авторские фантазии. С каждым нововведением дирижерам приходилось оттачивать технику, чтобы на должном уровне организовывать и проводить симфоническую и оперную работу, которая порой длилась много часов и требовала огромных сил.
Как только Верди увидел, что кто-то может не просто следовать его указаниям темпа, но и настаивать на соответствии исполнения написанному (с пониманием, что позволительны определенные изменения в вокальных партиях, так называемые puntature), он добавил в нотную лексику новые элементы, которые стали частью самой структуры его музыки, а не просто способом указать на желаемые оттенки выразительности.
В первой четверти XIX века симфоническая музыка обычно исполнялась в достаточно жестко задаваемом темпе. Волнительный эффект создавался с помощью восходящих гармонических секвенций и всё более высоких нот. Внезапные аккорды замещали то, чего ожидало ухо, а новая мелодия всегда вызывала восторг и удовольствие. Все эти приемы, возникшие до эпохи дирижеров, в условиях фиксированного темпа не требовали присутствия человека, который управлял бы музыкальными процессами. Для некоторых композиторов-дирижеров, например Феликса Мендельсона, – о котором говорят, что он первым использовал дирижерскую палочку вместо смычка или бумажного свитка, – сохранение одного темпа было еще и вопросом хорошего вкуса.
Многие считали Джоаккино Россини полной противоположностью Бетховену. Он был обратной стороной музыкальной монеты для тех, кто считал музыку Бетховена тяжелой и почти непостижимой. Сегодня это трудно вообразить, но я помню, что, когда в первый раз столкнулся с «Торжественной мессой» в 1971 году в Тэнглвуде, где пел ее в хоре, я решил, что Бетховен был сумасшедшим! Я просто не мог понять, как эта музыка гармонически, мелодически и структурно перетекает от одного момента к другому.
В отличие от Бетховена, чья музыка всё больше и больше нуждалась в дирижере, Россини писал оперы, как серьезные, так и более известные комические, которые всегда были логичными с музыкальной точки зрения. Слушателя не смущала структура и направленность его гораздо более простого музыкального языка. В отличие от Бетховена, который иногда мог писать радостную музыку, Россини писал смешную музыку. Основной частью этого юмора была склонность Россини к длительным крещендо[10]10
Крещендо (итал. crescendo) – музыкальный термин, обозначающий постепенное увеличение силы звука. – Прим. ред.
[Закрыть]. Зрители в Вене, где жил Бетховен, – а какое-то время там был и Россини, – ожидали такого приема от «Сеньора Крещендо», как его стали называть. Смешки начинались с приближением одной из его фирменных шуток, обычно в финале акта. Все персонажи находились на сцене и выражали свои индивидуальные чувства, и в это время возникала очень-очень тихая повторяющаяся музыкальная фигура. Постепенно фигура становилась громче и громче, в то время как певцы продолжали излияния, пока наконец она не доходила до долгожданного фортиссимо, которое давало зрителям в точности то, чего им хотелось. Но потом лукавый Россини делал нечто еще более возмутительное: он повторял это! После короткого перехода всё возвращалось к началу, и каждый персонаж вновь принимался рассказывать о своих чувствах, один за другим, словно погружаясь в бесконечную историю. И разумеется, музыкальная фигура возвращалась в пианиссимо[11]11
Пианиссимо (итал. pianissimo) – очень тихо. – Прим. ред.
[Закрыть], а зрители уже понимали шутку. Теперь это была общая шутка, которую они делили с персонажами на сцене. Она приводила публику в восторг, и такой эффект сохраняется до сих пор.
Основное требование к крещендо у Россини состоит в том, что темп должен оставаться постоянным. Если его ускорить, эффект окажется смазан, потому что это должна быть невыносимо длинная и мастерски рассказанная шутка. Соответственно, ее можно исполнить и с дирижером, и без него. Но с появлением дирижера в музыкальном словаре возникли элементы, ранее недоступные композиторам.
Верди одним из первых использовал эти новые возможности, одна из которых, в отличие от крещендо Россини, стала называться «accelerando» («ускоряя»). Словесные указания, добавленные к системе нотации, как я уже говорил, сообщают нам очень многое о происходящем. В так называемый средний период творчества Верди, от «Риголетто» (1851) до «Аиды» (1871), мы уже видим такие слова, как «stringendo» (буквально «сжимая»), «accelerando» и «affrettando» («ускоряя»). Эти деепричастия характеризуют скорее процесс, чем внезапную перемену, и все они требуют, чтобы эффекта добился именно дирижер, потому что от оркестра и хора нельзя ожидать, что они гарантированно ускорятся или замедлятся вместе. Верди явно хотел, чтобы эти три варианта ускорения отличались друг от друга. Когда композитор осознал новые возможности, он стал вписывать в ноты те вещи, которые уже считал реальными для воплощения. В одном двадцатитактовом отрезке «Дона Карлоса» (1867) в нотах присутствуют «allegro giusto» («несколько оживленно»), «più animato» («более оживленно»), «stringendo e crescendo» («ускоряя и наращивая громкость»), «corona» (указывает на паузу неопределенной длины), «a tempo» («возвращаясь к первому темпу»), «rallentando» («замедляя») и снова «tempo».
Однако Верди остался классицистом в плане структуры и, как я говорил, делал темповые пометки, чтобы создать желаемое время и пространство для своей музыки. В прелюдии к gran finale secondo (второму гранд-финалу) «Аиды», более известному как «Триумфальная сцена», Верди дает ясное указание дирижеру начинать с allegro maestoso – «величественного» темпа с пульсом, полным достоинства, в сто ударов в минуту. На сцене звучат трубы, предвещая нечто поистине грандиозное. Спустя четыре такта оркестр вступает в mezzo forte («вполовину громкости»). Это потрясающая динамика, потому что она подразумевает некую направленность. Это не тихо, не громко. Это потенциальная энергия. Восемью тактами далее Верди указывает «crescendo e stringendo poco a poco» – «повышая громкость и сжимая [время]» – на следующие двенадцать тактов, подводя к первому выходу народа Египта, который поет «Gloria all’Egitto» («Слава Египту»). Именно в этот момент музыка вдруг возвращается к первому темпу – величественному аллегро, заданному трубами на сцене.
Десять тактов для хора, музыкантов на сцене и оркестра имеют самую громкую динамику из использованных Верди в этой партитуре, фортиссимо, и заканчиваются с пометкой «pesante e stentato» («тяжело и с силой»), после чего следует полная тишина на три доли. Как только атмосфера разряжается и аудитория приспосабливается к этой неожиданной взрывной тишине, Верди начинает заново, и (как Россини делал с техникой крещендо) последовательность повторяется, но на сей раз присоединяется хор – победивший народ. Музыка становится громче и быстрее, и всё это подводит к двухтактовому переходу, который возвращается к главному темпу. В модель Россини, таким образом, вносится радикальное изменение: теперь она строится и на повышении громкости, и на ускорении. Это полная противоположность комического финала. Вместо успокаивающей монотонности создается ощущение, что нужно спешить на важное и масштабное событие: «Торопись! Быстрее, побежали на парад! Там будет фараон… и слоны!»
Из этого примера музыкального фрагмента, который длится всего две минуты, легко увидеть, насколько сложно достичь того, о чем говорит музыка. Дирижер стоит перед оркестром из по крайней мере шестидесяти (а скорее, восьмидесяти) человек в оркестровой яме, в то время как на сцене находятся минимум шестнадцать музыкантов и восемьдесят хористов. Хор на большом расстоянии от дирижера, потому что нужно оставить место солистам, участникам парада (мимансу) и еще одному хору (эфиопам), который скоро появится. Свет приходит к нам немедленно, но звук на удивление нетороплив. Аудитории не важна физика воспринимаемой вселенной. Она хочет, чтобы все музыкальные элементы «Аиды» звучали вместе, а если этого не происходит, виноват оказывается дирижер.
Если сейчас вы решили включить запись «Аиды», хочу предупредить, что я никогда не слышал, чтобы хотя бы одна постановка соответствовала вышеописанному – ясным указаниям Верди, будь то исполнение под руководством Артура Тосканини, известного своей верностью тексту, или любых других моих современных коллег. Вводная музыка к «Триумфальной сцене» неизменно дирижируется в значительно более быстром темпе, чем сто ударов в минуту (обычно приблизительно сто двадцать шесть ударов, что соответствует «темпу марша»), и безо всяких ускорений. На это есть причины, которые мы исследуем ниже.
Мы должны держать всю оперу у себя в голове – даже если читаем партитуру – и использовать физический язык жестов, а это большая нагрузка на тело. В результате мы испытываем огромное физическое и умственное напряжение. К счастью, дирижирование – одна из немногих профессий, в которых считается, что чем ты старше, тем лучше владеешь мастерством. («Ja, – язвительно сказал великий вагнерианский бас-баритон Ханс Хоттер на вечеринке в Сан-Франциско во время репетиций “Лулу” Альбана Берга в 1989 году, – если вы можете скрыть, что абсолютно глухи! Мы подшучивали над стариком [Хансом] Кнаппертсбушем[12]12
Известный немецкий дирижер.
[Закрыть] в Байройте после войны. Мы открывали рты на такт-другой раньше, а он махал на нас, чтобы мы прекратили петь!» Впрочем, несмотря на этот физический недостаток, Кнаппертсбуш мог блестяще дирижировать. И снова мы имеем дело со странным фактом: дирижер, чья работа – управлять чрезвычайно сложными звуками, делает это блестяще и к огромному восторгу зрителей, имея очень слабый слух.)
Чтобы контролировать мощные силы в течение долгого периода времени, все мы развиваем мускулатуру плеч и рук, а еще совершенствуем навык общения без слов. Для дирижера нормально размахивать руками по шесть часов в день – а иногда и по девять. В случае с «Золотом Рейна» Вагнера проходит два часа сорок пять минут с того момента, когда вы показываете первую долгую басовую ми, и до входа богов в Вальхаллу в финале. В отличие от любого певца на сцене и, конечно, любого музыканта в оркестре, вы не останавливаетесь. (Однажды я умудрился выпить пакетик сока через соломинку во время восьми тактов, когда звучат только наковальни за сценой, но это был рискованный шаг.)
Освоить язык жестов относительно просто, однако в нем надо тренироваться. Думать здесь нельзя, а когда ум выкидывает номера, рука всегда права. Это очень похоже на мышечную память балерины. Правая рука отсчитывает время, она задает ритм, или пульсацию музыки. Она может держать палочку. Левая поворачивает страницы, подает знаки к началу или указывает на музыкантов, а также обозначает свойства нот (отрывистые, гладко соединенные, удлиненные и т. п.). Не важно, левша вы или правша: обе руки одинаково необходимы вам и должны действовать независимо друг от друга.
Конечно, можно делать и гораздо большее в зависимости от вашей спортивности и «балетности». Глядя на записи и изображения великих дирижеров прошлого, мы видим, что они были очень разными. Рихард Штраус, например, выглядит как несколько раздраженный бизнесмен, который ждет запоздавший поезд. Тосканини как будто погружен в битву с невидимым демоном: его рот всегда открыт, а губы артикулируют непонятные слова. Вильгельм Фуртвенглер, долговязый и неграциозный человек, дирижируя финальные такты Симфонии № 4 Брамса, трясет руками и головой так, будто у него вдвое больше суставов, чем у всех остальных. Все они, несомненно, были великими, и все абсолютно по-разному общались с музыкантами, не говоря ни слова. Оркестр воспринимает не только указующий перст и мимолетный взгляд. В конце концов, между людьми в основном происходит телепатическое общение.
Дирижер выражает намерения телом: глазами, сердцем (грудной клеткой), полным поворотом корпуса, руками (держа их напряженными близко к телу или широко разводя ими, словно обнимая), ладонями (поворачивая их тыльной или внутренней стороной), выражениями лица. Каждый из этих сигналов имеет свое значение и влияет на звучание музыкантов. Если дирижер обращен грудью к скрипкам, а лицо повернул в сторону солирующей трубы, в то время как указательный палец левой руки предупреждает литавры о том, что им скоро вступать, оркестр звучит совсем не так, как в случае, если тот же дирижер повернется грудью к трубе и лицом – к литаврам, а пальцем будет предупреждать скрипки. При этом не надо говорить ни слова.
Некоторые дирижеры откликаются на пульсирующие ритмы музыки, а не на направление мелодии или внутренние оттенки пьесы. Эти дирижеры (особенно молодые) порой как будто танцуют и подпрыгивают, взмахивая палочкой, в то время как другие прочно стоят на земле обеими ногами. Всё это влияет на звучание оркестра, какой бы странной ни казалась такая мысль. Оркестры умны, и чем больше они думают и чувствуют сообща, тем мудрее становятся.
Леонарда Бернстайна знали как прыгуна. Движения его бедер были эквивалентом пластики его молодого современника Элвиса Пресли. Мой брат как-то описал Бернстайна, дирижирующего «Весну священную», как «человека, который пытается застегнуть ширинку без рук». Бернстайн признавался, что ему очень не нравится, как он выглядит на кинопленке или в видеозаписи, но говорил: «Когда я делаю то, что делаю, получается звук, который я хочу услышать». С другой стороны, Пьер Монто однажды отругал молодого Андре Превина за его исступленные движения: «Еще никто не доказал мне, что чем выше прыгнешь, тем громче заиграет оркестр».
В 1980 году я сидел сбоку за кулисами, прямо за последним рядом первых скрипок, на выступлении Лос-Анджелесского филармонического оркестра, которым руководил его главный дирижер Карло Мария Джулини. Джулини был одним из самых глубоких и набожных людей, которых я знал в своей жизни. В последний год Второй мировой войны он провел девять месяцев вместе с еврейской семьей, скрываясь от фашистов в тоннеле под римским домом, где жил дядя его жены, – и это навсегда сделало его печальным и сострадательным. Он видел худшие проявления человеческой натуры и невыразимые последствия войны.
В тот вечер Джулини дирижировал Симфонию № 8 Шуберта – «Неоконченную». Сидя за скрипками, я чувствовал, что зачарован этим великим верующим человеком. В какой-то момент он повернулся к скрипкам; его печальные глаза смотрели, казалось, куда-то вдаль. Он протянул левую руку с раскрытой ладонью в знак полного смирения, почти как нищий на улице. Я до сих пор вижу это внутренним взором, потому что в тот момент прочувствовал католическое воспитание Шуберта в первый раз за свою жизнь и понял, что его музыка – борьба между ангельским и демоническим в каждом из нас. Хотя Шуберт и не окончил симфонию, у Джулини она стала завершенной. Для меня это было глубокое переживание: я понял, что дирижер властен не только переводить, но и преображать и прежде всего просвещать.
В 1971 году концертмейстер Бостонского симфонического оркестра Джозеф Силверстайн выступил перед дирижерами-стажерами в Тэнглвуде, в одном из небольших зданий, где проходят занятия. Он предельно ясно обозначил, что оркестры хотят получить от дирижеров: «Не стройте воздушных замков. Просто говорите: длиннее – короче, быстрее – медленнее, выше – ниже». Это было довольно шокирующее и бессердечное заявление. Силверстайна явно до предела утомили многочисленные маэстро, которые поэтично описывали желаемое звучание, используя метафоры и сравнения. Он был прекрасным, щедрым, творческим музыкантом, и я слышу его голос в голове каждый раз, когда разговариваю с оркестром.
Выразительность западной музыки проявляется через длину, скорость и высоту нот, но этим дело вовсе не исчерпывается. Когда Леопольд Стоковский посетил Йель в 1971 году, он репетировал с двумя студенческими оркестрами. У нас была возможность наблюдать, как восьмидесятидевятилетний маэстро строит Симфонию № 7 Бетховена, а также собственную транскрипцию Пассакалии и Фуги до минор Баха. В какой-то момент он сказал главному гобоисту: «Гобой, первые четыре такта в мажоре, следующие четыре – в миноре, измените звук. Играйте по-другому». Никаких воздушных замков, однако молодой гобоист получил важный урок, как с пониманием играть собственную мелодию под аккомпанемент, переходящий из мажора в минор. Стоковский не сказал музыканту, каким должен быть звук, и это важный момент. Он предпочел подтолкнуть его к творческому поиску.
Один из музыкантов Тосканини рассказал мне, что однажды на репетиции симфонического оркестра NBC звук выходил слишком тяжелым. Итальянский дирижер, так и не достигший беглости в английском, определенно сумел донести свою мысль. Не говоря ни слова, он залез в карман, вынул шелковый платок, подбросил его, и все увидели, как он медленно скользит в воздухе. Посмотрев на это, оркестр сыграл отрывок точно так, как хотел Тосканини.
Мы, дирижеры, можем добиться своего – или, по-другому говоря, «получить то, что считаем правильным» – словами, развивая язык жестов или как будто ничего не делая, но непонятным образом настраивая всех внутренне. Например, Герберт фон Караян напряженно слушал, что уже делает оркестр, и с закрытыми глазами лепил из него, как из глины на гончарном круге. Фриц Райнер, кажется, работал только глазами: он угрожающе смотрел на оркестрантов и совершал самые мелкие движения руками по сравнению с остальными известными дирижерами его эпохи. То, что он был одним из двух главных учителей Бернстайна (второй – Сергей Кусевицкий), подтверждает: подмастерье должен найти свой собственный стиль, ему не следует подражать волшебнику – разве что он тоже сможет научиться колдовать. «Что» сияет перед молодым человеком волшебным светом, но «как» находится благодаря собственному пути – если только ученик его достоин. Те, кто видели Райнера и Бернстайна, никогда бы не заподозрили во втором протеже первого, но так оно и было.
При всех этих различиях любого дирижера можно поставить перед любым оркестром в мире, и он проведет выступление, даже если не говорит на языке музыкантов. Это возможно, потому что каждый оркестрант в любом коллективе понимает основные правила и значения наших жестов.
В молодости мне дали возможность дирижировать оркестром города Халапа в Мексике. В программу входила Симфония № 2 Брамса. Я пожелал всем доброго утра, потом сказал: «No hablo español»[13]13
Я не говорю по-испански (исп.).
[Закрыть] и «Брамс». Тогда услышал, как музыканты передают друг другу имя композитора, превратив его в двусложное слово с гортанным «х» посередине. Я посмотрел на виолончели и контрабасы, легким взмахом подал сигнал к началу, и они стали играть симфонию. Спустя две доли я сделал следующий взмах и посмотрел на первые и вторые валторны. Они вступили на сильной доле второго такта и сыграли верные ноты с верной динамикой. Следующие пятнадцать минут мы знакомились друг с другом: я оценивал сильные и слабые стороны этого оркестра, а они оценивали меня.
Когда мы подошли к последним страницам первой части, я понимал, что надо что-нибудь сказать, – хотя бы обозначить переход ко второй части или попросить сыграть первую снова. Я решил повторить первую. «Попробуем снова», – предложил я. Тогда один из трубачей встал и сказал громким голосом: «De nuevo, por favor», а потом, к своему изумлению, я услышал что-то, похожее на болгарский, от скрипача в заднем ряду. Все согласно покивали, и мы начали сначала. На сей раз я использовал слова: английские, итальянские, немецкие, французские. Каждый раз следовало по меньшей мере два перевода. Этот оркестр состоял из мексиканцев, в основном в секции деревянных духовых, американцев из университета Индианы на медных духовых и когорты болгар или румын (точно я так и не узнал): я решил, что много лет назад в их самолете кончилось топливо по пути на концерт, они застряли в горах и просто решили остаться.
Вскоре один из американцев решил мне помочь и дал список переведенных на испанский фраз, которые я говорил, например: «Мы не вместе!» – «No estamos juntos!» (на болгарском я их так и не выучил). Однако мы могли бы выступить с этой симфонией (хотя и не очень хорошо) после первой же встречи, на которой не было сказано ни слова, – потому что музыканты понимали, что говорили мои руки, глаза и тело. Мы годами тренируем наши движения, учимся работать левой и правой рукой отдельно, делаем более широкие жесты для громкой музыки, напрягаем предплечье, чтобы обозначить сопротивление (музыканты, играющие на струнных, переводят наш знак в более длительное давление на струны), дышим так, словно пропеваем мелодические линии, – всё это нормально и понятно. Для немузыкантов, возможно, самый таинственный аспект нашей техники состоит в необходимости подавать сигнал о том, как будет звучать музыка, до того, как она зазвучит. В мозгу дирижера удерживаются сразу три «времени»: что произошло только что, что происходит сейчас и что произойдет дальше, и мы постоянно подстраиваем третье «время» на основе первых двух. Это не так удивительно, как оно звучит; то же делают водители, когда садятся за руль автомобиля, – оценивают, что нужно сделать на основе только что случившегося или происходящего. Кашель, лишний вдох солиста, удивительно красивое соло – всё это требует коррекции времени.
Наши жесты всегда на долю впереди музыки. Представьте теннисиста или бейсболиста: замаху всегда предшествует то, что дирижер называет подготовкой. Когда вы забиваете гвоздь в деревяшку, подготовка определяет, как гвоздь войдет в дерево и где он выйдет. Большая подготовка предвосхищает рывок и мощь, а малая – тонкую работу. В этом смысле дирижирование очень похоже на искусство мима. Однако время на подготовку должно точно соответствовать темпу, который нужно показать. Вот почему правая рука за время симфонии совершает тысячи движений.
Должен ли дирижер использовать палочку? Это полностью зависит от индивидуальных предпочтений. Функция палочки – продолжить руку и показывать ритм своим кончиком. Это должно походить на действие рыбака, ловящего на приманку, – в противном случае ритм окажется в районе запястья, и оркестр будет смотреть на него. Кроме того, она освобождает руку от огромного напряжения, потому что палочку можно держать очень по-разному, и это позволяет дирижеру управлять оркестром, используя все участки плеча или руки – даже просто двигая запястьем. Хорошо сбалансированная палочка может держаться на указательном пальце и управляться большим почти безо всякого усилия. А по мере того как дирижеры становятся старше, такие вещи оказываются всё более важными для них.
Композитор Жан-Батист Люлли (1632–1687), которого считают первым настоящим дирижером, пользовался предшественницей палочки – длинной тростью. Он стучал ею по полу. Эта практика отмерла, во-первых, потому, что была слишком шумной, а во-вторых, потому что Люлли умер от гангрены, проткнув себе ногу.
В XX веке главным представителем школы без палочки был Леопольд Стоковский. Это добавляло ему славы и таинственности. Считается, что он сделал такой выбор по физической причине: на заре карьеры он жаловался, что палочку держать неудобно. Впоследствии его длинные пальцы создали альтернативный «образ» и звук. У руки есть преимущество в виде широкой выразительности и недостаток в виде ограниченной длины. Из-за этого пользоваться ею в оркестровой яме опасно, в чем убедился Стоковский, когда дебютировал в Метрополитен-опере с «Турандот» в 1961 году: синхронизация между сценой и оркестровой ямой иногда нарушалась.
Пьер Булез тоже дирижировал без палочки, но в совершенно другой манере. Он использовал ребро ладони, как обладатель черного пояса в боевых искусствах, чтобы четко прорубить себе путь в музыке. Это было предельно ясно, но крайне ограничено: такая манера отлично подходила для сложной музыки, в которой выразительность создается благодаря неровным тактам и разному темпу, а не подъемам и спадам мелодических линий, как в «более простой» доавангардной европейской музыке. Стоковский же был балетмейстером пальцев, запястий и рук. Он создавал загадку и производил впечатление колдуна, который не нуждается в волшебной палочке и вытягивает звуки из оркестра, побуждая его двигаться вперед и назад, растягивая время, чтобы стереть тактовые черты, и гипнотизируя публику. Как и все известные мне великие дирижеры, он был уникален.
Свобода от палочки позволяет создавать в воздухе трехмерные формы. Для какой-то музыки это очень подходит, особенно если в ней нет повторяющегося ритма. С другой стороны, для такого способа нужна хорошая физическая форма, а еще кажется, что он создает ограничения, когда нужно управлять большими силами, особенно исполняя громкие произведения. Вот почему я дирижировал и с палочкой, и без нее.
Сэйдзи Одзава показал нам еще одну возможность. Его руки двигаются по направлению к оркестру и от него, в то время как большинство дирижеров живут в мире, где существует только верх, низ, лево и право. Да, и эти движения могут быть бесконечно тонкими и разнообразными, но Одзава научился так хорошо контролировать мускулы руки, что мог показать левым кулаком крещендо и диминуэндо невероятной силы, одновременно полностью отделив правую руку от левой части тела. Многочасовые тренировки позволили ему таким образом невероятно расширить свою технику.
В некоторых случаях дирижер не показывает сильную долю. Когда музыка хорошо известна оркестру (например, симфония Бетховена), звук может быть сформирован без обозначения тактов. Если в оркестровой музыке задан только один темп (вспомните «Болеро» Равеля), дирижер, отбивающий один и тот же ритм в течение многих тактов, становится бесполезным. Оркестр просто перестает на него смотреть. Напротив, если оркестр играет вразнобой, самый мощный инструмент воздействия – перестать отбивать метр, одновременно показывая, например красноречивым взглядом или кивком, что музыка всё еще должна продолжаться! Оркестр немедленно собирается и начинает слушать более внимательно. Как верно заметил музыкальный критик The New York Times Джеймс Эстрайх, существует «парадокс подиума»: попытка «слишком сильно всё контролировать часто приводит к утрате контроля», потому что оркестр начинает следить за взмахами палочки, а не за звуком, который в итоге производит.
Всем, кто видел, как дирижирует Герберт фон Караян, известно, что он иногда не показывал доли. Оркестры просто знали, чего он хочет. Он поощрял коллективное творчество, которое сам только контролировал. Нельзя взять и попробовать это просто так. В шестьдесят восемь лет мне удалось добиться чего-то подобного с Токийским филармоническим оркестром, которым я, кажется, вообще не дирижировал, но звучал он великолепно. Если бы я попытался сделать это в двадцать семь лет, вероятно, музыканты вообще перестали бы играть; такого эффекта можно добиться, только имея многолетний опыт. Когда Английская национальная опера (в ту пору театр «Сэдлерс-Уэллс») в начале 1970-х годов пригласила великого вокального педагога сэра Реджинальда Гудолла дирижировать цикл «Кольцо нибелунга», это вызвало сенсацию. Сэр Реджинальд считался много знающим и педантичным преподавателем вагнеровского канона. Однако его техника дирижирования была рудиментарной. Обходясь без палочки, сжав правую руку в кулак, он в основном смотрел в ноты, которые, словно большой кусок ростбифа, «нарезал» в воздухе, как сказали бы британцы. На одном из представлений «Гибели богов» он начал двигаться абстрактно и неопределенно, но оркестр не понял его и просто ждал. Тогда, как известно, сэр Реджинальд повернулся к концертмейстеру и сказал: «Вы знаете, я уже начал».
Иногда оркестр чувствует, что знает какие-то вещи лучше вас, и из чувства коллективного сопротивления не следует за вами. «Всегда стоит быть немного лучше, чем оркестр, которым вы дирижируете», – однажды сказал Георг Шолти. Однако если и оркестр, и дирижер действительно знают свое дело и у вас есть взаимное уважение, то возникает своего рода экстатическая сопричастность, и дирижеру кажется, что он почти не двигается. Конечно, это не так, просто достаточно выдоха, приглашающего жеста, легкого движения всем телом, возможно, чего-то во взгляде. Для нас такие моменты прекрасны.