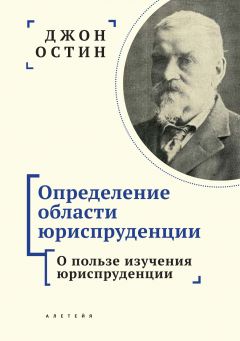
Автор книги: Джон Остин
Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Он с удовольствием наблюдал, как все меры, рекомендованные им, принимались Министерством по делам колоний, и всегда с большим удовлетворением вспоминал о своей связи с двумя людьми, к которым питал столь искреннее уважение: лордом Гленелгом и сэром Джеймсом Стивеном. Но и здесь его ожидало еще одно разочарование. После реформы таможенных пошлин (которую много лет спустя сэр Джеймс назвал "самым успешным законодательным экспериментом, который он видел в свое время") и различных частей администрации острова, г-н Льюис был отозван в Англию, чтобы председательствовать в Комитете попечения о бедных, г-н Остин готовился приступить к более характерной для него области – правовой и судебной реформе. Однако лорд Гленелг более не занимал свой пост, а его преемник неожиданно прекратил работу Комиссии. Причины этого не назывались, как и внезапное увольнение г-на Остина не сопровождалось ни единым словом признания его заслуг. Их признание осталось на долю мальтийцев[101]101
«Таков был человек, – пишет один из мальтийских журналов в статье, извещающей о его смерти, – которому мальтийцы всегда должны быть благодарны за улучшение их положения как народа и за многие привилегии, которыми они теперь пользуются, и прежде всего за свободу печати, в силу которой мы пишем сейчас. Нельзя отрицать, что жители этого острова значительно продвинулись в масштабах цивилизации, как в политическом, так и в социальном плане, и стали в большей степени британцами в гражданском политическом устройстве и институтах, благодаря мерам, принятым по рекомендации Комиссии под председательством г-на Остина».
[Закрыть].
Действительно, крайне вероятно, что состояние его здоровья сделало бы его неспособным к работе, которую он планировал. Но он часто говорил мне, что, если бы, как он предполагал, Министерство по делам колоний хотело положить конец расходам Комиссии, он продолжал бы жить на острове в уединении и скромности, пока не внес бы некое подобие порядка в разнородную массу законов, завещанных сменявшими друг друга властителями Мальты. Однако, это удача, что ему не позволили взяться за дело, для которого у него не хватало сил.
Давая это краткое описание его беспокойной жизни и расстроенных планов, я лишь хотела показать, каковы были обстоятельства, заставившие его свернуть с пути, на который он вступил, и которым были заняты весь его ум и душа, и то, почему он, казалось, оставил науку, которой посвятил свои исключительные способности с таким пылом и напряжением.
Именно этот пыл и напряжение, эта полная поглощенность своим предметом делали для него невозможным в любой момент возобновить череду мыслей, от которых он был вынужденно отвлечен. Для его природы было свойственно разбираться с вопросами с затруднениями – почти с неохотой. Казалось, он испытывал какой-то страх перед трудом и напряжением, который, однажды овладев им, подчинит его с неизбежностью. Его часто призывали писать о вопросах, которые он изучал с серьезностью, уступавшей лишь тому усердию, которое он посвятил своей собственной самобытной науке, – например, о философии, политической экономии и в целом политической науке. Как правило, он уклонялся от этих обращений, но человеку, с которым у него не было никаких недомолвок, он обычно говорил: "Я не могу так работать. Я не моту ничего делать в небрежной манере". Он прекрасно знал свою силу и свою слабость. Он мог разработать тот или иной вопрос, требующий предельного напряжения человеческих способностей, с ясностью и полнотой, с которыми редко кто мог сравниться. Но быстроты ума у него не было. Когда он отдавался исследованию, оно овладевало им, как непреодолимая страсть. Еще в 1816 году он писал мне в письме о "трудностях, которые он находил в том, чтобы обратить свои способности от любого предмета, на котором они были долго и усердно сосредоточены, к любому другому предмету". И по той же причине, когда его ум однажды ослаблял хватку предмета, он с трудом мог ее восстановить.
В ту пору, когда впервые потребовалось второе издание его книги, он, как я уже говорила, был занят общественными делами, которым он должен был посвятить все свое безраздельное внимание. К этой причине задержки теперь добавилась еще одна. Под давлением труда и беспокойства его здоровье постепенно ухудшалось. После возвращения с Мальты в 1838 году ему стало настолько хуже, что в 1840 году его друзья– медики уговорили его попробовать воды Карлсбада – как они впоследствии признались, с очень малой надеждой увидеть его снова. Однако от этих чудотворных вод он получил столько пользы, что решил вернуться туда и провел там лето 1841, 1842 и 1843 годов. В разнообразном и интересном обществе, собравшемся в этом месте, он познакомился со многими выдающимися людьми, у которых он с жадностью искал сведения о состоянии их стран. Шедшие в промежутке зимы были приятно и с пользой проведены в Дрездене и Берлине. В последней столице он нашел людей, выдающихся во всех областях науки, на некоторых из которых он уже давно смотрел как на великих мастеров своего дела, – особенно герра фон Савиньи. Тогда в Прусии политические вопросы обсуждались с большим жаром и раздражительностью. Г-н Остин изучал их с присущим ему усердием и беспристрастностью, и несколько человек, которые сами были вовлечены в дискуссии того времени, были столь поражены ясностью и справедливостью его взглядов, что убеждали его писать о делах их страны. Я обнаружила записки, свидетельствующие о том, что в свое время он обдумывал какую-то подобную работу. Именно в Дрездене он написал для "Эдинбург ревью" свой ответ на яростную критику д-ром Листом доктрины свободной торговли.
В 1844 году он переехал в Париж, привлеченный туда обществом и дружбой некоторых выдающихся людей, которые были тогда способными толкователями науки или красноречивыми защитниками свободных учреждений. Вскоре после этого он был избран Институтом членом-корреспондентом Нравственного и Политического Класса[102]102
Речь, судя по всему, идет об Институте Франции, объединившим пять национальных академий, включая Академию нравственных и политических наук. – Прим. перев.
[Закрыть] – честь, к которой он совершенно не был готов, так как не привык к публичному признанию своих заслуг. Я позаимствую слова одного прославленного друга, чтобы описать впечатление, которое он произвел на некоторые из высших умов Франции: я могла бы добавить много таких свидетельств, но свидетельства месье Гизо вполне достаточно. «C'etait un des homines les plus distingues, un des esprits les plus rares, et un des coeurs les plus nobles que j'ai connus. Quel dommage, qu'il n'ait pas su employer tout ce qu'il avait, et montrer tout ce qu'il valait!»[103]103
«Это был один из самых выдающихся людей, один из самых редких умов и одно из самых благородных сердец, которых я когда-либо знал. Как жаль, что он не сумел использовать все, что у него было, и показать все, чего он стоил!» – Прим. перев.
[Закрыть].
В том же году к нему снова обратились с настоятельным призывом опубликовать второе издание "Области юриспруденции"; приходили письма от друзей и даже от незнакомых людей, сетовавших на невозможность получить экземпляр и указывавших на постоянно растущую известность книги. Но эти хвалебные представления, которые, быть может, в прежние времена побудили бы его к новым усилиям, по– видимому, доставляли ему мало удовольствия, и он редко упоминал о них. Теперь им пришлось столкнуться с тем нежеланием, о котором я говорила, возобновить давно забытый труд, – труд, с которым было связано множество болезненных воспоминаний.
Осуществить простое переиздание книги было бы достаточно легко, и, вероятно, это то, что сделал бы любой другой, побуждаемый таким образом; но г-н Остин обнаружил в ней недостатки, ускользнувшие от критики других, и с тем требовательным вкусом и добросовестностью, которые невозможно было удовлетворить, он отказался переиздать то, что казалось ему несовершенным.
Я хорошо знала, что он долго размышлял над книгой, охватывающей гораздо более широкую область, но я боялась, что эта огромная работа никогда не будет завершена, и с радостью согласилась бы на что-то гораздо менее совершенное, чем его замыслы. Но я видела, что ничто не может поколебать его решимости, и никогда по своей воле не обращалась к этой теме. Всякий раз, когда об этом заходила речь, он говорил, что книга должна быть полностью переработана и переписана, и что должен быть, по крайней мере, еще один том. Его мнение о необходимости полного refonte[104]104
Перековка, переделка, преобразование и т. п. (фр.) – Прим. перев.
[Закрыть] его книги возникло в значительной мере из убеждения, постоянно укреплявшегося в его уме, о том, что до тех пор, пока этические понятия людей не станут более ясными и последовательными, нельзя надеяться на значительное улучшение ни в юридической или политической науке, ни, следовательно, в юридических или политических институтах.
Прилагаемый ниже проспект или объявление достаточно доказывают, что он серьезно решил выполнить огромную запланированную им работу. Я нашла только один ее экземпляр и не могла слышать о существовании другого. Я не могу посчитать, чтобы он привлек какое-либо внимание.
«Принципы и отношения юриспруденции и этики
Написанные Джоном Остином, эсквайром из Внутреннего Храма, адвокатом.
Набросок курса лекций по общей юриспруденции, которому предшествовала попытка определить область данной науки, был опубликован автором в 1832 году. Продажа всего тиража и постоянный спрос на книгу побуждают его взяться за работу, которая касается того же предмету, но сильнее углубляется в связанный с ней предмет этики. Данный предмет столь обширен, а задача его систематизации и уплотнения столь трудна, что должно пройти значительное время, прежде чем намеченный трактат будет готов к публикации.
Краткое и недвусмысленное название для задуманного трактата не предоставляется устоявшимся языком. Положительное право (или jus), положительная мораль (или mos)[105]105
Jus – (лат.) право; mos – (лат.) нравы. – Прим. перев.
[Закрыть], вместе с принципами, составляющими текст обоих, суть неразрывно связанные частями огромного органического целого. Объяснить их различную природу и представить их общие отношения – вот цель сочинения, над которым работает автор. Но положительная мораль (как она понимается во всей своей протяженности) едва ли приобрела какое-либо особое название; тем не менее один ее важный раздел стал предметом науки и называется современными авторами положительным правом народов. Для многообразно понимаемых и часто оспариваемых принципов, образующих меру или критерий положительного права и морали, в устоявшемся языке нет названия, которое обозначало бы их без многозначности. Применительно к положительному праву (надлежащему предмету юриспруденции) они именуются принципами законодательства. Что касается положительной морали, то они называются нравами или этикой; но поскольку любое из этих названий будет означать положительную мораль, а также стандарт, которому она должна соответствовать, то для рассматриваемых принципов не существует никакого современного выражения, которое обозначало бы их подходящим и отчетливым образом. Он (автор) раздумывал над тем, чтобы дать предполагаемому сочинению название «Принципы и отношения права, нравов и этики», подразумевая под правом – положительное право, под нравами – положительные нравы, а под этикой – принципы, являющиеся критериями для того и для другого. Но вследствие трудностей, которые он только что изложил, он предпочел более краткое и не более двусмысленное название, стоящее в заголовке настоящей заметки.
По причинам, раскрываемым далее, работа будет разделена на две части. Первая из них будет посвящена общей юриспруденции, и в своем изложении этой науки автор погрузится в те подробности, которые были указаны в вышеупомянутом наброске, настолько глубоко, насколько это возможно в пределах, установленных для институционного трактата. Вторая часть будет посвящена этике. Положительным нравам не будет отведено самостоятельного раздела; но поскольку они связаны с юриспруденцией и этикой, они будут отмечены в разделах, отведенных для этих предметов».
О том же намерении он объявил в письме к нынешнему главному судье Суда по общегражданским искам, товарищу по его ранним занятиям, дорогому и верному другу на каждом этапе его жизни. Только на днях сэр Уильям Эри нашел следующий фрагмент этого письма, который он любезно разрешил мне напечатать. К несчастью, часть, содержащая дату, потеряна. Она начинается с обрывка фразы, которая, должно быть, относится к одному из многочисленных к нему обращений за вторым изданием. Вероятно, им предшествовали такие слова, как:
[То, что предлагает г-н Мюррей, это] "просто ее перепечатка; но, если бы он дал мне достаточно времени (два года или около того), я бы сделал все возможное, чтобы создать нечто получше.
Теперь я всерьез займусь работой, и, если мои несчастливые звезды позволят мне немного спокойствия, я надеюсь, что из меня выйдет что-нибудь полезное.
Я намерен показать отношения положительной морали и права (mos и jus), а также того и другого к их общему стандарту или критерию; показать, что существуют принципы и различия, общие для всех систем права (или что право является предметом абстрактной науки); показать возможность и условия кодификации; показать краткую схему корпуса права, расположенного в естественном порядке; а также показать, что английское право, несмотря на его значительные особенности, может быть приведено в соответствие с этим порядком гораздо ближе, чем это кажется.
Вопросы, связанные с этой схемой, настолько многочисленны и трудны, что то, что я произведу, будет весьма несовершенным. Однако, я думаю, что этот предмет обязательно привлечет внимание еще до того, как пройдет много лет; и я полагаю, что мои предложения будут в значительной степени полезны для тех, кто, под покровом более счастливых предзнаменований, будет продолжать это исследование.
Есть моменты, по которым я должен спросить вашего совета.
Искренне ваш,
Джон Остин".
Он окончательно обосновался в Париже, когда революция 1848 года вновь вынудила его сорваться с места. Он с глубоким интересом и тревогой следил за приближением бури, которая должна была свергнуть все законное правительство во Франции, и именно на основе серьезного наблюдения за тем, что происходило в этой стране, он утвердился в своем мнении о трудности, если не невозможности, восстановления общества, которое когда-то было полностью разрушено. Это мнение, вместе с его пылкой и бескорыстной любовью к своей стране, нашло выражение в памфлете, который он опубликовал в 1859 году.
После революции в течение нескольких месяцев он оставался в Париже, наблюдая за ходом событий. По мере того, как он все более и более убеждался в том, что во Франции не следует искать длительного спокойствия и что жизнь там будет беспрестанно осложняться и отравляться неопределенностью и тревогой, он смирился с серьезными денежными потерями и вернулся в Англию, решив искать покоя в небольшом уединенном уголке в сельской местности. Он снял небольшой дом в Уэйбридже, в графстве Суррей, достаточно близко к Лондону для удобства и для редких визитов его единственного ребенка, и достаточно далеко, чтобы позволить ему наслаждаться уединением, о котором он мечтал.
Здесь он вступил в последний и самый счастливый период своей жизни, единственный период, в течение которого он был свободен от мучительных забот и постоянно повторяющихся разочарований. Жизненная битва не только закончилась, но и почти не оставила шрама. У него не было ни тщеславия, ни честолюбия, ни каких-либо желаний, кроме тех, что удовлетворял его небольшой доход. Он не жалел и не упрекал себя в собственной бедности и безвестности, резко отличавших его от успехов других людей. Он был ненасытен в погоне за знанием и истиной ради них самих; и во время долгих ежедневных прогулок, являвшихся почти единственным развлечением, которого он жаждал или которым наслаждался, его ум постоянно поддерживался в состоянии безмятежной возвышенности и гармонии видами природы, – которые он созерцал со все возрастающим наслаждением и описывал собственным счастливым и живописным языком, – и рассуждением на самые возвышенные темы, которые могут занимать ум человека. Ему не нужны были ни волнения, ни публика. Хотя он приветствовал редкие визиты своих друзей с нежной сердечностью и восхищал их энергией и очарованием своей беседы, он никогда не выражал ни малейшего желания быть в обществе. Он довольствовался тем, что изливал сокровища своих знаний, мудрости и гения на спутника, чья жизнь была (пользуясь выражением того, кто хорошо его знал) "погружена в его".
Так прошло двенадцать лет уединения, редко прерывавшегося и никогда не бывавшего утомительным или скучным. Его здоровье значительно улучшилось. Место, которое он выбрал, и образ жизни его вполне устраивали. Простота его вкусов и привычек сделала бы более эффектный и роскошный образ жизни неприятным и угнетающим для него. И все же ни одно из маленьких удовольствий или скромных удобств не ускользало от его благодарного внимания. Он любил, чтобы его окружали простые и знакомые предметы, и ничто так не радовало его в саду, как цветы, которые он собирал в детстве. Вещи новые и редкие были непривлекательны, если не неприятны его постоянной и свободной натуре. Он питал безучастную неприязнь к расходам и притязаниям и, являясь очень щедрым и совершенно равнодушным к наживе, был обыкновенно бережлив и уважал бережливость в других, как хранитель многих добродетелей.
Одно сожаление смешивалось с глубокой благодарностью, с которой относились к этой относительной свободе от страданий и заботы те, кто любил его: он не выказывал никакого желания посвятить эти годы более крепкого здоровья и спокойного досуга работе, которую он так давно планировал. Но даже это сожаление, каким бы горьким оно ни было, постепенно отступало под успокаивающим влиянием его безмятежной удовлетворенности. Неудивительно, что человек, наиболее чувствительный к огромным возможностям и силам своего ума и наиболее глубоко заинтересованный в том, чтобы их оценили, не мог решиться побудить его вернуться к давно заброшенным трудам. Страдания от болезни и от других причин преследовали его почти беспрерывно на протяжении всей ранней и средней части его жизни. И теперь, когда он обрел относительную легкость тела и ума, слава или даже полезность (для него столь долго и горячо желанные) превратились в ничто по сравнению с этими неоценимыми благами. Спокойный вечер, последовавший за таким пасмурным и ненастным днем, был слишком драгоценен, чтобы рисковать им ради репутации, к которой он был так равнодушен, или ради блага мира, которому он был так мало обязан.
Но его великодушная забота о своей стране сделала то, что не могло сделать ничто другое, и его последнее усилие было вызвано благоволением и патриотизмом.
В своем уединении он был глубоко заинтересованным наблюдателем политических событий. Он с большим беспокойством и неодобрением смотрел на различные проекты парламентской реформы, выдвинутые в последние годы его жизни, и глубоко переживал тот тяжелый удар, нанесенный ими тому уважению, которое он хотел бы испытывать к выдающимся общественным деятелям.
Будучи глубоко убежденным в недостатке больших способностей и еще большей нехватке бескорыстной любви к истине, легко вообразить себе, что он с каким-то ужасом относился ко всем планам передать дело законотворчества в руки больших масс людей. Он шаг за шагом следил за развитием великих умов, которые веками медленно и мучительно разрабатывали системы права; и проект подчинения этих высших произведений человеческого интеллекта или сложных проблем, с которыми они имеют дело, суждению и обращению необразованных масс казался ему возвратом к варварству. Он, менее всего из всех людей, мог быть ослеплен или привлечен богатством или положением, но он ценил их с точки зрения общественных начал, как предоставление их обладателям высшего образования, досуга и возможности применить это образование к общей культуре человеческого ума, особенно к сложным наукам законодательства и управления. Идея народного законодательства была для него столь же пугающей, сколь и абсурдной; и именно из-за катастрофических последствий, которые, как он был уверен, должны были порождаться ею для самого народа, он был возмущен использованием их невежества и нечеловеческим притворством уважения к их желаниям со стороны тех, чей долг – просвещать и направлять их. Долгое и точное наблюдение за другими странами и общение с их общественными деятелями научили его всей ценности учреждений этой страны и важности привычки повиноваться праву; и он был слишком пылким и искренним патриотом, чтобы без глубочайшего волнения смотреть на эти опасности. Работа лорда Грея, появившаяся в разгар дискуссий о реформе, вызвала его горячее и почтительное восхищение, и когда ему предложили написать на нее рецензию, он немедленно согласился. Памфлет, опубликованный под названием «Призыв к защите Конституции», первоначально был написан для ежеквартального журнала, но, будучи признан неподходящим, был напечатан отдельно. Его успех намного превзошел его весьма скромные ожидания и доставил ему удовлетворение от мысли, что он внес свой вклад в разгром пагубных проектов. Это была единственная награда, которую он желал.
С того момента, как он оставил борьбу с миром, в котором он был одновременно столь неравен и столь превосходен, вся горечь, возбужденная в нем леденящим равнодушием, с которым были восприняты его благородные и бескорыстные усилия, утихла. Он был невысокого мнения о людях и, следовательно, мало заботился об их одобрении. Но пока он держался в стороне от них, его сочувствие к их страданиям и тревога за их развитие никогда не ослабевали. Для себя он не желал ничего, что они могли бы дать; и он ожидал решения другого суда со смирением, но со спокойствием, которое становилось все совершеннее по мере того, как приближалось время его появления перед ним.
Если бы возвышение над всеми низменными желаниями и жалкими амбициями, приковывающими душу к Земле, если бы жизнь, не запятнанная ни одним несправедливым или недобрым поступком или мыслью, ни одной уступкой мирским или эгоистичным целям, ни одной попыткой заглушить или скрыть истину, могли оправдать безмятежное ожидание мира, в который ни одна из этих вещей не может войти, ему было бы позволено почувствовать это.
* * *
После того, как я, надеюсь, разъяснила той части публики, которая способна сочувствовать такой личности, как г-н Остин, каковы были причины, не позволившие ему – или лишившие его желания – вновь взяться за работу по перестройке и значительному расширению его книги и связать все нити, запутанные или порванные годами и событиями, заботами и болезнями, мне остается только сказать, какие материалы он оставил после себя, каковы мотивы, побудившие меня дать их миру, и как случилось, что я была вынуждена взять на себя их организацию для печати?
Я иногда сомневалась, соответствовала ли моей покорности ему публикация того, что он отказался публиковать. Я строго спрашивала себя: посвящая остаток своей жизни занятию, которое, по-видимому, в какой-то степени продолжает мое общение с ним, не потворствую ли я скорее себе, чем исполняю перед ним свой долг? Бывали также времена, когда я с горечью в сердце решала, что похороню вместе с собой все следы его трудов на благо человечества, не удостоившихся интереса и внимания. Но более спокойные мысли привели меня к заключению, что я не должна предавать плод столь тяжкого труда и столь великого ума погибели; что то, что его собственное взыскательное и требовательное суждение отвергло как несовершенное, имеет существенную ценность, которую не может разрушить ни один изъян формы или устройства; и что блага, которые он даровал бы своей стране и человечеству, все же могут поступать окольными и косвенными путями. Я убеждаю себя, что если его благородный и благожелательный дух может получать удовольствие от всего, что делается на земле, то это от знания того, что его труды действительно «полезны для тех, кто, под покровом более счастливых предзнаменований, будет продолжать исследование» предметов, имеющих столь высокое значение для человеческого счастья.
Придя таким образом к заключению, что некоторые из оставленных им рукописей должны быть переданы публике, следующим был вопрос: в какой форме и кем? Первой моей мыслью было поискать редактора, которому я могла бы доверить всю редактуру, предоставив ему полную свободу действий в отношении содержания и формы публикации. Но, как оказалось, ни одного такого человека найти не удалось, да и вряд ли удастся. Большая часть рукописи находилась в таком несовершенном и фрагментарном состоянии, что было ясно, что вся она должна быть переделана и переписана любым редактором, который стремится создать читаемую книгу, из которой он мог бы извлечь славу или прибыль. Меня встревожила мысль о том, каким изменениям может подвергнуться работа в ходе этого процесса. Можно было опасаться, что любой редактор, не обладающий самозабвенной преданностью Дюмонта, будет сознавать свою большую ответственность перед публикой, чем перед автором. Есть существенные особенности в стиле г-на Остина – ни одна из которых не была принята без зрелой мысли. У него никогда не было ни малейшей идеи сделать свой предмет популярным или легким. Он требовал от своих слушателей или читателей всей силы их внимания; и поскольку он знал, каким слабым и мимолетным может быть внимание большинства людей, он использовал все средства для того, чтобы удержать или восстановить его. Он не избегал повторений, которые, по его мнению, были необходимы для того, чтобы постоянно и отчетливо удерживать предмет в своем воображении, и с той же целью пользовался всеми книгопечатными средствами. Зная это, я пренебрегла советами некоторых из тех, с кем я более всего связана и более всего склонна считаться, сохранив многочисленные курсивы, которыми, по их мнению, искажена его книга. Будущие редакторы могут, если захотят, удалить это бельмо на глазу. Они не будут связаны почтением, которое должно руководить мною.
Не следует думать, что я считаю необходимым приводить какие-либо доказательства ценности материалов, которые я должна произвести. Но те, кто оценивает их наиболее высоко, могут с полным основанием полагать, что их следовало бы отдать в более компетентные руки. Таково было мое собственное мнение, и я определила свой путь не без тщательного обдумывания и не без совета с теми друзьями г-на Остина, на чье суждение
и попечение о славе он, как я знаю, мог бы в наибольшей степени положиться. Мнение и совет, которые я получила от всех, были, по существу, одинаковы – что все лекции должны быть опубликованы «только с такой редакцией, которая может устранить ненужные повторения», и что, учитывая запутанное и фрагментарное состояние большей части рукописи, самым надежным редактором будет человек, наиболее глубоко заинтересованный в репутации автора и, скорее всего, проявляющий терпеливую и благоговейную заботу о каждой оставленной им реликвии.
Мне нет нужды повторять выражения друзей г-на Остина, в которых они побуждали меня взяться за задачу приведения в порядок этих драгоценных материалов, равно как и предложения советов и помощи, которые заставили меня решиться на это. Один из них, говоривший с авторитетом пожизненной дружбы, сказал, просмотрев кучу разрозненных и наполовину разборчивых бумаг: "Это будет большой и тяжелый труд; но, если вы этого не сделаете, это не будет сделано никогда". Это определило мое решение.
Мне придала мужество мысль о том, что сорок лет самого близкого общения не могли оставить меня совершенно без каких-либо способов следовать за ходом мыслей, которые постоянно занимали ум, из которого мой собственный ум, как из живого источника, черпал свет и истину; угадывать наполовину выраженные значения или расшифровывать слова, неразборчивые для других. В течение всех этих лет он снисходил до того, чтобы принимать любую малую помощь, какую я могла оказать, и даже читал и беседовал со мной на темы, занимавшие его ум и по этой причине глубоко интересовавшие меня.
Определившись с дальнейшим путем следования, первое, что нужно было сделать, – это, очевидно, переиздать уже напечатанный том, который давно и с энтузиазмом требовался. В предисловии автора объясняется, в чем состоит предмет этого Тома и какова цель его издания. Я ничего не изменила, кроме места "Краткого изложения лекций", которое теперь помещено в начале, а не в конце книги. Я вставила все разрозненные заметки, которые мне удалось найти, касающиеся обдумываемых им изменений и дополнений. Некоторые из них взяты из небольшой бумаги с пометкой «Inserenda»[106]106
Подлежащее включению (лат.) – Прим. перев.
[Закрыть]. Все эти вещи, очевидно, являются просто предложениями для его собственного использования, указаниями на предмет, который он намеревался ввести или разработать.
Они вставлены, главным образом, как доказательства его рассуждений о более обширном изложении юриспруденции и смежных наук; но также, не без надежды, что некоторые из них могут послужить ориентирами для будущих исследователей того пути, которым он намеревался следовать. Переизданный ныне том включает, как говорится в предисловии автора, первые десять лекций, прочитанных в Лондонском университете, которые, хотя и были разделены на это число для их прочтения, были "в соответствии с близостью тем" сокращены им до шести[107]107
См.: Предисловие автора. Стр. XXXVII.
[Закрыть].
Все остальные лекции, прочитанные в Лондонском университете, остались ненапечатанными. Их я предлагаю опубликовать в точности так, как он их оставил. Я ничего не изменю и сделаю только те отступления, о которых упоминалось выше. Такой путь, я думаю, полностью оправдан уже приведенными мнениями. Существует также Краткий курс, прочитанный во Внутреннем Храме. Но поскольку он необходимо и в значительной мере строился на основе, пройденной в более ранних курсах, по мнению друзей, с которыми я консультировалась, он не даст материал для отдельного тома. Думается, что будет целесообразно сопоставить эти составляющие с более ранними и гораздо более многочисленными Лекциями и вставить в качестве примечаний или приложения любой материал, который в них не найден. Состояние рукописи, по-видимому, показывает, что автор намеревался объединить их с первыми или, скорее, использовать их в построении большого произведения, над которым он размышлял.
Когда г-н Остин готовил свои лекции в Лондонском университете, он подготовил набор таблиц, которые напечатал для распространения среди джентльменов своего класса. Они никогда не публиковались и не продавались, а потому были неизвестны широкой публике. И они никогда не были завершены. Между таблицами I, II и VIII, IX лежит разрыв, который уже никогда не заполнить. Но будучи прискорбно неполными, они объявлены одним выдающимся юристом "возможно, самым необыкновенным произведением его ума", и все, кто изучал их, полагают, что они свидетельствуют об удивительной оригинальности концепции, степени учености и силе рассуждения. Каждая таблица сопровождается пояснительными примечаниями большой длины. Я тешу себя слабой надеждой, что подсказки на построение некоторых из отсутствующих таблиц могут быть найдены среди различных разрозненных заметок, которые существуют[108]108
Поскольку должно пройти значительное время, прежде чем можно будет подготовить к печати новое издание этих таблиц и примечаний, некоторые экземпляры этих таблиц в их первоначальном виде были сданы на хранение г-ну Мюррею.
[Закрыть].
Природа и предмет этих таблиц описаны автором в его вступительной лекции следующими словами. Изложив причины, сделавшие вступительную лекцию в его случае бесполезной церемонией, он заключает:
"Я нахожу совершенно невозможным дать вам хотя бы малейшее представление о моем предполагаемом курсе. Как нет в этом и необходимости.









































