Текст книги "За стенами собачьего музея"
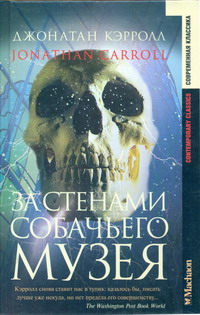
Автор книги: Джонатан Кэрролл
Жанр: Зарубежное фэнтези, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Итак, мне был брошен вызов. Я просто обязан был спроектировать Венаску такую кухню, чтобы даже у него от удивления глаза на лоб полезли. Я демонстрировал ему работы самых разных архитекторов, таких как Брюс Гофф note 42Note42
Брюс Гофф (1904-1982) – американский архитектор, обладающий, скорее, культовой, нежели широкой известностью. Как и Франк Ллойд Райт (1867-1959), под большим влиянием которого находился, формального архитектурного образования не получил. Также в раннем творчестве Гоффа заметно влияние художников Обри Бердслея (1872-1898) и Густава Климта (1862-1918), архитекторов Эриха Мендельсона (1887-1953) и Йозефа Гофмана (1870-1956). Работы Гоффа отличает эклектичность, а со второй половины пятидесятых годов – откровенная фантасмагоричность. Первый дом спроектировал в 15 лет. Основные сооружения: методистско-епископальная церковь на Бостон-авеню (Талса, Оклахома, 1926-1929), Коул-хаус (Парк-Ридж, Иллинойс, 1939-1940), Ледбеттер-хаус (Норман, Оклахома, 1947-1948), Прайс-хаус (Бартлсвилл, Оклахома, 1956-1958), Гутман-хаус (Галфпорт, Миссисипи, 1958-1960), Николь-хаус (Канзас-сити, Миссури, 1965-1967), музей японского искусства Син-Энкан (Лос-Анджелес, 1978-1988).
[Закрыть], Ричард Майер и даже Даниэль Либескинд note 43Note43
Даниэль Либескинд (р. 1946) – архитектор, радикальный де-конструктивист. Родился в Лодзи (Польша), впоследствии гражданин США. С конца восьмидесятых годов живет и работает в Германии. В 1995 г. выступил дизайнером берлинского варианта выставки «Москва – Берлин, 1900-1950 гг.» (московский вариант выставки оформлял годом позже Борис Мессерер). Едва ли не каждый проект Либескинда вызывал яростную полемику. Первым его зданием, строительство которого удалось довести к настоящему времени до конца, явился открытый в Оснабрюке (1998) мемориальный музей художника Феликса Нуссбаума (1904-1944), погибшего в Аушвице. В октябре 2000 г. должен открыться Еврейский музей в Берлине, ставший задолго до завершения строительства объектом наиболее ожесточенной полемики за всю творческую биографию Либескинда.
[Закрыть]. Показывал здания, мебель, кухонную утварь. Мне необходимо было получить хотя бы отдаленное представление о том, что ему нужно. Но помощи я ждал зря.
– Я сам не знаю, чего хочу, Гарри. Хочется обыкновенную кухню, где я мог бы готовить вкусную еду, где я и мои зверушки могли бы просто посидеть и отдохнуть…
После этого я наконец принялся за дело и нарисовал кухню. Черно-белая плитка, мебель из клена, немецкая утварь из нержавеющей стали. Несколько оригинальных идей, парочка сюрпризов. В конце концов, я остался доволен. Чего никак не скажешь о Венаске.
– Это все ерунда, Гарри. Такое годится для кого угодно. А я хочу кухню, которая была бы только моей. Готовить-то здесь предстоит мне – Венаску, а не какой-нибудь знаменитой кулинарке вроде тех, что по телевизору советы дают. Я вижу эскиз кухни Гарри Радклиффа, мистера Знаменитого Американского Архитектора. Вот только ты, похоже, совсем забыл, что это не твой дом, а мой!
Он редко сердился, но в тот момент его глаза метали молнии, словно Венаск вознамерился испепелить меня и мой проект одним взглядом. Мне даже стало немного стыдно, хотя я совершенно искренне считал, что в своей работе пытался следовать именно его вкусам.
– Знаешь что, Гарри? Дай-ка мне тысячу долларов. Выпиши чек прямо сейчас.
Я, совершенно не задумываясь, выписал чек и протянул ему. Он взглянул на бумажку, кивнул и сунул чек в карман.
– Давай договоримся: если следующая твоя работа мне опять не понравится, ты выпишешь мне еще тысячу долларов. И так каждый раз до тех пор, пока у тебя не получится. Понимаешь? Может, хоть так ты чему-нибудь научишься.
– Но, Венаск, этот эскиз я делал…
– Замолчи! Замолчи и принимайся за работу! С твоим сумасшествием покончено. Так что оправданий у тебя больше нет. И помни – с тебя по тысяче долларов за каждый раз, когда ты будешь делать эскиз не для меня, а для себя!
Я работал как одержимый паранойей студент, готовящийся к выпускному экзамену. Едва ли не сутки напролет думал только о кухнях, набросал эскизов больше, чем для сорокаэтажного «Андромеда-Центра» в Бирмингеме. И только когда полностью уверился в том, что уж на этот раз у меня получилось, решился отправиться к старику. С волнением я вручил ему эскиз, который, согласно моему твердому убеждению, непременно должен был попасть в точку.
В общем и целом, я перетаскал ему таким образом семь эскизов, вылившихся в семь чеков по тысяче долларов каждый. Однажды, выписывая чек номер шесть, я про себя подумал, что старик в итоге заработал не только бесплатный проект кухни, но и на две тысячи долларов больше, чем запросил вначале.
– Ну и повезло же мне, Гарри! – сказал Венаск, забирая тот чек. – Могу спокойно доить такого богатого и знаменитого архитектора!
Именно тогда я в первый раз осознал, что он в состоянии читать мои мысли. Это немного смутило меня, но ничуть не удивило.
Его реакция на мой седьмой набросок была особенно оригинальной. Мы как раз сидели во внутреннем дворике его дома, а свинья и пес пристроились возле нас. Он взял эскиз, мельком глянул на него, после чего бросил на землю прямо между своими любимцами.
– Ну, ребята, а вы что насчет этого думаете? Свинья шумно понюхала рисунок и снова опустила голову. Бультерьер поднялся, подошел к рисунку и начал равнодушно мочиться прямо на мое творение. Делал он это так долго, что через некоторое время моча потекла с дорогой бумаги на бетонные плиты двора.
– Какого черта ты от меня добиваешься! — не выдержал я. – Я стараюсь изо всех сил! Ну не нравится тебе ничего, я-то тут при чем?! Ты просто ни хрена не понимаешь в архитектуре.
– Гарри, если хочешь, можешь снова cпятить, только будь добр, не сволочись. Ты меня утомляешь.
Я сердито вскочил:
– Я в своем уме, Венаск. Я выкладываюсь на все сто процентов. И мне наплевать, что ты такой умный. Ты не умеешь видеть.
– Ладно, ладно, иди… Жду не дождусь очередной тысячедолларовой картинки. – Он вальяжным жестом отпустил меня и, наклонившись, начал гладить свою свинку.
После этого мы не разговаривали целых два дня. Все это время я почти не выходил из комнаты, делая эскиз за эскизом в яростном желании «ужо я докажу этому сукину сыну! «. И что же породила моя творческая ярость? Да почти ничего. Только потом я понял: скорее всего, он нарочно выводил меня из себя, чтобы проверить, способен ли я взбеситься, не лишаясь рассудка.
Еду он выносил и ставил на стол во дворе – как обычно, сэндвичи и, как всегда, просто объедение, – а сам уходил в дом. За эти два дня мы с ним сталкивались всего несколько раз в холле, и он либо подмигивал мне, либо полностью меня игнорировал – причем бесило меня и то, и другое.
О, как мне хотелось наконец попасть в точку, как жаждал я заслужить его одобрение! Далеко не всегда те, от кого мы ждем окончательного и крайне необходимого нам одобрения, – наши родные отцы. Вам очень повезло, если вы смогли распознать нужного человека. В противном случае, пол в комнатах нашей жизни постепенно покрывается пылью смятения и неудовлетворенности.
Мне повезло, но это ничуть не облегчало мою задачу. Чем спокойнее и естественнее вел себя Венаск, тем больше я бесновался. А если ему в самом деле известно нечто крайне важное для меня? Неужели мои эскизы настолько плохи, что он способен бросить мой труд на землю и позволить собаке помочиться на него?
Да нет… Все нормально, эскизы как эскизы.
Я мог бы очень долго объяснять, как пришел к этому совершенно правильному выводу, но мне предстоит еще так много рассказать, что пора двигаться дальше, пусть даже концовка сей длинной и смачной истории о Венаске выйдет несколько смятой. Думаю, он меня простит. Как-то раз, совершенно в другом контексте, он заметил:
– Будущее страшно голодно, Гарри. Высунув язык и вооружившись ножом и вилкой, оно поджидает тебя подобно великану из сказки о Джеке и бобовом стебле. «Фу-фу-фу! Чую-чую жизнь Гарри Радклиффа! «А потом – чпок». Накалывает тебя на вилку и отправляет в пасть.
– И что же мне делать? Попробовать отговорить его?
– Вовсе нет. Наоборот, учись быть съеденным. А потом, скатываясь по огромной глотке в его брюхо, учись видеть в темноте. Кое-что покажется тебе скучным, ты можешь не обращать на это внимания, но очень многое там наверняка тебя заинтересует.
В общем, я, пожалуй, задержусь на полпути вниз по великаньей глотке и расскажу, как встал из-за стола, взял первый из эскизов (сделанный семь тысяч долларов назад) и направился с ним в гостиную, где старик со своими питомцами смотрел «Полицию Майами, отдел нравов». Я подошел к дивану и протянул ему рисунок.
– Держи, Венаск. В тот раз ты ошибся. Это именно то, что нужно.
Он не глядя протянул руку, взял эскиз и, мельком взглянув на него, вернул мне.
– Хорошо. Составь перечень необходимых материалов, и я их закажу.
– Минуточку! Ты хоть разглядел, что у тебя в руках? Это же самый первый вариант! Тот самый, который ты разнес в пух и прах.
– Правильно. А сейчас все в порядке. Теперь он мне нравится.
– Но почему сейчас, а не тогда?
Тут он наконец повернул голову и посмотрел на меня:
– Потому что, показывая мне его в первый раз, ты искал лишь моего одобрения. А сейчас ты все как следует обдумал и точно знаешь: это то, что надо Ты получил одобрение от самого себя, и этого вполне достаточно. Теперь он и меня устраивает. Даже нравится… Слушай, дай я досмотрю до конца серию, а потом поговорим.
– Но как же мои семь тысяч баксов?
– На них я купил новый «домашний кинотеатр» от «Мицубиси». Телевизор с широким, здоровенным экраном, отличные деревянные колонки… в общем, последний писк.
Короче, мы закончили его новую кухню, и я снова стал нормальным человеком.
Через несколько месяцев после этого у Венаска случился удар, и старик умер. Мы с Бронз Сидни развелись, а вскоре я почти одновременно познакомился с Клэр Стенсфилд и Фанни Невилл.
Клэр была высокой и хрупкой на вид. Этакий оживший ветерок. Воздушная шатенка. Девушка с картины прерафаэлитов note 44Note44
Прерафаэлиты – течение в английской живописи середины и второй половины XIX века. На первом этапе (1848-1853) «братство прерафаэлитов» составляли молодые художники Данте Габриэль Россетти (1828-1882), Уильям Холмен Хант (1827 – 1910), Д. – Э. Миллес (1829-1896). Они провозгласили, что, дабы уйти от пошлости и рутины, искусство должно вернуться к дорафаэлевскому времени, когда религиозное чувство было искренним, а восприятие природы– непосредственным, не скованным какими-либо художественными догмами. Это была первая в европейской живописи формулировка требования стилизации, отчасти примитивизации самого художественного языка. Прерафаэлитов поддержал художественный критик Джон Рескин (1819-1900), противник индустрии, сторонник историка и философа Томаса Карлейля (1795-1881). В 1853 г. «братство» распадается, и новый этап развития движения начинается во второй половине 1850-х гг., когда с Россетти, отошедшим от религиозных сюжетов, сосредоточившимся на образах старой итальянской литературы и средневековой легенды, знакомятся Эдвард Берн-Джонс (1833-1898) и Уильям Моррис (1834-1896). Если для первого этапа было характерно акцентирование (как правило, в библейских сюжетах) душевной драмы, тщательное изображение исторического антуража и вставление цвета в детальный рисунок отдельными яркими пятнами, наподобие витража, – то на втором этапе отмечают изломанную декоративность силуэта, фантастичность красок, субъективную мистичность.
[Закрыть], в любое мгновение готовая либо взмыть к небесам, либо низвергнуться в пучину жизненных невзгод и сгинуть там.
Фанни же была воплощенным Антеем, прикованным к земле, – коренастая и сильная реалистка, не выпускающая изо рта сигар и частенько отправляющая пищу в рот пальцами; она заставила (или, запугав, вынудила) множество людей поверить в то, что она очень крутая.
Но сейчас мне не хотелось бы подробно рассказывать ни о той, ни о другой, поскольку, хотя они и составляют значительную часть моего повествования, но только не эту. Так что, вы уж простите меня, девочки, если я пока просто представлю вас, а затем открою люк в сцене и уберу вас обеих до следующего акта.
Хлоп! И нету!
Достаточно будет просто сказать, что я познакомился с ними, и они обе крайне заинтересовали меня, заставив метаться взад-вперед от одной к другой подобно маршрутному автобусу.
Самым серьезным последствием моего полу-полоумия (и последовавших за ним событий) явилось возникшее у меня абсолютное равнодушие к работе. Как раз когда я отправился в самовольную отлучку на самый левый край поля, наша фирма увязла в нескольких серьезных проектах. И хотя я довольно скоро поправился, но вернувшись в офис, я стал воспринимать эти проекты так, будто они были просто рекламой дачной мебели со спинками в виде морских коньков.
Мне хотелось просто бездельничать. Время от времени равнодушно пожимать плечами. Пить пиво, целыми днями смотреть телевизор, отстранение наблюдать как протекает мой развод… снова пожимать плечами.
Раньше меня увлекало вперед мое стомегатонное эго и не знающее границ желание во что бы то ни стало добиться успеха. А теперь… я только и мог что пожимать плечами.
Впрочем, можно взглянуть на это и так: вам когда-нибудь приходилось замечать, с каким трудом надевают пальто полные люди? Первое, что приходит в голову, – они так чертовски толсты, что никак не могут либо найти рукава, либо попасть в них руками.
Но если взглянуть на проблему под другим углом, то можно прийти к выводу, что как раз само пальто не отвечает их потребностям. И до тех самых пор, пока мне не пришлось прибегнуть к помощи Венаска, жизнь была для меня просто чересчур тесным пальто, в которое я тщетно норовил втиснуться.
Зато, после того, как он помог мне вернуться в мир нормальных людей, я в один прекрасный день вдруг понял, насколько легко мне стало надевать то же самое пальто. Само по себе это было бы, может, и неплохо, но, чем более глубокая апатия меня охватывала, тем просторнее становилась проклятая одежка (или это я съеживался?). Так продолжалось до тех пор, пока она не стала настолько громоздкой и тяжелой, что я оказался не в силах даже поднять ее, не говоря уж о том, чтобы надевать ее и носить. Не свидетельство ли это, что я тогда начал склоняться к самоубийству? Нет, поскольку потенциальные самоубийцы всегда пребывают в состоянии крайнего отчаяния, а это чувство требует слишком больших усилий.
После смерти Венаска я унаследовал бультерьера Кумпола, и некоторое время мы с ним жили вдвоем у меня в Санта-Барбаре. Но жизнь там показалась мне слишком прекрасной и одинокой, поэтому мы перебрались в Лос-Анджелес. Там я несколько раз в неделю встречался с Бронз Сидни, которая по-прежнему удерживала крепость нашего бизнеса, дожидаясь либо моего окончательного возвращения, либо окончательного ухода. Остальное время я проводил либо с Фанни, либо с Клэр, выгуливал собаку, изредка встречался с немногочисленными знакомыми, а в один прекрасный день наткнулся на небольшое стихотворение Эмили Диккинсон note 45Note45
Эмили Диккинсон (1830-1886) – выдающаяся американская поэтесса. При жизни фактически не публиковалась, но ее творчество, отличающееся метрической нерегулярностью, вольными рифмами, замысловатым ломаным синтаксисом, яркими нетрадиционными метафорами, оказало значительное влияние на поэзию XX века. Выполненное П. Киракозовым переложение поэтического фрагмента отличается рядом неточностей как формальных, так и смысловых, но тем не менее отвечает духу романа Кэрролла удачней, чем «академический» перевод Веры Марковой: Стояла Жизнь моя в углу – Забытое Ружье – Но вдруг Хозяин мой пришел – Признал: «Оно мое!»
[Закрыть], которое запало мне в душу:
Пылилась долго по углам
Заряженным ружьем
Судьба моя, то там, то сям,
На взводе боевом.
Однажды, по дому бродя,
Я встретился с судьбой,
Узнал ее и, уходя,
Унес ее с собой.
Султан стоял на лыжах.
Мне всегда хотелось начать свои мемуары как-нибудь невыносимо высокопарно, например так: «Мать рассказывала мне, что в ночь, когда я был рожден, случилось затмение (пронесся смерч, лик луны затянула пелена багровых облаков…), что не предвещало тебе, сынок, особо счастливой судьбы». Или так: «Был в моей жизни период, когда мне нравились лишь красивые женщины с плохими зубами». Воспоминания, писанные в какой-нибудь затхлой швейцарской гостинице старым пердуном, мемуары которого в целом свете не представляют интереса ни для кого, кроме него самого.
Но теперь, независимо от того, является это мемуарами или нет, я просто вынужден начать со слов «Султан стоял на лыжах», поскольку именно с этого, невзирая на мои сорок лет, семью, шамана, многочисленные события и славу, которая к этому времени уже осеняла мое чело, все по-настоящему и началось.
Султан Сару стоял перед высоким, в человеческий рост, зеркалом. Он был одет в желто-пурпурно-черный лыжный костюм из тех что, чаще всего можно увидеть на склонах Сент-Морица, на голове красовалась арабская куфия, а на ногах – пожарно-красные лыжные ботинки с пристегнутыми к ним лыжами. Учтите, речь идет о номере лос-анджелесского отеля в самый разгар летнего зноя. Войдя, я сразу заметил сидящую на одном из многочисленных диванов милую крошку Фанни Невилл.
Я подошел к ней и, плюхаясь рядом, намеренно слегка толкнул ее задом, чтобы не забывала, кто здесь главный.
– А я и не знал, что вы лыжник, сэр.
– Я очень хороший лыжник, Гарри. У нас в Сару есть просто замечательные горы. – Он повернулся к остальным присутствующим в комнате людям, которые сидели с застывшими на лицах нервными улыбками. Профессиональные улыбальщики. – Единственный недостаток наших гор в том, что в данный момент там засели наши недруги.
Улыбальщики явно не знали, как реагировать на эти слова, – их губы неуверенно прыгали вверх-вниз, как мокрое белье на веревке, до тех пор, пока босс, широко открыв уже свой рот, громко не рассмеялся. Да, ну и видок у него был – хохочущего в этом лыжном костюме. Я обвел комнату таким взглядом, будто очутился на другой планете. Фанни незаметно ущипнула меня за ногу.
– Ах, Гарри, я веселый человек. Очень-очень веселый человек. Ну конечно же, у нас есть недруги. Во главе их стоит один сумасшедший по имени Ктулу note 46Note46
Ктулу – явно не случайное совпадение (с точностью до буквы) с лавкрафтовским персонажем Ктулху, в чьем имени «х» и так, скорее, обозначает придыхание. В одноименном цикле рассказов и повестей Говарда Ф. Лавкрафта (1890-1937) Ктулху – это спящее в океанских глубинах богоподобное существо, имеющее облик дракона с клубком щупальцев на месте лица. Центром его культа назван мифический город Ирем в пустыне Руб-эль-Хали на юге Аравийского полуострова, и делались неоднократные попытки производить имя Ктулху от одного из арабских наименований Шайтана (со значением «(тот, кто) человека покидает»; см., например, Коран 25:29).
[Закрыть], который просто уверен, что править должен он. Но он всего лишь пылинка на моем рукаве. По-настоящему меня огорчает лишь то, что наши люди больше не могут кататься на лыжах в своих собственных горах, поскольку из-за Ктулу и его приспешников лыжный спорт у нас на некоторое время заглох. Просто стыд и позор. Однако, когда с этой досадной помехой будет покончено, я просто вижу, как Сару со временем становится Кицбю-элем note 47Note47
Кицбюэль – город в западной Австрии (федеральная провинция Тироль), знаменитый горнолыжный курорт в Кицбюльских Альпах. Некоторые гостиницы размещены в переоборудованных средневековых замках. Первое упоминание Кицбюэля в летописях относится к 1165 году.
[Закрыть] Среднего Востока.
А пока суд да дело, мы каждую зиму проводим какое-то время в чудесном горном австрийском городке Целль-ам-Зее в Австрии. Превосходное катание и красивейшее озеро. Никогда не доводилось там бывать? Это примерно в часе езды от Зальцбурга. Следующей зимой вы обязательно должны приехать к нам туда в гости. Кстати, в прошлом году мы прикупили там кусочек земли.
Будучи знаком с манерой султана выражаться, я понял, что «кусочек земли» это тысячи две или три акров, если вообще не целая гора.
– Из меня никудышный лыжник, Ваше Высочество.
– А какие же виды спорта вы тогда предпочитаете, Гарри?
– Чаще всего спотыкаюсь, да еще иногда впадаю в кому.
Фанни при этом прямо-таки скорчилась от смеха, но сам султан и его улыбалыщики никак не реагировали, наверное, секунд этак десять. Затем явно лишь из вежливости владыка раздвинул губы в миллиметровой улыбке. Уловив намек, вся компания тоже отпустила мне по миллиметру.
Старушка Фанни так хохотала, что даже закашлялась. Я решил не говорить ей, что эти слова принадлежат вовсе не мне, а Оскару Леванту note 48Note48
Оскар Левант (1906-1972) – известный американский пианист классического репертуара, интерпретатор Джорджа Гершвина (1898-1937), звезда Бродвея и Голливуда и крайне яркая личность вообще. Музыкальный вундеркинд, публичные выступления давал с 12 лет. В 25 лет аккомпанировал Гершвину (оркестром дирижировал Артуро Тосканини (1867-1957)). В тридцатых годах неоднократно выступал с музыкой Гершвина перед многотысячной аудиторией (вплоть до 22 тыс. слушателей). Написал много музыки для кино. Не столь известно, что писал он и академическую музыку, а в середине тридцатых годов учился композиции у самого Арнольда Шенберга (1874-1951). По окончании концертной карьеры прославился едким остроумием, выступая в различных теле– и радиопередачах. Долгое время страдал от лекарственной зависимости, часто лечился в нервных клиниках.
[Закрыть]. При возможности я никогда не стесняюсь заимствовать малую толику ума у других.
– Гарри, что мы еще можем сделать, чтобы все же убедить вас взяться за проектирование этого музея? Мне не нужен никакой другой архитектор.
– Видите ли, сэр, когда вы сделали мне это предложение в первый раз, я навел кое-какие справки. Разве, согласно мусульманским верованиям, собаки не считаются «харам»!
Температура в комнате резко упала на несколько сотен градусов.
– Да, Гарри. Это так.
Фанни пригнулась и, делая вид, что все еще не может унять кашель, шепотом спросила:
– Что еще за «харам»!
— Это значит «нечистый».
– По словам Пророка, в их слюне и дыхании есть нечто пагубное для человеческого духа.
– Тогда как же вы можете даже думать о сооружении у себя в стране собачьего музея?
– Я убежден, что просто обязан сделать это. – Он улыбнулся. – Потому что собаки трижды спасали мою жизнь в трех совершенно непохожих одна на другую ситуациях. В одном случае это могло быть и совпадением, но, когда тебя трижды спасают от смерти столь малые и жалкие существа, как собаки, Гарри, только и остается думать, что в дело вмешались весьма могущественные силы. Вы меня понимаете?
– А не могли бы вы рассказать об этих трех случаях?
– Нет, поскольку сначала я должен поведать их своему народу. Моя история найдет отражение в одном из отделов музея. А уже после этого, если остальному миру будет интересно, он тоже сможет ее узнать. В принципе, это основная причина, почему я так хочу построить этот музей.
– А проблем с местными фундаменталистами у вас не будет?
– Будут. И главная трудность именно в этом.
Даже несмотря на лыжные причиндалы султан Сару был, пожалуй, самым величественным из всех знакомых мне людей. Последнюю фразу он произнес так холодно и с таким достоинством, что меня буквально охватил трепет восхищения.
Быть в наше время правителем на Среднем Востоке равнозначно пожизненному заключению. Если отбросить в сторону цинизм, с каким обычно относятся к политикам, меня просто поражает, как эти люди на протяжении многих лет терпят бронированные автомобили, постоянное присутствие телохранителей, мирятся с невозможностью позволить себе даже искупаться в море или съесть пиццу без того, чтобы рядом не стоял кто-нибудь, сжимая пистолет и внимательно следя за малейшим вашим движением.
– Я далек от политики, Ваше Высочество. К тому же меня не слишком-то вдохновляет идея' проектировать здание, которое может послужить причиной гибели для всех нас.
Фанни перебила меня:
– Да брось ты, Гарри. Ты же построил театр Джарролда в Белфасте. Сам же рассказывал, как почти каждую ночь там что-нибудь взрывалось. Не вижу разницы.
– Разница в том, куколка, что уж больно много людей в Сару на дух не выносят собак. Не забывай о харам. А ирландцам нравится иметь свой театр в Северной Ирландии. И шансы уцелеть там были гораздо выше.
– Трус!
– Как ты меня назвала? – Трусом!
И тут земля содрогнулась.
Сила толчка была около 8. 3 по шкале Рихтера, и первое, что бросилось мне в глаза, так это голова Фанни, болтающяся вверх-вниз как у куколок на пружинках, которых обычно прикрепляют на присосках к заднему стеклу автомобиля. Я даже не сразу понял, что она вовсе не дурачится.
Я перевел взгляд с нее на султана, но тут уже вся комната заходила ходуном, и все присутствующие, в том числе и я, принялись совершать самые забавные телодвижения. Впоследствии я узнал, что в Сару землетрясения не редкость, поэтому султан и его люди поняли в чем дело гораздо раньше нас с Фанни. Султан нагнулся и высвободил ноги из лыжных ботинок, и в этот момент тряхнуло так, что он оказался на полу.
Нас с Фанни сбросило с дивана. Я едва успел вцепиться в нее, и мы кубарем покатились по полу. Весь окружающий мир наполнился лязгом и скрежетом корежащегося металла и звоном бьющегося стекла.
Я смутно слышал как вокруг кричат по-арабски. Кто-то схватил меня сзади за шиворот. Султан.
– Скорее в холл, Гарри! Держитесь подальше от окон! – Он тащил меня за собой, а я мертвой хваткой вцепился в Фанни. Тут я обратил внимание, что он бос. Босой султан в лыжном костюме в эпицентре калифорнийского землетрясения. Меня неожиданно разобрал смех. Ему же явно было не до смеха. Через распахнутую дверь мы, шатаясь, выввалились в холл.
В холле на полу лежал один из людей султана, раздавленный огромной упавшей балкой. Должно быть, он погиб каких-то несколько секунд назад, поскольку все еще судорожно стучал зубами. Это негромкое предсмертное клацанье на короткое мгновение оставалось единственным звуком, а затем на нас снова обрушился рев окружающего мира.
Сколько может длиться большое землетрясение? Секунд тридцать? Знаю одно: оно никогда не кончается тогда, когда кажется, будто все уже позади. Земная шкура, как и коровья, может, конечно на время перестать подергиваться, отгоняя нас, мух, но это ненадолго.
Стоя в холле и обнявшись в жалкой попытке хоть как-то защититься от стихии, едва все затихло, мы одновременно подняли головы и огляделись. Подозрительно переглядываясь с надеждой и страхом, мы все выше и выше поднимали головы по мере того, как все продолжительнее становилась тишина.
– Не думаю, что мы все еще в Канзасе.
– Ты в порядке, Фэн?
– Кажется, ты сломал мне шею, а так, в остальном, ничего, вот только ноги плохо слушаются. – Она сделала попытку встать, но султан схватил ее за руку и рывком вернул в прежнее положение.
– Не двигайтесь! Это еще не конец.
И точно. Последовала быстрая череда новых толчков, не менее жестоких. Нас мотало по полу, как Ахава, уцепившегося за Моби Дика.
– Когда же это, мать твою, наконец кончится! — стонала Фанни, в то время как все вокруг то и дело содрогалось, перерастая из плохого в еще худшее.
– Давайте в дверной проход! Там безопаснее всего. Здесь на полу слишком ненадежно!
В голосе султана слышались и твердость, и страх. В тот момент это было именно то, что нужно, чтобы заставить меня двигаться. К тому же он был прав – дверные проемы действительно лучшее укрытие во время землетрясения, поскольку именно они являются самыми прочными элементами конструкции здания.
Ползя на карачках к двери, я заметил, что босые царственные ступни сплошь изрезаны битым стеклом и кровоточат. После того как миновал очередной толчок, я развернулся и, добравшись до мертвого слуги, стащил с него обувь.
– Вот, наденьте! – Я протянул султану пару мягких туфель.
В противоположном конце холла послышался звон бьющегося стекла, и что-то влетело в окно. Я увидел темное пятно на чудовищной скорости приближающееся ко мне.
Уже отшвыривая туфли, я знал, точно знал, что оно обязательно угодит прямо в меня.
Не успел я даже шевельнуться, как султан прокричал что-то вроде «Кукарри!» или «Кукарис!», и прямо к моим ногам упал черный телефонный изолятор.
Земля заходилась в реве, но султан Сару и я смотрели друг на друга сквозь миллионы миль и миллионы лет тишины:
Ты только что совершил чудо.
Точно – и этим спас твою задницу.
Вот и все, что тогда промелькнуло между нами, пока окружающий мир по-прежнему отплясывал ча-ча-ча. А Фанни видела чудо? Нет. Еще кто-нибудь видел, как он спас меня? Нет, поскольку остальные его улыбальщики шныряли вокруг, пытаясь найти для нас выход раньше, чем отель «Уэствуд-Мьюз» прикажет долго жить и обрушится.
Улыбалыщик, которого, как я потом узнал, звали Джебели, пошатываясь, шел к нам, жестами показывая, чтобы мы следовали за ним. Подойдя, он что-то громко сказал по-арабски. Султан поднялся на ноги и потянул за собой Фанни.
– Там есть совершенно неповрежденная лестница.
К тому времени как мы до нее добрались, толчки снова прекратились.
– Скорее. Может быть, еще не конец.
По здравом размышлении, бежать вниз по лестнице отеля в самый разгар землетрясения наверное не самая привлекательная идея на свете, но в этом случае ты хоть что-то делаешь, и это стоит всего прочего. Действуешь, а не лежишь на полу, умирая от страха и моля Господа прекратить все это.
Лестница и впрямь выглядела почти нормально. Конечно, имели место несколько сломанных бетонных ступенек, погнутые перила в своем изяществе походили на серебристую лебединую шею – но все это ни в коей мере не могло служить препятствием для бегства. Не задумываясь ни на секунду, мы опрометью бросились вниз.
У Фанни Невилл просто восхитительная головка. А может, это и есть любовь, а? Даже грохоча вниз по растрескавшимся ступенькам ада, царящего в отеле, к наверняка еще более страшному аду внизу, я не переставал восхищаться ее совершенно умопомрачительной головкой, мелькавшей у меня перед глазами. Возможно, она чуть великовата для такой некрупной девушки, как Фанни, но поначалу этого не замечаешь. Первое, что бросается в глаза, это гладкие черные волосы, тщательно расчесанные и покрытые лаком, пухлые от природы губки, большие детские глаза…
– Стойте! Замрите!
Услышав этот приказ, Фанни, Джебели и я застыли как вкопанные. Я все еще был погружен в мысли о прелестной головке Фанни, поэтому даже не сразу сообразил, что мы остановились.
– Ладно, пошли!
Спускавшийся первым султан обернулся, и наши взгляды встретились.
– Чувствую, здесь что-то недоброе, Гарри. Землетрясения вызывают гнев мертвых. Они приносят с собой из недр земли опасные вещи. Я чувствую… – Он поднес руку ко рту как будто для того, чтобы зажать рот.
Но только не мне.
– Да наплевать нам на мертвых! Нужно выбираться, пока еще есть возможность. – Я спустился еще на несколько ступенек и взял Фанни за руку.
– Подождите!
Этажом ниже вдруг открылась дверь, и на площадку медленно вышла пара. Мужчина поднял голову и взглянул на нас.
– По этой лестнице можно идти?
Таща за собой Фанни, я двинулся вперед.
– Точно не знаю, приятель, но и останавливаться, чтобы поразмыслить об этом, не собираюсь!
– Гарри, прошу вас, остановитесь. Там джинны!
В том своем состоянии я решил, что ослышался и он имеет в виду эту пару на площадке – а именно то, что они оба в джинсах.
– Ничего удивительного, сэр, их многие носят. Давайте-ка лучше убираться отсюда!
Мужчина все еще придерживал дверь открытой, и из нее вдруг появилась собака. Собака, которая была отлично мне знакома, поскольку сегодня утром перед уходом я собственноручно ее кормил: Кумпол.
Он бросил на меня свой, как всегда, равнодушный взгляд и мотнул головой, как бы приглашая следовать за собой. Этакое ненавязчивое движение подбородком к плечу, немного в духе Хамфри Богарта note 49Note49
Хамфри Богарт (1899-1957) – знаменитый киноактер, ар-хетипический «крутой парень» американского кинематографа сороковых-пятидесятых годов, идеальное воплощение образа хладнокровного индивидуалиста. Снимался у Джона Хастона в «Мальтийском соколе» (1941; по одноименному роману Дэниела Хэмметта) и в «Сокровище Сьерра-Мадре» (1948), у Майкла Кертиса в «Касабланке» (1943), у Говарда Хоукза в «Долгом сне» (1946; по одноименному роману Раймонда Чандлера), у Эдварда Дмитрыка в «Мятеже Кейна» (1951; по одноименному роману Германа Вука).
[Закрыть], сдержанное и крутое.
– Можешь вывести нас отсюда, Кумпол?
Он еще раз окинул меня непроницаемым взглядом, развернулся и скрылся за дверью. Я двинулся за ним. Фанни испуганно стиснула мою руку.
– Куда ты, Гарри? Не собираешься же ты вернуться обратно в здание?
– Это верз! Давайте за ним, Гарри, это верз. Мужчина и девушка, стоявшие на площадке, двинулись вниз по лестнице.
– Не пойду я ни за какой собакой. Пошли, Гейл, – бросил мужчина.
Я уже двинулся вслед за псом, но все же не преминул спросить через плечо:
– А что такое верз?
Султан и Джебели почти догнали меня.
– Хранитель. Проводник.
– Откуда вы знаете?
– Видно по глазам. Скорее!
Не знаю уж, был там Кумпол верзом или нет, но я и так знал, что всякой магии в нем хоть отбавляй. Мне не раз приходилось убеждаться в этом и раньше. Именно поэтому я и обратился к нему за помощью. Ведь он был собакой шамана. Но об этом я расскажу вам чуть позже.
Не успела дверь захлопнуться за нами, как где-то прямо над нашими головами разнеслось оглушительное «буууум». Кумпол, по-прежнему не обращая ни на что внимания, беспечно трусил через холл, а за ним трусили, правда, не так беспечно, четверо людей.
Кругом царил хаос – в холле валялась переломившаяся пополам софа, коричневая обивка которой и пол вокруг были усыпаны сотнями осколков хрустальных подвесок рухнувшей с потолка люстры. Султан громко охнул. Я сразу вспомнил о его босых ногах.
Кумпол свернул налево. Невероятно, но где-то совсем неподалеку вдруг послышались забойные звуки рока. Вещь под названием «Воскресенье в небесах», знакомая до тошноты, – хит, который я слышал столько раз, что с удовольствием свернул бы ему шею. Но здесь в разгар катастрофы, надоевшая музыка казалась прекрасной и ободряющей – ангельский голос, убеждающий: держись, ты обязательно переживешь все это.
Затем нам попалось еще одно мертвое тело – детское. Черно-зелено-розовая футболка. Цвета Бенеттона. В одном из холлов по полу струилась вода, чуть дальше из-под двери яростно бил пар. Кумпол бежал то быстро, то медленно, ни разу не оглянувшись. Абсолютная уверенность. Впрочем, у нас тоже не было времени думать, правильно ли мы поступаем: нам просто необходим был верз, который вывел бы нас из здания на улицу.
Мир же снаружи, как будто внезапно получивший тяжелую оплеуху и на мгновение ошеломленно застывший, растерянно соображая, что же произошло, наконец будто опомнился и завыл от недоверия и боли. Сначала до нас донеслось что-то вроде звука противовоздушной сирены, возвещающей отбой. Затем послышались более высокие, на расстоянии похожие на пронзительный звон насекомых звуки сирен: это засуетились машины скорой помощи, пожарные и полицейские. Даже на шестом этаже отеля их завывания были слышны со всех сторон.
На четвертом этаже Кумпол привел нас в комнату с настежь распахнутой дверью. Внутри все было в идеальном порядке, если не считать открытых дверей на балкон. Ветер яростно трепал занавески.
Пес подошел к этим дверям, остановился и завилял хвостом. Почему именно здесь? Почему он остановился?
Султан прошел мимо собаки и осторожно выглянул наружу.
– Там растет дерево! Очень высокое! По нему можно спуститься.
– А зачем? Не проще ли по лестнице?
Джебели указал на Кумпола.
– Верз. Он знает что-то такое, чего не знаем мы. Пошли.
Но через мгновение они со страшным треском исчезли. Султан отпрыгнул, что-то крича по-арабски. Пес начал лаять.
– Чтоб меня… Кажется, этот путь отрезан. – Фанни повернулась и двинулась к выходу.
Кумпол, обычно весьма дружелюбный по отношению к Фанни Невилл, метнулся прочь от балконной двери и преградил ей путь, рыча и взлаивая. Вид у него был злобный, прямо звериный.
– Кум, прочь с дороги!
– Вертолет!
Рокот ротора становился все громче и громче, заглушая даже рычание пса. Что же еще должно произойти?
Джебели выбежал на балкон, взглянул на приближающийся вертолет и заорал:
– Это Халед! Мы спасены!
Когда оказываешься в эпицентре землетрясения, как-то невольно забываешь о том, с кем вместе угодил в переплет. К счастью, в данном случае с нами оказался султан – а у султанов всегда полным-полно денег, власти и любящих подданных. А кроме всего прочего, у них имеются и преданные слуги, которые, 'стоит повелителю попасть в беду, начинают разыскивать его на вертолетах.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































