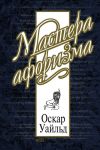Текст книги "Короткая фантастическая жизнь Оскара Вау"

Автор книги: Джуно Диас
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Два
В дремучем лесу
1982–1985
Когда наша жизнь круто меняется, это всегда происходит не так, как мы себе представляли, но совершенно по-другому.
Вот как все начинается: мать зовет тебя из ванной. И ты на всю жизнь запомнишь, что ты делала в тот самый момент: читала «Обитателей холмов»[29]29
«Обитатели холмов» – фэнтези-роман британского писателя Ричарда Адамса о невероятных приключениях героических кроликов. Роман родился из сказок, которые писатель рассказывал своим детям.
[Закрыть] – кролики с крольчихами бегут к лодке, спасаясь от фермеров, – и ты не хотела прерываться, завтра книгу надо отдать брату, но мать зовет опять, уже громче, тоном «я не шучу, мерзавка», и ты сердито бормочешь: си, сеньора.
Она стоит перед зеркалом шкафчика, где хранятся лекарства, голая по пояс, лифчик болтается на талии, словно спущенный парус, на спине рубец, широкий и волнистый, как море. Ты хочешь вернуться к книжке, притвориться, будто не слышала ее, но поздно. Ее глаза впиваются в тебя, огромные дымчатые глаза, такими же скоро станут и твои. Бен ака, подойди, командует она. Она разглядывает свою грудь с беспокойством. У матери огромнейшие груди. Одно из чудес света. Больше ты видела только в журналах с голыми девушками и у очень жирных тетенек. Размер G, помноженный на три, соски, как блюдца, и черные, как смола, а по краям топорщатся волоски, которые мать иногда выдергивает, а иногда нет. Эти груди всегда смущали тебя, и, когда ты идешь по улице с матерью, ты всегда помнишь о них. Мать гордилась своим лицом, волосами и грудью. Твой отец не мог насытиться моими бомбами, хвасталась она. Но, учитывая, что он сбежал от матери на четвертом году их брака, похоже, таки насытился.
Ты боишься общения с матерью. Это всегда односторонняя ругань. Предполагаешь, что она зовет тебя, чтобы задать очередную выволочку касательно твоей диеты. Мать считает, что тебе нужно есть поменьше бананов, иначе твои внешние данные вмиг обретут сходство с железнодорожной катастрофой. Даже в том возрасте все, глядя на тебя, говорили: мамина дочка. В двенадцать лет ты была такой же высокой, как мать, длинной голенастой девочкой-птичкой. У тебя были ее зеленые глаза (правда, немного светлее) и такие же прямые волосы, отчего ты больше походила на индуску, чем на доминиканку, и попка, которую мальчики не уставали обсуждать начиная с пятого класса и чьей привлекательности для окружающих ты пока не понимала. Темным цветом лица ты тоже пошла в мать. Но, невзирая на все одинаковости, волна наследственности пока не добралась до твоей груди. У тебя пока лишь намек на грудь; с какой стороны ни посмотри, ты плоская как доска, и ты прикидываешь про себя, не прикажет ли мать сноваотказаться от лифчиков, потому что они гнобят твои потенциальные груди, мешают им вылупиться из тебя. Ты готовишься к отчаянному сопротивлению, ведь лифчики – это твое личное достояние, как и прокладки, которые ты теперь покупаешь сама.
Но нет, мать ни слова не говорит о бананах. Молча она берет тебя за руку и подводит ее к своей груди. Мать груба во всех своих проявлениях, но сейчас она держит твою руку почти нежно. Ты и не думала, что она на такое способна.
Чувствуешь? Голос у нее, как обычно, раздраженный.
Сперва ты чувствуешь только жар ее тела и плотность тканей, они как хлеб, что не перестает подниматься. Мать вминает твои пальцы в себя. Так близко к ней ты еще никогда не была, и ты слышишь свое дыхание.
Неужели не чувствуешь?
Она поворачивается к тебе. Коньо, мучача, блин, девочка, кончай пялиться на меня, щупай.
Ты закрываешь глаза и вспоминаешь о суфражистке Хелен Келлер, о том, как в детстве ты хотела быть похожей на нее, только менее монашенкой с виду, и вдруг совершенно неожиданно ты что-то чувствуешь. Узелок под кожей, крепкий и потайной, как заговор. И в этот момент по причинам, которые до конца ты так никогда и не поймешь, тебя охватывает ощущение, предчувствие, что твоя жизнь очень скоро и во многом изменится. У тебя плывет голова, и ты чувствуешь, как пульсирует твоя кровь в четком ритме барабанной дроби. Вспышки света проносятся сквозь тебя, как фотонные торпеды, как кометы. Ты не понимаешь, почему и откуда у тебя эта уверенность, но ты знаешь, что так оно и будет. Ты вне себя от счастья. Ты всегда была немного бруха, ведьмой, даже твоя мать признавала это, пусть и сквозь зубы. Иха ди Либорио, «дитя Либорио» назвала она тебя, когда ты подсказала своей тете цифры в лотерее и они выиграли, и ты решила, что Либорио – кто-то из родственников. Но тогда ты еще не ездила в Санто-Доминго и не знала, что этого древнего целителя почитают там как святого.
Чувствую, говоришь ты чересчур громко. Ло сьенто.
Вот так все и меняется. Еще зима не кончилась, а доктора уже отрезали те груди, что ты мяла, будто тесто, а заодно удалили и лимфоузел. Из-за операции матери трудно поднимать левую руку. У нее выпадают волосы, и однажды она сама выдирает их и складывает в пластиковый пакет. Ты тоже меняешься. Не сразу, но неуклонно. И надо же, где все началось! В ванной! Ты началась.
Панкушка. Вот кем я стала. Панкушкой, обожающей Siouxsie and the Banshees.[30]30
Siouxsie and the Banshees – английская рок-группа, оказавшая немалое влияние на рок-музыку начиная с 1980-х годов. Образовавшись как панк-группа, она постепенно дрейфовала в сторону музыки куда более сложной и рафинированной. Их меланхоличные, таинственные, драматичные песни очень близки подросткам, жаждущим душераздирающего сюрреализма.
[Закрыть] Пуэрто-риканские ребята в нашем квартале каждый раз смеялись до упаду над моим причесоном, дразнили меня Блакулой[31]31
Блакула – герой одноименного фильма (1972, режиссер Уильям Крейн). В замок графа Дракулы пожаловал черный принц, которого расист Дракула тут же заточил в гроб, попутно наложив на него свое вампирское проклятье и дав имя – Блакула. Через пару веков черный вампир выберется из гроба и примется наводить ужас на всех вокруг. Этот совершенно бредовый и истерически смешной фильм – яркий представитель феномена «blaxploitation cinema», расцветшего пышным цветом в Америке 1970-х.
[Закрыть] и черномазой; они не знали, как реагировать, и часто попросту орали вслед: йо, дьяволица гребаная, йо, йо! Тетя Рубелка считала, что у меня какое-то психическое заболевание. Доченька, говорила она, жаря пирожки, может, тебе нужна помощь. Но с матерью было куда хуже. Это последняя капля, орала она. Но у нее все было последней каплей. По утрам, когда я спускалась на кухню, где мать варила себе кофе в кофеварке и слушала радио на испанском, она, увидев меня, снова принималась беситься, словно за ночь успевала забыть, как я выгляжу. Моя мать была одной из самых высоких женщин в Патерсоне, и гнев ее тоже был великаньим. Он вцеплялся в тебя длинными руками, и, если обнаружишь хоть чуть-чуть слабины, тебе конец. Ке мучача тан феа, до чего же уродливая деваха, злилась мать, выплескивая остатки кофе в раковину. Феа, уродина, стало моим новым именем. Впрочем, не совсем новым. Мать постоянно обзывала нас. Ее бы никогда не выбрали «матерью года», уж поверьте. На самом деле она была «отсутствующим» родителем: если не на работе, то спит, а когда просыпалась, казалось, она только и делала, что орала и раздавала оплеухи. В детстве мы с Оскаром боялись ее больше, чем темноты или буки. Она могла ударить нас где угодно, в присутствии других людей, лупила, не стесняясь, ремнем и шлепанцем, но рак поубавил ей сил. Последний раз, когда она попыталась наброситься на меня, поводом послужила моя прическа, но вместо того, чтобы съежиться или сбежать, я двинула ей кулаком по руке – скорее рефлекторно, но раз уж двинула, я уже не могла повернуть вспять, ни за что, и опять сжала кулаки в ожидании повторных наскоков. А вдруг она пустит в ход зубы и укусит меня, как укусила ту женщину в супермаркете. Но она лишь стояла в дурацком парике и дурацком халате, с двумя громадными поролоновыми протезами в лифчике, ее трясло, и запах горящих искусственных волос витал над нами. Мне было ее почти жалко. Так вот как ты обращаешься с матерью! – вскрикнула она. И если бы я могла, я бы высказала ей все, что у меня накопилось, прямо в лицо, но я только рявкнула в ответ: так вот как ты обращаешься с дочерью!
Воевали мы целый год. Да и могло ли быть иначе? Она была старорежимной доминиканской матерью, я – ее единственной дочкой, которую она вырастила одна, без чьей-либо помощи, и это означало, что ее долг – постоянно прижимать меня к ногтю. Мне было четырнадцать, и я жаждала обрести свой личный кусок мира, где ей не нашлось бы места. Я мечтала о жизни, как в сериале «Большая голубая жемчужина», что я смотрела в детстве, – сериале, побудившем меня заводить друзей по переписке и приносить домой школьные атласы. О жизни, что существовала за пределами Патерсона, за пределами моей семьи, за пределами испанского языка. И, когда мать заболела, я поняла, что у меня появился шанс, и я не собираюсь ни лицемерить, ни извиняться – я ухватилась за этот шанс. Если вы росли не в такой семье, как моя, то вы не в курсе, а если вы не в курсе, то, вероятно, вам не стоит судить меня. Вы и понятия не имеете, сколь крепко держат нас за шкирку наши матери, даже те, кого никогда не бывает дома, – особенно они. Не знаете, каково это – быть идеальной доминиканской дочерью, или, проще говоря, идеальной доминиканской рабыней. Вы не знаете, что такое мать, за всю жизнь не сказавшая ничего хорошего ни о своих детях, ни об окружающем мире; вечно подозрительная, она то и дело топчет тебя и разбивает твои мечты в пух и прах. Когда Томоко, моя подруга по переписке, на третьем письме прекратила мне отвечать, мать откровенно веселилась: а ты уже вообразила, что кто-то будет тратить время на переписку с тобой? Конечно, я плакала; мне было восемь, и у меня уже созрел план: Томоко и ее родители удочерят меня. А мать, конечно, видела меня насквозь и догадывалась, о чем я мечтаю, поэтому и смеялась. Я бы тоже не стала тебе писать, сказала она. Она была той матерью, что заставляет ребенка сомневаться в себе, и дай ей волю, она бы уничтожила твою личность. Но и приукрашивать свои подвиги я тоже не собираюсь. Очень долго я позволяла ей говорить все что в голову взбредет, и хуже того, очень долго я ей верила. Я была феа, уродиной, я была никчемной, я была идиота. Я верила ей с двух до тринадцати лет, и, пока я ей верила, я была идеальной дочерью. Готовила, убирала, стирала, покупала продукты, писала письма в банк с объяснениями, почему мы опаздываем с выплатами за дом, служила переводчиком. В классе я училась лучше всех. Со мной не было хлопот, даже когда черные девчонки гонялись за мной с ножницами: мои невероятно прямые волосы были им поперек горла. Я сидела дома и следила, чтобы Оскар поел и чтобы в целом был порядок, пока мать работала. Я растила брата и растила себя. Все было на мне. Та к полагается, так заведено, говорила мать, ты ведь моя дочь. Мне было восемь, когда случилось то, что случилось, и в конце концов я рассказала ей, что он со мной сделал; она велела мне заткнуться и прекратить реветь, и я в точности исполнила приказ: заткнулась, стиснула ноги и чувства и уже через год не смогла бы описать, как выглядел тот сосед, или припомнить, как его звали. Тебе бы только жаловаться, говорила мать, хотя ты и знать не знаешь, что такое жизнь на самом деле. Си, сеньора. Я поверила ей, когда в шестом классе она разрешила мне пойти в поход с ночевкой на Медвежью гору; я купила рюкзак на свои деньги, заработанные на доставке газет, и принялась писать записки Бобби Сантосу, потому что он грозился вломиться в мою палатку и поцеловать меня на глазах у всех, но утром того дня, когда мы должны были отправиться, мать заявила, что я никуда не еду. Но ты же обещала, сказала я. Мучача дель диабло, ответила она, дьявольское ты отродье, ничего я не обещала. Я не швырнула в нее рюкзаком и не выплакала себе глаза, а когда узнала, что в итоге вместо меня с Бобби Сантосом целовалась Лора Саенц, я тоже промолчала. Просто лежала в своей комнате с дурацким плюшевым медвежонком в обнимку и тихонько пела, воображая, как убегу из дома, когда вырасту. Куда убегу? В Японию, наверное, где разыщу Томоко, или в Австрию, где мое пение вдохновит продюсеров на римейк «Звуков музыки».[32]32
«Звуки музыки» – мюзикл, экранизированный в 1965 году Робертом Уайзом, с Джули Эндрюс в главной роли, действие развивается в австрийском Зальцбурге.
[Закрыть] Все мои любимые книги той поры были про побег. «Обитатели холмов», «Невероятное путешествие», «Моя сторона горы»,[33]33
«Невероятное путешествие» (1904) – научно-фантастическая и очень изобретательная комедия Жоржа Мельеса по мотивам книг Жюля Верна. «Моя сторона горы» – приключенческий фильм (1969, режиссер Джеймс Б. Кларк) о 13-м Сэме, который, обидевшись на родителей и под влиянием прочитанной книги Генри Торо «Уолден, или Жизнь в лесу», решает удалиться от цивилизации, жить в одиночестве, слившись с природой.
[Закрыть] а когда Бон Джови спел «Беглеца»,[34]34
«Беглец» – первый хит Джона Бон Джови и его группы, песня о девчонке-подростке, которую не понимает весь мир.
[Закрыть] мне казалось, что эта песня про меня. Никто и не подозревал, что творится в моей голове. Я была самой высокой и самой пришибленной девочкой в классе, той, что каждый Хэллоуин наряжается Чудо-женщиной из комиксов и никогда «не выступает». Люди видели меня в очках, в одежде с чужого плеча и не представляли, на что я способна. И когда в двенадцать лет я испытала то пугающее колдовское предчувствие, а моя мать почти сразу же попала в больницу, лихость, что таилась во мне всегда и которую я задавливала домашними обязанностями, уроками и перспективой делать все, что захочу, когда поступлю в колледж, эта дикая лихость вырвалась наружу. Я не могла ей сопротивляться. Пыталась обуздать, но она находила лазейки. И ощущалась не столько как внутреннее состояние, сколько как послание, гулкое, призывное, – так звонит колокол: стань другой, стань другой, другой.
Перемена произошла не за одну ночь. Да, лихость жила во мне, да, она заставила мое сердце биться быстрее, да, она плясала вокруг меня, когда я шла по улице, и с ее подачи я научилась смотреть парням прямо в лицо, когда они пялились на меня, и да, по ее милости мой смех из вежливого покашливания превратился в затяжную горячку, но мне все еще было страшно. Как я могу перестать существовать? Я была дочерью своей матери. Хватка, с какой она меня держала, была сильнее, чем любовь. И вдруг… Однажды я шла домой с Карен Сепеда, моей тогдашней как бы подружкой. Карен подалась в готы, и у нее отлично получалось: она лохматила волосы а-ля Роберт Смит,[35]35
Роберт Смит – рок-музыкант, лидер группы The Cure, помимо замечательных песен известный своей прической – торчащими во все стороны прямыми волосами.
[Закрыть] одевалась только в черное, а цветом лица смахивала на привидение. Идти с ней рядом по улицам Патерсона было все равно что прогуливаться с бородатой женщиной. Все пялились, и это пугало; наверное, страх и послужил причиной.
Мы топали по Главной улице, все лупили на нас глаза, и вдруг, ни с того ни с сего, я сказала: Карен, отрежь мне волосы. Стоило мне это произнести, как меня захлестнуло знакомое чувство – кровь заклокотала в моих жилах. Карен приподняла бровь: а что скажет твоя мама? Понимаете, не только я, все боялись Бели́сии де Леон.
Да хер с ней, ответила я.
Карен посмотрела на меня как на дурочку – прежде я никогда не ругалась, но вместе со мной менялась моя речь. На следующий день мы заперлись у нее в ванной; внизу, в гостиной, орали ее отец с дядьями – по телику показывали футбольный матч. Я долго смотрела на девочку в зеркале и чувствовала лишь одно: я больше не хочу ее видеть, никогда. Я вложила ножницы в ладонь Карен и водила ее рукой до тех пор, пока мы не закончили.
– Выходит, ты теперь панк? – неуверенно спросила Карен.
– Да, – сказала я.
Еще через день мать швырнула в меня париком. Будешь это носить. Будешь носить каждый день. И если я увижу тебя без парика, убью!
Не говоря ни слова, я поднесла парик к горелке.
Прекрати, взвилась мать, когда над горелкой поднялось пламя. Не смей…
Парик вспыхнул, как бензин, как глупая надежда, и не швырни я его в раковину, мне опалило бы руку. Вонища стояла жуткая, все химикалии на всех заводах в Элизабет и те не так смердят.
Тогда это и случилось: она влепила мне пощечину, а я ударила ее по руке, и она отдернула руку, словно обжегшись.
Разумеется, все сочли, что хуже меня дочери нет. Тетка и соседи в один голос твердили: иха, она – твоя мать, она умирает; но я не слушала. Когда я остановила ее руку, передо мной распахнулась дверь. Я вошла в нее, и назад ходу уже не было.
Боже, как мы бились! Больная или нет, умирающая или нет, моя мать не собиралась легко сдаваться. Чем-чем, а тряпкой она не была. Я видела, как она била взрослых мужчин, отпихивала белых полицейских, так что они падали на задницы, руганью и проклятьями затыкала рты целой кучке скандалистов. Она растила меня и брата одна, работала на трех работах, пока не скопила на дом, в котором мы живем, выстояла, когда ее бросил муж, одна приехала в Америку, никого здесь не зная, а однажды в юности, рассказывала она, ее избили, подожгли и бросили умирать. Отпустить меня без боя? Как же. Говнючка, за модой погналась? – говорила она. Думаешь, ты вся из себя, но ты – нада, ничтожество. Она глубоко копала, выискивая мои слабые места, но я не поддавалась. Ну уж нет. Чувство, что моя жизнь ждет меня на другом берегу, делало меня бесстрашной. Когда она выбрасывала мои плакаты с группами The Smiths и The Sisters Of Mercy[36]36
Британские рок-группы The Smiths и The Sisters Of Mercy – одни из самых важных альтернативных рок-групп 1980-х. Если The Sisters Of Mercy во главе со своим лидером Моррисси во многом сформировали брит-поп, то «Сестры милосердия» ответственны за появление готического рока.
[Закрыть] – аки йо но кьеро мариконес, я не потерплю здесь пидоров, – я покупала новые такие же. Когда она пригрозила изорвать мои новые шмотки, я стала хранить их в школьном шкафчике и дома у Карен. Она велела мне уволиться из греческого кафе, и я сказала хозяину, что из-за химиотерапии у моей матери мутится в голове, и когда она позвонила предупредить, что я больше не выйду на работу, он просто передал трубку мне, а потом смущенно поглядывал на посетителей, пока я ругалась с ней по телефону. Когда она сменила замки, не дав мне ключей, – я начала возвращаться домой поздно, тусовалась в клубе «Лаймлайт», ведь хотя мне было всего четырнадцать, но выглядела я на двадцать пять, – я стучалась в окно Оскара и он впускал меня, трясясь от страха, потому что утром мать принималась метаться по дому с воплями: кто, черт побери, впустил эту иха де ла гран пута, эту сукину дочь, проститутку? Кто? Кто? И Оскар, сидя за столом, накрытым для завтрака, бормотал, заикаясь: не знаю, мами, не знаю.
Ее яростью, как застоявшимся табачным дымом, пропах весь дом. Эта ярость пропитала наши волосы и нашу еду, она была сродни радиоактивным осадкам, о которых нам рассказывали в школе, тем, что падают мягко, словно снег. Брат не знал, как ему себя вести. Он прятался у себя в комнате, но иногда неуклюже пытался выяснить у меня, что происходит. Ничего. Лола, мне ты можешь сказать, упрашивал он, а я лишь смеялась в ответ. Тебе нужно похудеть, говорила я.
К матери я старалась не приближаться. По большей части она только смотрела на меня ненавидящим, ядовитым взглядом, но, случалось, внезапно хватала меня за горло и держала, пока я не отцеплю ее пальцы от моей шеи. Если она и обращалась ко мне, то лишь со смертельными угрозами. Когда ты повзрослеешь, я подкараулю тебя в темной аллее и убью, и никто не узнает, что это я сделала! Она буквально смаковала эту идею.
Сумасшедшая, говорила я.
На себя посмотри, а меня не трогай! – кричала мать, а потом опускалась на стул, чтобы отдышаться.
Все было плохо, но никто не мог предположить, что случится потом. Хотя, если подумать, это было очевидно.
Всю жизнь я твердила себе, что однажды я просто исчезну.
И однажды я исчезла.
Я сбежала из-за парня, как бы.
Ну что о нем сказать? Он был таким же, как все молодые ребята, красивым зеленым юнцом, и, как насекомое, не мог усидеть на месте. Ун бланкито, бледнолицый с длинными волосатыми ногами, я познакомилась с ним в «Лаймлайте».
Звали его Альдо.
Лет ему было девятнадцать, и жил он на побережье вместе со своим семидесятичетырехлетним отцом. На заднем сиденье его «олдсмобиля» я задрала свою кожаную юбку, приспустила чулки в сеточку, и мною заблагоухала вся машина. Это было наше первое свидание. Я училась в предпоследнем классе, и той весной мы писали и звонили друг другу по меньшей мере раз в сутки. Я даже ездила к нему в Уайлвуд с Карен (у нее были права, а у меня нет). Он жил и работал рядом с пляжем, один из троих парней, обслуживавших электромобили на аттракционах, единственный без татуировок. Останься, сказал он мне в тот вечер (Карен брела по пляжу далеко впереди нас). Где я буду жить? – спросила я, и он улыбнулся: со мной. Не сочиняй, сказала я, но он, отвернувшись, смотрел на прилив. Я хочу, чтобы ты осталась, и голос его звучал очень серьезно.
Он три раза просил меня об этом. Я подсчитала.
Летом мой брат объявил, что намерен посвятить свою жизнь созданию ролевых игр, а мать пыталась совмещать две работы впервые после операции. Хорошего в этом было мало. Мать приходила домой измученная, и поскольку я больше не помогала по хозяйству, у нас царил полный бардак. Порою по выходным заглядывала тетя Рубелка, готовила что-нибудь, убирала и отчитывала нас с Оскаром, но у нее была своя семья, и в основном мы жили сами по себе. Приезжай, сказал Альдо по телефону. Потом в августе Карен уехала учиться в Слиппери-Рок. Школу она закончила на год раньше меня. Если я больше никогда не увижу Патерсон, я это как-нибудь переживу, сказала она перед отъездом. В сентябре, в первые две недели учебы, я шесть раз прогуляла уроки. Я просто не могла ходить в школу. Ноги не несли меня туда. Вдобавок на тот момент я читала «Источник» Айн Рэнд и воображала себя не Доминик, а Говардом Рорком,[37]37
«Источник» Айн Рэнд – один из самых известных американских романов, его герой Говард Рорк – архитектор и выразитель крайне индивидуалистических взглядов, считающий, что лишь творчество двигает мир вперед, Доминик – надменная светская красавица, с которой Рорка связывают сложные отношения.
[Закрыть] и это не шло мне на пользу. Я бы и дальше пребывала в этом вялом состоянии, в подспудном и отчаянном страхе совершить рывок, но в конце концов произошло то, чего мы все ожидали. За ужином мать объявила ровным тоном: послушайте, вы оба, что я вам скажу. Врач снова посылает меня на обследование.
Оскар, казалось, вот-вот заплачет. Он опустил голову. А какова же была моя реакция? Я взглянула на мать и сказала: передай мне соль, пожалуйста.
Сейчас я уже не обижаюсь на мать за то, что она ударила меня по лицу, но тогда эта пощечина оказала мне огромную услугу. Мы набросились друг на друга, перевернули стол, мясная похлебка растеклась по полу, Оскар забился в угол, хныча: прекратите, прекратите, прекратите!
Иха де ту мальдита мадре, за что мне, несчастной, такая дочь, орала она. И я сказала: надеюсь, на этот раз ты умрешь.
На несколько дней дом превратился в зону боевых действий; затем в пятницу она выпустила меня из моей комнаты, разрешила сесть рядом с ней на диван и посмотреть сериал. Она ждала результатов анализов крови, но никто бы не догадался, что ее жизнь висит на волоске. Мать смотрела телевизор так, словно это было для нее сейчас самым главным, и стоило кому-нибудь из персонажей сподличать, как она всплескивала руками. Ее нужно остановить! Неужели они не понимают, что эта тварь задумала?
– Ненавижу тебя, – сказала я очень спокойно, но она не услышала.
– Принеси мне воды, – попросила она. – И положи в стакан кубик льда.
Это последнее, что я для нее сделала. Следующим утром я уже ехала в автобусе на побережье. Одна сумка, две сотни долларов, заработанных на чаевых, старый нож дяди Рудольфо. Мне было страшно. Я не могла унять дрожь. Всю дорогу мне чудилось, что небеса вот-вот разверзнутся, оттуда появится моя мать и схватит меня. Но обошлось. Никто не обратил на меня внимания, кроме мужчины, сидевшего через проход. Вы очень красивая, сказал он, похожи на девушку, что я когда-то знал.
Я не оставила им записки. Настолько я ненавидела их. Ее.
Ночью, когда мы с Альдо лежали в его душной, провонявшей кошками комнате, я сказала ему: я хочу, чтобы ты сделал это со мной.
Он начал расстегивать мои брюки.
– Ты уверена?
– Не сомневайся, – мрачно ответила я.
У него был длинный тонкий член, причинявший адскую боль, но я только повторяла: да, Альдо, да, – потому что, по моим представлениям, именно это нужно было говорить, когда теряешь «девственность» в объятиях парня, которого ты якобы любишь.
Похоже, ничего глупее я не могла придумать. Мне было плохо. И дико скучно. Но, естественно, я не признавалась в этом даже себе. Я убежала из дома, а значит, я счастлива! Счастлива! Альдо, предлагая мне неоднократно перебраться к нему, забыл упомянуть, что его отец ненавидит его почти так же, как я ненавидела свою мать. Альдо-старший воевал во Вторую мировую и не собирался прощать «япошкам» гибель своих приятелей. Папан больной на всю голову, говорил Альдо. Он до сих пор не эвакуировался из форта Дикс. Пока я жила у них, отец мне и двух слов не сказал. Он был старым скупердяем и даже на холодильник вешал замок. Не подходи к холодильнику, рычал он на меня. Нам не разрешалось взять даже лед. Отец с сыном жили в дешевеньком малюсеньком бунгало; я и Альдо спали в комнате, где папаша держал лотки, в которые гадили две его кошки, и по ночам мы вытаскивали лотки в коридор, но старик просыпался раньше нас и затаскивал лотки обратно к нам комнату: я запретил вам трогать мои какашки. Смешно, когда вспоминаешь об этом. Но тогда мне было не до смеха. Я нашла работу, торговала жареной картошкой на набережной и вдыхала то запах горящего масла, то кошачьей мочи, другие запахи я перестала ощущать. По выходным я либо выпивала с Альдо, либо сидела на песке одетая во все черное и писала в дневник; эти записи, воображала я, послужат созданию идеального общества после того, как нас перемелют в радиоактивной мясорубке. Иногда ко мне подкатывались парни с вопросиками типа «и кто, блин, умер?» или «что у тебя с волосами?». Садились рядом со мной на песок. Ты красивая девушка, на пляже ты должна быть в бикини. Зачем? Чтобы меня было легче изнасиловать? Помнится, один из них вскочил как ужаленный: мать твою, да что у тебя в голове?
До сих пор не понимаю, как я все это вытерпела. В начале октября меня уволили из картофельной забегаловки; впрочем, к концу сезона вся торговля на набережной закончилась и от нечего делать я торчала в публичной библиотеке, которая была еще беднее, чем библиотека в нашей школе. Альдо начал работать у отца в гараже, отчего они бесили друг друга еще больше, а следовательно, и мне перепадало. Дома после работы они пили пиво и сокрушались насчет их любимой бейсбольной команды. Наверное, мне повезло, что они не додумались, зарыв топор войны, сообща наехать на меня. Я старалась как можно меньше бывать дома, дожидаясь, когда ко мне вернется та самая лихость, вернется и подскажет, что дальше делать, но внутри у меня все высохло, опустело, никаких озарений. Я уже решила, что со мной случилось то, о чем пишут в книжках: с потерей девственности я утратила свою силу. И жутко обозлилась на Альдо. Ты алкаш, говорила я. И кретин. И что, огрызался он. От твоей мохнатки воняет. Та к и держись от нее подальше! Будет сделано! Но конечно, я была счастлива! Счастлива! Я все ждала, что столкнусь на набережной с моей семьей, развешивающей объявления с моей фотографией, – матерью, самой высокой, самой смуглой и грудастой женщиной в округе, Оскаром, похожим на коричневый пузырь, тетей Рубелкой, а может, даже и дядей Рудольфо, если родным удастся отвадить его от героина на какое-то время, – но единственные объявления, которые я видела, были о пропавших кошках. Вот вам белые люди. У них кошка потеряется, и они развешивают воззвания на всех углах. А у нас, доминиканцев, потеряется дочь, и мы даже не отменим посещение парикмахерской.
К ноябрю меня уже все достало. Вечерами сидела с Альдо и его вонючим папашей, по телевизору показывали старые сериалы, те, что мы с братом смотрели детьми, и разочарование скребло, будто наждаком, по моим внутренностям, мягким и нежным. Вдобавок холодало, ветер гулял по бунгало, забирался под одеяла или врывался следом за тобой в душ. Это было ужасно. И мне все время мерещился мой брат, как он пытается приготовить себе поесть. Не спрашивайте почему. Дурацкие видения. Но в семье готовила я, а единственное, что умел Оскар, – поджарить сыр на гриле. Я представляла, как он, отощавший, обратившийся в тень, топчется по кухне, шаря с тоской в пустых шкафчиках. Мне даже начала сниться мать, разве что в моих снах она была маленькой девочкой, то есть совсем крошечной; она умещалась на моей ладони и все норовила что-то сказать. Я поднимала ее к своему уху и все равно не могла ничего расслышать.
Я всегда терпеть не могла понятные сны. И до сих пор не люблю, когда мне такие снятся.
А потом Альдо решил сострить. Я видела, что наши отношения вгоняют его в уныние, но не понимала, до какой степени, пока однажды вечером он не привел в дом друзей. Его отец уехал в Атлантик-Сити, и ребята пили, курили, рассказывали тупые анекдоты, и вдруг Альдо говорит: «Знаете, что такое “понтиак”? Это автомобиль, который бедный забитый бомж принимает за “кадиллак”». Но на кого он смотрел, когда произносил свою «гениальную» шутку? Прямо на меня.
Ночью он полез ко мне, но я отпихнула его. Отстань.
Кончай злиться, сказал он, кладя мою руку на свой член. Вялый, никакой.
И расхохотался.
И что же я сделала спустя денек-другой? Реальную глупость. Я позвонила домой. В первый раз никто не ответил. Во второй трубку взял Оскар. Резиденция семьи де Леон, кому предназначается ваш звонок? Мой брат во всей красе. Вот почему его все тихо ненавидят.
– Это я, чучело.
– Лола. – Он умолк надолго, и я сообразила, что он плачет. – Где ты?
– Ты не хочешь это знать. – Я переместила трубку к другому уху, стараясь говорить как можно непринужденнее.
– Лола, мами тебя убьет.
– Болван, говори потише. Мами дома, да?
– На работе.
Кто бы мог подумать, сказала я. Мами на работе. До последней минуты последнего часа своего последнего дня моя мать будет работать. Она будет работать даже под ядерным ударом.
Наверное, я сильно по нему соскучилась, или мне просто хотелось увидеть человека, для которого я не чужая, или кошачья моча повредила мой разум, но я дала ему адрес кофейни на набережной и велела привезти мою одежду и кое-что из книг.
Деньги тоже привези.
Он замялся.
– Я не знаю, где мами их держит.
– Знаешь, Мистер. Просто возьми их.
– Сколько? – робко спросил он.
– Все.
– Это большая сумма, Лола.
– Просто привези мне эти деньги.
– Ладно, ладно. – Он шумно вдохнул. – Скажи по крайней мере, ты в порядке или как?
Я в порядке, и это был единственный момент в нашем разговоре, когда я чуть не заплакала. Сделала паузу, дожидаясь, пока голос не зазвучит нормально, и спросила брата, как он намерен обхитрить мать, чтобы она не догадалась, куда он собрался.
– Ты меня знаешь, – грустно ответил он. – Может, я и лох, но я изобретательный лох.
Мне ли было не знать, что нельзя полагаться на человека, чьими любимыми книжками в детстве были детективы про малолетнего умника по кличке Энциклопедия.[38]38
Детективы про Лероя Брауна по прозвищу Энциклопедия написал американский писатель Доналд Собол (1924–2012).
[Закрыть] Но я плохо соображала, так мне хотелось его увидеть.
Правда, у меня был план. Я хотела уговорить брата бежать вместе со мной. И отправимся мы в Дублин. Работая на набережной, я познакомилась с компанией ирландских ребят и повелась на их рассказы о своей стране. В Ирландии я устроюсь бэк-вокалисткой к U2, и Боно с его ударником оба в меня влюбятся, а Оскар станет доминиканским Джеймсом Джойсом. Я и в последний пункт реально верила. Та к что обманывалась я по полной.
На следующий день я вошла в кофейню в отличном настроении, в каком давно не бывала; Оскар был уже там с сумкой.
– Оскар, – рассмеялась я, – ты такой толстый!
– Знаю, – застеснялся он. – Я беспокоился о тебе.
Мы обнимались чуть ли не целый час, а потом он заплакал.
– Лола, прости.
– Да все нормально, – сказала я, а когда подняла голову, увидела, что в кафе входят моя мать, тетя и дядя.
– Оскар! – завопила я, но было уже поздно.
Мать похудела, осунулась, вылитая карга с виду, но вцепилась она в меня так, словно я была ее последним центом, а ее зеленые глаза под рыжим париком пылали яростью. Я отметила невольно, что она принарядилась для такого случая. Для нее это было в порядке вещей. Дьявольское отродье, закричала она. Мне удалось выволочь ее на улицу, и когда она отцепилась от меня одной рукой, чтобы ударить, я вырвалась. Я бежала, только пятки сверкали. Услышала, как она грохнулась и растянулась на мостовой, но я и не думала оглядываться. Нет – я бежала. В начальной школе на соревнованиях я всегда была самой быстрой среди девочек, приносила домой всякие наградные ленты; мне говорили, что это нечестно, ведь я выше всех, но я не обращала внимания. Я бы и мальчишек опередила, если б захотела, так что у моей больной матери, вечно обдолбанного дяди и толстого брата не было шансов меня догнать. Я намеревалась добежать до конца набережной, миновать гребаную лачугу Альдо, выбежать вон из Уайлдвуда и вон из Нью-Джерси, ни разу не останавливаясь. Я не просто убегу, я улечу.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?