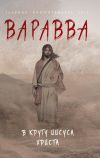Текст книги "Любовница Иуды. Роман"
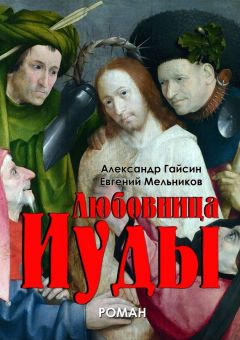
Автор книги: Е. Мельников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Все прошли в полутёмную комнатку, и присели кто, на чём за круглый стол-паучок. Джигурда брезгливым движением отодвинул в сторону магические таблицы с гороскопами, не спеша закурил. Иуда, пользуясь паузой, повесил распятие. Караченя искоса взглянул на крест, и глаза его печально затуманились. Он сидел поникший и расслабленный, даже не пытаясь привести в порядок вялые мысли и душу. Всё, что случилось, казалось ему дурным сном, в который он охотно бы поверил, если б не присутствие людей и не оскаленные морды диких зверей под низким потолком.
– Ты хоть понимаешь, что натворил? Не беса же нам, в конце концов, сажать за решетку! Меня просто поднимут на смех и выгонят с работы. Почему он выбрал именно тебя? Попытайся разобраться, – попросил немного сконфуженный следователь.
– Зачем? Всё равно я не хочу жить, – обречено вздохнул Караченя, разглядывая свои руки со страхом и отвращением.
– Наш суд, конечно, пойдет тебе навстречу. Даже если эти два журналиста выступят в твою защиту в качестве свидетелей. Но, во-первых, они не выступят – побоятся…
– Обижаете, Гавриил Павлович! – отозвался Ирнег Тимс.
– Ну, допустим, согласитесь. Ребята вы честные, хотя иногда пишете неискренние статьи, и не только для газеты. Бывает… Но что это изменит? Наша островитянская общественность обязательно потребует публичной казни. Без жертвы мира не будет. Приговор постараются привести в исполнение немедленно, и надеяться на помилование в честь следующего дня рождения Великого Учителя не приходится… – Джигурда говорил медленно, скучным усталым голосом, словно украдкой заглядывал в заранее подготовленное и отпечатанное решение суда.
– Тем лучше, – обронил Караченя тоном глубокого безразличия.
По всей видимости, следователь Джигурда больше всего испугался за себя самого: впервые он жалел злостного преступника и хотел помочь ему избежать законного наказания. Вместе с тем что-то в душе чиновника дрогнуло: никогда с такой ясностью он не ощущал двусмысленности своей профессии, как теперь. Эта проклятая логика фактов – она всегда против людей, жалких и запутавшихся. На сей раз Гаврила Павлович решил бесповоротно: после этого дела он уходит со своей работы и меняет специальность – займется вплотную изучением редких насекомых родного края, которых с детства любил ловить, накалывать на стальные булавочки и укладывать в маленькие плексигласовые саркофаги. О насекомых Джигурда легко мог бы написать целую диссертацию. И спокойно преподавать на биофаке института после стажировки у профессора Роберта Геймера – странного любимца губернатора Ферапонтова. Честная работа, любимые ученики – чего еще надо? Главное – не соприкасаться больше с властью, быть самим собой… Когда Гаврила Павлович подумал о таком возможном собственном счастье, то почему-то сразу вспомнил о редком отчестве сидевшего перед ним несчастного паренька, и смутное беспокойство опять овладело им. Он быстро спросил:
– А ты, Караченя, не пробовал искать родителей?
Парень еще находился в глубокой прострации и смотрел на следователя в полном недоумении, будто не только не понимал смысла вопроса, но и не воспринимал окружающей жизни вообще. Но вот в его глаза обрели осмысленное выражение. Он вздохнул и сказал:
– Пробовал. Выписал из данных адресного бюро фамилии всех мужчин с именем Гавриил. Кажется, в этом списке были и вы. Побывал я у двоих дома и бросил это занятие. У первого меня чуть не побили: подумали, я жулик и претендую на наследство или жилплощадь. У другого – жена устроила скандал: она, мол, знала, что рано или поздно измены мужа кончатся этим.
– А та женщина больше не звонила в детдом?
– Она приходила… Это было давно.
– А ну расскажи подробней, – Джигурда поправил под мышкой толстокожую кобуру, чтобы она не давила на сердце.
В эту минуту мы заметили, что в избу воровато скользнул вундеркинд Гера. Вспомнили, как сразу после суматохи он незаметно скрылся во дворе, где уже буйствовал Нерон. Теперь возле сарая валялась тушка гуся с перекушенной шеей. Иуду поразило шкодливое и возбужденное выражение на лице вернувшегося со двора мальчика, на его сытеньком личике в уголке влажных губ прилепилось крохотное красно-белое перышко. Поняв, что замечен, Гера шмыгнул по дощатой приступке на бабкину печь и затих на лоскутном одеяле.
Бывший квартирант старухи между тем продолжал рассказ:
– Мы играли в спортзале детдома в настольный теннис, когда прибежал мой друг и сообщил, что во дворе меня ждёт одна женщина, то ли пьяная, то ли чокнутая. Я неохотно отдал ракетку и спустился во двор. Она походила на тех нищенок, которые бродят по базару, выклянчивая деньги или продукты. Жалкие обноски, испитое лицо. Мы уединились в беседке. Она села напротив и молча смотрела на меня. Я даже покраснел. Так мы просидели несколько минут, не проронив ни слова. Потом женщина заплакала, обняла меня, стала целовать, говорила, что она родная сестра моей матери, которая умерла, просила её простить, в жизни, мол, всякое случается. От женщины сильно пахло вином. Я почему-то сразу поверил ей, затосковал, понял, что я не одинок, и меня не нашли в капусте.
– Как её звали? Не сказала? – занервничал следователь.
– Надя или Вера. Не помню. Я уже давно не был на её могилке.
– Значит, её больше нет? – Джигурда промокнул платком заблестевший лоб.
– Однажды позвонили из больницы в детдом и передали, что скончалась моя тетка. На похоронах были одни бродячие старушки да могильщики. Быстренько закопали и поставили деревянный крест. Всё за казенный счет. Когда я в последний раз был на кладбище, там уже и фамилия стерлась от дождей и снегов. Написали ведь на фанерном щитке химическим карандашом и корявым почерком. Позже я попросил учителя труда увеличить её фотографию из паспорта, обернул снимок целлофаном и прибил к кресту. Не знаю, цела ли сейчас.
– А какие-нибудь приметы этой женщины запомнил? Вот здесь, над левой бровью, шрам был? – болезненно встрепенулся Джигурда, втискивая в напряженные губы очередную сигарету.
– Может, и был. Вам-то зачем? Мне больше запомнилось Евангелие, которое она подарила. Маленькая такая книжица, с ладошку. Страницы пожелтели. Тетка та сказала, чтобы я хранил книгу и читал каждый день. Из неё, мол, я узнаю, кто мой настоящий отец, как его зовут и где он живет. Мне было мало лет, я любил тайны и загадки и очень обрадовался. Быстро прочитал книжку от корки до корки, но так и не понял, кто мой отец. Решил, что надо мной подшутили. Или же я второпях что-то проглядел. Сделалось ещё интересней. Снова принялся за чтение. Пока наконец не дошло… Потом начал в церковь ходить, полюбил литургию. Ребята, конечно, насексотили старшей воспитательнице, она пришла в ужас и повела меня к директору детдома, словно я убил кого-то. С тех пор и пошло всё наперекосяк. Стыдили, ругали, велели отдать вредную книгу, чтобы я других не заразил. Но я и не собирался отдавать. Это было единственное, что принадлежало лично мне. Самое дорогое и ценное, что у меня было. Остальное – одежда, еда, учебники, игрушки, – всё казенное. Целой комиссией обшаривали мою тумбочку и постель. А лучший друг выдал: нашли книгу за пазухой, под ремнем. Склоняли на каждом собрании, даже на городском совещании идеологических работников. В газете, по-моему, тоже писали. Все считали, что надо спасать меня, что я предал Великого Островитянина, которому обязан своим счастливым детством. А одна девочка, объект моих тайных воздыханий, назвала меня Иудой. Такой обиды я не мог вынести. Даже заплакал.
– Что-то много Искариотов на один квадратный километр, – сказал озадаченный следователь. – А эта чертовщина с чего началась?
– Трудно сказать, с чего… – задумался Караченя и зябко обхватил свои плечи длинными тонкими руками. – Когда меня зафлажили, как волчонка, я сбежал из детдома. Решил в обитель податься, к старцу Филиппу. Наслышан был о нем от черницы Олимпиады. Но не дошел до скита – провалился в катакомбы. А там уже познакомился с Валетом и Пиковой дамой.
– Что за дама? Не Марсальская ли? – вскинулся Джигурда, держа сигарету на отлете.
– Она. Ираида Кондратьевна. Я влюбился в неё, хотя был младше на пятнадцать лет. А там: таинственная обстановка, мистические книги, ворожба, танцы, волшебные напитки. По сравнению с детдомом – сказка, свобода, Эдем. Так я наслаждался больше месяца, а меня в это время по всему острову разыскивали. Но однажды на базаре я столкнулся с воспитательницей, и она позвала патрульного. Отправили опять в детдом. Там уже был новый директор, более мягкий и хитрый. Сделал для меня исключение: разрешил ходить в церковь по праздникам, однако с условием, чтобы никто из детдомовцев не видел, а главное – не слышал: загнивай, дескать, в одиночку. Я и помалкивал. Душу изливал только дьякону Родиону и Олимпиаде, – Караченя потер виски дрожащими пальцами.
– А с этими… пещерниками больше не встречался?
– Потом уже. После поросенка.
– После чего? – не понял Джигурда и обронил на брюки сизый столбик пепла.
– Был у Олимпиады симпатичный поросенок. Одна деревенская тетка подарила ей за какое-то лечение. Я его прозвал Валаамчик. Быстро привязался к нему. Можно сказать, мы взаимно полюбили друг друга. И вот, как-то в полночь, стою я возле окна в своей комнате и размышляю над тем местом в Евангелие от Луки, где записано, как Иисус изгнал из одержимого легион бесов и разрешил им вселиться в стадо свиней, а потом они бросились со скалы в озеро. Зачем, думаю, Он пошел на поводу у нечисти? Почему в свиней, а не в жаб или в скорпионов? Только потому, что это некошерное животное? Но ведь свинью Бог тоже для чего-то сотворил? Не для бесов же! И в чем вина свиней, безгласных и не знающих добра и зла? Они ведь ради людей собой жертвуют, для них живут. Простые люди из страны Гадаринской остались без мяса. Это жестоко. Ведь Он знал, что делал. Короче, жалко мне стало таких, как Валаамчик…
– Первая змейка сомнений? – скупо усмехнулся Джигурда.
– Вроде того. Суетные мысли всегда опасны и даром не проходят. Теперь я это понимаю. А тогда от волнения, что не согласен с Ним, не мог заснуть. Перед этим, в полдень, я встретился в рейсовом автобусе с Марсальской. Было тесно, и мы стояли с ней вплотную, грудь в грудь. Сами понимаете… Она глазищами своими сверлит, мурлычет, зовет в свое капище. Тошно мне стало, голова кругом. Вышел на последней остановке и добирался домой через весь город. А вечером нахлынуло. Подмывало к чему-нибудь придраться. Вот и подвернулся Валаамчик. Стою возле окна, под открытой форточкой, смотрю на луну, нервничаю ужасно. А тут на меня зевота напала, хоть сна ни в одном глазу. Обычно я перекрещиваю каждый зевок, как учила Олимпиада. А тут забыл. Раздираю рот до ушей, аж скулы ломит. И вдруг мне почудилось, будто в меня что-то влетело, проникло через горло, слегка обожгло. Как дым от пожара. Святой водицы попил – ещё хуже стало. Еле заснул. Во сне скрипел зубами, умолял кого-то оставить меня, хохотал и плакал. Это мне утром Олимпиада передала. Иди, говорит, исповедуйся. Выхожу на крыльцо и первым делом вижу Валаамчика. Он тоже глянул на меня – и как заверещит, как сиганет в дыру под забором. Сутки где-то пропадал. Потом вернулся, спрятался в сарае. Я увидел его и чувствую: ненавижу. Как самого лютого врага. Взял нож из кухни, поймал Валаамчика и всего искромсал. Никогда ещё не испытывал такого удовольствия. Трупик закопал под яблоней, в саду. Олимпиада до сих пор не знает, грешит на проезжих цыган. Потом я ушёл в катакомбы.
– Кому принадлежала идея убить сектанта Кувшинникова? – спросил Джигурда, бегло переглянувшись со своим помощником Крагой.
– Вы уже говорили. Час назад. Но ведь у вас за идеи не сажают в тюрьму.
– Ещё как сажают! – буркнул следователь Джигурда и со злостью вмял окурок в консервную банку, – Нож с тремя шестерками он тебе дал?
– Подарил. На день рождения. За несколько дней до убийства.
– Зачем?
– Трудно понять. Смутные намеки на некое предначертание, на возмездие за младшего брата, на вторую руку Сущего…
– А дьякон Родион под эту же руку попал?
– Он погиб случайно. Предполагалось, что после отравления прихожан вином, подозрение падет на всю честную церковь. И, прежде всего – на владыку Прокла, которого в катакомбах не любили. И не только там… Мы рассчитывали, что начнутся волнения среди верующих, многие не захотят больше причащаться. А без причастия церкви нет.
– А это чья идея? – нахмурился Джигурда.
– Моя… – Караченя с болью сглотнул, будто в горле застряла рыбья кость. – Марсальская после убийства сектанта-иеговиста начала относиться ко мне всерьез. Даже с некоторым испугом и восхищением. Поэтому я из кожи вон лез, чтобы ещё раз отличиться. Но весь план отравления мы разработали вдвоём с Валетом. Марсальская к нему не причастна. А мысль о цикуте мне подал Искариот. В первый же вечер, когда сравнил самогонку с этим ядом. Я знал, что у привратницы есть сухой вех, и тут же возникла идея…
Следователь Джигурда тяжело поднялся со стула и прошёлся в тоскливом возбуждении по комнате, разглядывая исподлобья грозные чучела зверей. Потом остановился возле Карачени и кивнул на Иуду, который, прислонившись к косяку, задумчиво наблюдал за старухой, колдующей над ароматным чаем.
– А сейчас ты его не боишься?
Не взглянув на Иуду, парень с нажимом произнес:
– Сейчас я боюсь его ещё больше.
Джигурда снова сел за стол-паучок, грузно облокотился на столешницу и оперся виском о костлявый кулак. Неопределенно вздохнул и сказал кому-то в пространство:
– И, тем не менее, всё это недоказуемо.
– У нас есть доказательства, – неожиданно подал голос Александр Гайсин.
– Какие? Иуда, что ли? Он сам в них нуждается, – небрежно усмехнулся следователь.
Гайсин вытащил из широкого кармана летнего пиджака маленький редакционный диктофончик, главную нашу драгоценность, не единожды выручавшую нас, и показал следователю Джигурде. Тот изумленно похлопал ресницами и рассмеялся:
– Ну и хитрецы. С вами надо ухо держать востро… А ну-ка, прокрутите.
Александр перемотал пленку и нажал на красную клавишу – послышалось долгое и пустое шуршание магнитофонной ленты. Запись была стерта…
Часть II. Мария
Глава 6. Ностальгия
Селение Кериоф-Йарим, где я родился, располагалось на крайнем юге, на территории колена Иудина в полулиге от горы Хеврон. Мать моя работала посудомойкой в старой харчевне. Отец сторожил зернохранилище, высеченное в скале, а потом стал кантором в синагоге. Голос имел изрядный – хватало на все восемнадцать благословений. Он часто любил прихвастнуть, что его дед Авор был когда-то важным хазаном, распорядителем в провзеухе: сидел близ кафедры и подавал избранному для чтения священные свитки из тебуха, ковчега. Меня отец частенько порол ивовым прутом за мою лень в изучении Мишны и Гемары. Я был слишком здоровый и веселый мальчик для Талмуда. Выручала цепкая обезьянья память. Всё, что мне втолковывали поселковые соферимы, я легко и накрепко запоминал. Особого ума для этого не требовалось. Когда кончился мой нефес, то есть, мне исполнилось двенадцать лет (число это священно для иудеев), и начался руах, или дух, отец представил меня собранию в синагоге в одну из суббот – называлась она Саббит тефиллин. Отныне я должен был развиваться в нисама – разумную душу. В том же году отец взял меня на пятидесятницу в Ершалаим, или Иерусалим. Потрясение было великое, что и говорить: бесконечные портики, огромные крытые террасы, соединенные лестницами, капители темно-мраморных колонн, украшенные изображениями диковинных животных, следов схваток с воинами Помпея на древних стенах, роскошный Вавилонский занавес, затканный золотыми розами, пахучий дым всесожжений в Храме, сверкающие одежды священников… В общем, такого, я уверен, не увидишь и в неизвестном мне Париже, о котором мечтает молодежь острова Тотэмос. Может, этот Париж и прекрасен, как золотой истукан Навуходоносора, но я знаю одно: человек, побывавший хоть раз в Иерусалиме, может умирать спокойно, ибо он видел вечное.
Отец мой был личностью сложной. Преданность Торе не мешала ему флиртовать с усадебными девками-поденщицами. За это он получил вскоре малый херем от старейшин и псалмы в синагоге уже не распевал. С матерью у него тоже начались раздоры. Он уехал в Иерусалим, к двоюродному брату Менахему, устроился в торговый дом и стал понемногу преуспевать. Ездил даже в Александрию и Кесарию Филиппову, как агент по купле-продаже. Но ненависть к Риму носил в себе до последней минуты жизни.
Мне исполнилось уже лет четырнадцать, и я уже щупал веселых поденщиц под оливами (а с одной дикой козочкой натешился всерьёз), когда отец взял меня в Храм на праздник Обновления, Ханнукхаг. Вырядился он настоящим хасидом: на лбу и на запястье – кожаные мешочки тафиллина с изречениями из Шема на пергаменте, на плече – щирокая бахрома от таллифа, связанная голубой лентой, цицифер (для воспоминания, что он свет Богу, а не тьма), в руках – молитвенник в переплете из телячьей кожи. После службы мы стояли на паперти Израиля, в большом дворе для мужчин, и слушали наших учителей-левитов, чьи волосы и бороды топорщились за плечами сальными косицами. В толпе, рядом с нами, я заметил одного евиона, в грязном плаще из верблюжьей шерсти с капюшоном и в стоптанных сандалиях из пальмового дерева. Лицо его было явно не иудейское, но и странно знакомое, особенно своим шрамом на щеке. Этот рубец напомнил мне, как в прошлом году я любовался римским воином, у которого было такое же лицо: он стоял у городских ворот на часах, в латах и шлеме, с коротким мечом на поясе и древком в руке, увенчанным медным орлом. Заметив мой взгляд, направленный на подозрительного нищего, отец спросил, чем меня так заинтриговал этот ам-гааретц. Я ему рассказал. Он посмотрел на бродягу уже пристальней. Тот беспокойно обернулся, вздрогнул, и рука его медленно потянулась к животу. Отец схватил его за плечо: что, мол, ты тут делаешь, римская ищейка, чего вынюхиваешь? Нищий попытался вырваться, но у отца была железная хватка. Вдруг бродяга вытащил из-за пазухи сику, кривой нож, и нанес отцу смертельный удар в грудь. И тотчас растворился в толпе. Его прикрыли другие шпики.
Это был один из тех воинов прокуратора, которых он переодевал в одежду черни и запускал во все задворки Иерусалима во время главных праздников и смуты, когда город напоминал жаровню, полную раскаленных угольев. Не одну сотню маккавеев зарезали они под шумок, выдавая себя за гоев.
Мать моя спустя короткое время тоже отправилась в подземный шеол, чтобы отдохнуть до Божьего Суда. Это был страшный удар. Я долго не мог от него оправиться. С мамой ушло моё детство, настоящее счастье и родина. Она и сама была большим ребенком: любила возиться с лекарственными травами, обожала гагадофу (наши народные легенды), прятала под подушку терафим для гадания – глиняную статуэтку, подарок бабушки Цили, как некогда Рахиль прятала своего щумейского божка под седло. Начал я хлебать нищету полной ложкой. Скоро она мне обрыдла – никакого блаженства я в ней не нашёл, одну грязь и тоску. Сперва кормился мелкими подачками на сезонных работах: стриг овец, собирал оливы и виноград, торговал на улицах халвой, управлял давильным жомом. Не разбогатев, стал бродяжничать по Иудее вместе с Махмудом, моим дружком, потом ушёл к разбойникам зелотам в скалистую горловину Елеона, желая отомстить за отца. Но того римлянина со шрамом так и не встретил. Зато выместил злобу на пьяном легионере, который приставал к смазливой набатеянке на Дворцовой площади. Хорошо, что вовремя успел смыться. С тех пор завязал с кривыми ножами под хленой и с разбоем на дорогах. Долго не мог забыть, как из губ легионера вытекала жгучая струйка крови. В тот же год, за двадцать дней до Пасхи, я впервые заплатил священные полсикля, би-аг, в искупление за свою душу, то есть 45 копеек. Это составляло сумму на четыре с половиной сикля меньше, чем та символическая плата, за которую меня выкупили младенцем: ведь всякий иудейский мальчик принадлежал Господу ещё в материнской утробе.
На праздник Кущей мы отправились с Махмудом в Иерусалим. Этот праздник любил весь Израиль – как воспоминание о странствиях предков по пустыне. Между иудеями он вообще считался главным. Начинался он осенью, 15 числа месяца Тисри, после окончательной уборки урожая с полей. Мы явились на день позже, и место нам досталось в низине Кедрона. Повсюду, особенно возле городских стен, виднелись суккофы, или шалаши, сработанные из густых ветвей оливы, мирты и сосны. Некоторые лентяи натягивали на четыре колышка только аббу или талес: получалось что-то вроде продуваемых с четырех сторон палаток. У мужчин в руках мелькали зеленые веточки пальмы или понадречной ивы – брали что попроще, – а женщины держали аккуратные ветви с плодами персика или лимона. Но эта зелень, или люлабы имелась у всех обязательно, так уж исстари повелось. Мы соорудили отличный шалаш из пальмовых листьев под высоким тюльпановым деревом, свалили туда кожаные бурдюки с вином, торбы с провизией и направились в Храм: подышать терпким дымом от жертвенных тельцов – за наделю их сжигали аж семьдесят! Столько народов было тогда на земле.
Первые четыре дня прошли в торжественном очищении покаянием. Но на всякие нудные церемонии мы не тратили время. Успели самое главное: познакомились с двумя красотками-галилеянками. Худенькую звали Сусанной, а полненькую – Марией. На Марию я сразу положил глаз. Она нарядилась в голубую одежду, белое полотняное покрывало спадало с высокого остроконечного головного убора, украшенного золотыми монетами и цепочками. Смуглые лодыжки и ремешки мягких сандалий были схвачены серебряными браслетами и пряжками. На пальцах блестели кольца с аметистами и топазами. По плечам рассыпались черными змейками тонкие косички. В лукавых миндалинах глаз Марии плескались синие волны Геннисаретского озера, а на губах не увядали алые лепестки полевых анемонов: всегда чуть влажные, словно от росы. Голосок Марии ворковал утренней горлицей, которая ещё не знает, что вечером священник отрубит ей голову ритуальным ножом.
Да, мои друзья-летописцы: это была несравненная Мария из Магдалы. Та самая Магдалина, которая первая известит человечество о том, что Христос воскрес. Если верить евангелистам, конечно. Думаю, Егошуа заранее всё знал. Наперед. Даже я под конец стал догадываться, что и в этой прекрасной блуднице таится какая-то загадка, что есть и у неё особое предназначение. Ведь всё, что происходило с раввуни и вокруг него, не было случайным. Кстати, дух по-арамейски – женского рода, а не мужского, как у вас. Хотя женщины ваши лучше мужчин. Но это так к слову…
По вечерам мы уходили в Гефсиманию, на Елеонскую гору. Там, на вершине, росли два столетних ливанских кедра: тучи птиц облепляли разлапистые ветви. Под их резной тенью устраивались небольшие базары. Мы сидели на теплом валуне, смотрели, как опускается солнце за дальние хребты Моавитских гор, и без конца целовались. Мария это умела: и зубками беличьими прикусит, и змеиным язычком лижет, да ещё присосется, втянет мои губы в свои, как щучка. И вина не надо. Я показывал ей на смутные очертания Лотова озера среди кобальтовых нагромождений: озеро некогда затопило развратный городишко Содом, – и шутливо намекал на печальную судьбу жены Лота, оглянувшейся на свои грехи. Мария весело посмеивалась. Она росла сытой, избалованной девочкой: родители были из местной знати. Из Пятикнижия мало чего помнила, в синагогу давно не ходила, а разговоры о 613 заповедях Торы не терпела. Оно и понятно: нормальный человек не мог вызубрить 248 поучений – «что делать» и 365 запретов – «чего не делать». Вам, наверное, интересно, почему такие цифры? Поясню кратко: тело Адама, от которого произошли души Израиля, состоит из 248 мышц и 365 сухожилий, а в сумме это – 613. И у каждого числа – свое тайное назначение… Только один раввуни у нас разбирался во всём этом.
Спускаясь с Елеона, мы встречали невысокого хрупкого человека с прямыми, расчесанными на пробор, темно-каштановыми волосами до плеч. Вокруг темени эти мягкие, не знающие перхоти волосы придерживались агадом или сеткой. Казалось, он не шагает по влажно-шуршащей траве, а плывет между размытыми очертаниями олив. Полы верхнего платья, голубого талифа, развевались за его спиной легкими крыльями птицы сильвии, и нам чудилось, что над пологим склоном, поросшим тмином, скользит призрак. Иногда наши взгляды пересекались, и мы с Марией чувствовали себя будто раздетыми догола. Мария испуганно прижималась ко мне и шептала: «Я его боюсь».
Днем этот странный иудей часто попадался нам в толпе обычного люда, во дворе для отлученных, а изредка – среди кагала левитов и соферимов, одетых в белые ефуды и кетонефы, в длинные платья из сирийского шелка, в тонкие шальвары, шитые золотом и серебром. Всё его крайне интересовало, словно он был иностранцем. Ко всему он жадно присматривался, прислушивался, принюхивался, напоминая человека, который долго болел и вот наконец-то выздоровел: вышел из дома, а мир уже не тот, его надо заново открывать. Краем уха я слышал, что он весьма учен, владеет какими-то знаниями, привезенными из Египта, что он назорей из Галилеи языческой. Полуденными тенями двигались за ним несколько учеников, похожих между собой, как родные братья.
Как-то мы столкнулись в Соломоновом портике, и он задержал на мне свой испытующий взгляд. Я тоскливо вздрогнул. У него были глаза старой женщины-горянки, такие же пронзительные, как у моей матери: они просвечивали насквозь – и как будто напомнили мне о римском солдате, которого я убил. Мной овладело смущение, а по его губам скользнула горькая улыбка, этакий закатный лучик на воде. Кстати, на иконах в островитянских церквях и домах эта особенная улыбка хорошо передана. Правда, чаще улыбка бывала занозистой и нездешней, покровительственной, как у взрослого, беседующего с детьми.
В ту ночь я был с Марией особенно нежен и неистов. Словно чуял, что больше такое не повториться. Не ночь, а сплошной клубок счастья и неги. Махмуд в это время забавлялся с Сусанной в другом суккофе. Чтобы стоны и крики не были слышны, Мария сдавливала зубами край моей пыльной аббы, но изредка прорывающиеся звуки лишь сильней подогревали мой пыл. Откуда только брались силы? Ведь уже не первую ночь я не смыкал глаз, чувствуя себя безостановочно работающим давильным прессом, выжимающим золотистое оливковое масло. Да и как было остановиться, если от её кожи исходил аромат лаванды и апельсиновых цветов, губы источали сладкий бальзам из тубероз, а темный овражек промежности смягчался крепким отваром мандрагоры. Тело же умащал тонкий слой состава из мирры и нектара цейлонской корицы. Видно, она заранее всем этим запаслась. От меня же напротив тащило, как от храмового козла. Но Мария уверяла, что мой запах её возбуждает, и трогательно тыкалась своим потным носиком мне под мышку… Я вас не очень шокирую? Короче, это и был натуральный рай в шалаше. Может, отсюда поговорка пошла?
Утром мы отправились в Храм. В тот день на алтарь возлагалась последняя жертва праздника. Зрелище незабываемое. Его надо видеть. Словами не передать. В сиреневом сумраке сверкали драгоценные камни на поясе и нагруднике Каиафы. Горький дым от жертвенника смешивался с запахом лимона и сосны. В конце церемонии один из священников направился с золотой чашей на Силоамский ключ, к подошве Сиона, чтобы зачерпнуть три лога воды и возвратиться в Храм через Водяные ворота. Его сопровождала триумфальная процессия, вышагивавшая под громкие звуки священных труб. Сам Моисей созывал с помощью подобной трубы своих соплеменников, рассеянных по пустыне. Во время церемониального черпания воды мы вчетвером весело кричали – «Аллилуйя» и помахивали душистыми люлабами. Мы были слишком счастливы, чтобы верить в невидимое. Потом весь народ начал радостно развлекаться, пить вино и танцевать под задорные мелодии цитр и кимвалов. Праздник Кущей превратился в Пуриму, наши палестинские сатурналии.
Мы с Марией опять уединились в шалаше. Это была уже не страсть, а бесконечная жажда возле родника. Мы пили, пили и всё не могли насытиться. Внезапно я услышал крики взбудораженной толпы. Два фарисея в тюрбанах с павлиньими перьями ворвались в наш суккоф, схватили Марию и поволокли наружу. Одного я, правда, чуть не придушил, но Махмуд скрутил мне руки и прошипел на ухо: «Не будь дураком, затопчут». И я лишь тупо смотрел, как фарисеи подводят Марию к группе старых пердунов, наших учителей, и выкрикивают: «Эта женщина взята в прелюбодеянии. Её муж уехал в Александрию по торговым делам. А она блудом занялась с одним зелотом. Мы следили. Что нам с ней делать?» Хахамиды слегка растерялись: давненько не приходилось им заниматься такими историями – времена и нравы уже другие. Но когда они убедились, что толпа настроена решительно, особенно старухи, то вскинули свои козлиные бороды в небо, заважничали. Одни вспоминали Моисеев закон, требующий побивания камнями, другие – легендарную воду обличения, третьи предлагали дать разводную или ереаф дабгар, наготу причины, а кто-то цитировал Сираха: дескать, если она не ходит под рукою твоею, то отсеки её от плоти своей. Всем мудрецам хотелось какой-нибудь кары, возмездия. Без этого седобородым хилиастам было бы скучно. Бедная Мария тряслась от страха, как овечка под ножом в алтаре.
Плюгавый соферим, похожий на издыхающего мула, не без ехидства обратился к Галилеянину: «А ты что скажешь, Назорей?». Галилеянин сидел на пустой птичьей клетке и чертил на камне камышовой тростью какие-то невидимые знаки. Лица его почти не было видно из-за белого кеффиха, покрывавшего волосы. Он будто не слышал, что к нему обратились. Но вдруг поднял голову, и все мгновенно притихли. Позже я все время думал: в чем же тайна его неотразимого взгляда? В чем сила? Вроде ничего особенного и страшного. Смотрит доброжелательно, мягко, а становится не по себе. Начинаешь непроизвольно нервничать, злиться и чувствовать себя прозрачным, неуверенным, а то и беспомощным. Выразить это трудно. Возможно, поэтому раввуни старался не смотреть долго в глаза тому, с кем говорил: не хотел подавлять чужую волю без особой причины или боялся увидеть на дне души коварство и грязь. Мне кажется, он очень страдал от своей проницательности. Но сейчас он взглянул на тех, кто окружил Марию, такими беспощадными очами, что лица их по ослиному вытянулись, окаменели. А Галилеянин медленно, как судья на пытке, произнес: «Пускай самый безгрешный из вас первый кинет в неё камень». Тучный пьяный красильщик с продетой в мочки ушей разноцветной пряжей наклонился было за куском породы, но так и застыл в раскоряку, с глуповатым выражением уставился в тёмные зраки Галилеянина. А после позорно убежал, но уже совершенно трезвый. За ним и остальные молча разбрелись.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?