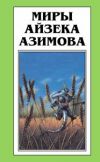Текст книги "Эдит Пиаф. Жизнь, рассказанная ею самой"

Автор книги: Эдит Пиаф
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Отец был просто счастлив, он без конца повторял, что дал мне в руки то, что прокормит меня до самой старости.
– Только береги свой голос…
Луи Гассион даже не подозревал, насколько окажется прав, мой голос прокормил не только меня, но и его, маму, Симону, еще целую толпу «милых паразитов». Ты же знаешь, что я так звала толпу, кормившуюся у меня в доме?
Сколько меня за них ругали, кстати, часто ругали те, кто сам являлся этим самым паразитом. Раньше в доме завтракала, обедала и ужинала толпа, причем даже когда мне самой больше двух ложек каши в день после операции есть не разрешали, паразиты с удовольствием ужинали икрой с шампанским, поднимая тосты за мое здоровье.
Почему их нет теперь? Да потому, что у меня нет денег. Нет денег – нет икры и шампанского, нет поживы – нет и паразитов. Рыбы-прилипалы не держатся за мертвую большую рыбину, они находят другую, живую. Отсутствие в моем доме множества «доброжелателей», которые раньше с удовольствием приходили выразить свое восхищение моим пением и остаться на пару часов, пару дней, пару недель… и так далее… лучше любых финансовых счетов говорит о моем бедственном положении. Никому не нужна талантливая певица с ее голосом, если с нее нечего взять.
Тео, во всем есть свои плюсы, зато теперь вокруг меня остались только настоящие друзья. И ты – моя любовь, моя последняя любовь, это я уже хорошо понимаю.
Тео, тебе тяжелее всех других моих мужчин и даже друзей, но ты уж меня прости, прости за капризы, они не столько из-за вредного характера, сколько из-за беспомощности. Это очень тяжело – понимать, что ты уходишь и ничего поделать с этим нельзя! Прости за резкость, за приказной тон, такая уж я, теперь поздно переделывать, прости за все, что сделала или сказала не так.
Но я отвлеклась! Если я сейчас начну говорить о наших с тобой отношениях, вернее, моем отношении к тебе, то расплачусь. Я попробую сначала рассказать тебе о себе, а потом обязательно, даже если это потребует последних моих сил, скажу, как сильно я люблю тебя. Люблю иначе, чем любила всех других, иначе, чем любила Марселя Сердана, это любовь, в которой смешались чувства несостоявшейся любовницы, матери и дочери, наставницы и ученицы (да-да, я многому научилась у тебя за эти месяцы!), властной женщины с грубоватыми манерами, привыкшей командовать всеми, кто вокруг, и беспомощной девочки, для которой единственная защита в этом мире – ладонь, вложенная в твою большую ладонь.
С отцом мне было хорошо, он мало что требовал, почти ничего не заставлял и многое позволял. Если бы только не его любовницы, которых папаша менял то и дело. Вот кто умел очаровывать женщин! Чуть повыше меня самой, щуплый, гибкий, он был немыслимо обаятелен, во всяком случае, менял женщин столь же часто, как и города выступлений. Мы объездили всю Францию, и всюду оставались его возлюбленные и даже его семьи. Я знаю только одну сводную сестру по отцу – Денизу, но не сомневаюсь, что их (и братьев тоже) много больше.
Симона Берто тоже называет себя моей сестрой по отцу. Я не уверена, на отца она ничуть не похожа и на свою мать, насколько я помню, не очень, значит, похожа на кого-то другого. Может, на Берто? Но я не против того, чтобы она звалась моей сестрой, даже после всего, что случилось, того безобразного расставания и доставленных неприятностей.
Мы выступали с отцом, Симона оказалась гибче и сильней меня, а потому Луи Гассион привлек ее, а не меня к акробатическим номерам. Но я была только рада, мне не слишком нравилось, когда подбрасывают, потому что появлялась мысль, что если упаду, то покалечу отца. Симона тоже не выросла большой, она выше меня на пару сантиметров, в чем видит дополнительное доказательство своих родственных связей с Луи Гассионом.
Симона много выдумала в своих рассказах о нашем детстве и юности; если ее слушать, то я, не будучи в состоянии толком держать голову ровно, уже болтала и даже кричала бабушке, чтобы не снимали ботинки. Это в два года (а то и меньше)! Я смеялась:
– Симона, ты хоть изредка вспоминай, что я старше тебя всего на два года, не на десять.
Если ей верить, то я помню все с момента собственного рождения. Выдумки Симоны пошли гулять по миру с дополнительными украшениями. Но в главном она права: мы действительно сестры, нет, скорее всего, не по крови, иначе отец сказал бы мне о ней, как о Герберте, а по духу. Такая связь иногда крепче родственной.
Отец обращался с ней не совсем как с дочерью, хотя заботился и ценил. Ее мать занималась непонятно чем, этого даже сама Симона не знала. Временами где-то работала, то торговала цветами, то была прислугой, то просто где-то болталась и год за годом плодила детей. Причем, дав жизнь очередной дочери, мамаша не задумывалась, куда потом денется ребенок, ее дело родить, а выживает пусть сам.
Симоне повезло, что в то время у нее был хотя бы формальный отец. Жан Берто, как мог, заботился о всех дочерях своей непутевой супруги, но Симона предпочитала считать своим отцом Луи Гассиона и выступать с ним. Я не ревновала ни тогда, ни сейчас, и даже когда жизнь, а вернее, ее дурь развела нас, не держала на бедолагу обиду.
Гассион подбрасывал свою названую дочь в воздух, гнул, словно та была без костей, сам ходил на больших пальцах, тоже гнулся, а я обходила зрителей с тарелочкой и, передразнивая отца, хриплым голосом убеждала раскошелиться. Публика с удовольствием хохотала и бросала монетки (уже без большого удовольствия).
Симона ревновала меня к отцу, постоянно подчеркивая, что я ничего не умею, что это они с Гассионом зарабатывают деньги, а я только собираю. Меня это задевало мало, но однажды я все-таки схитрила, сказалась больной и не пошла с ними. Сборы оказались заметно меньше. Думаю, Симона ревновала еще и к тому, что отец держал меня при себе, а ее у ее матери. Она обижалась, но мне кажется, что сам Гассион никогда не признавал Симону своей дочерью. Ее мать могла родить ребенка от кого угодно, слишком со многими спала.
Симона говорила, что это потому, что у меня нет матери, а у нее есть. Если честно, то такой матери, как у нее, мне не нужно. Хотя и таких, какие были у меня, тоже…
Отец приноровился давать объявление в газету, что требуется молодая женщина для ухода за девочкой. Этой девочкой, вполне способной ухаживать за кем-то самой, была я. Уход за мной очень быстро и плавно перерастал в любовную связь отца с моей «гувернанткой». Им бы задаться вопросом, откуда у нищего уличного акробата деньги на воспитательницу для дочери, но женщины, очарованные Луи Гассионом, просто не успевали ничего спросить, как давали согласие и становились моими мачехами.
Конечно, не каждый раз женщина у отца появлялась после объявления, но бывало… И, конечно, далеко не все они относились ко мне тепло и ласково. Это зависело не только от выручки, которую я приносила, но и от того, были ли у мачех собственные дети. Если были, то мне приходилось несладко, хотя я никогда не жаловалась отцу. Но однажды поняла, что он привязался к очередной «Изабелле» не на шутку, а та меня вовсе не жаждет видеть каждый день, и решила… бежать!
Куда? В Берне, в дом к «маме Тине». Ведь я была уже взрослой – целых десять лет! Но главное, я была хитрой. Сначала сумела припрятать ассигнацию, которую нашла на земле. Потом припрятала платье, понимая, что, сбежав из дома, мне нужно будет переодеться. О, это такое приключение!.. Писать я не умела, но считала и читала, особенно вывески, вполне прилично. Расспросив между делом у подвыпившего отца дорогу в Берне, то есть выяснив, что ехать нужно поездом и даже делать пересадку, я все хорошенько запомнила и еще пару раз переспросила.
Конечно, мне самой билет не продали бы, но помог молодой человек лет шестнадцати, который, как и я, старался выглядеть как можно старше. На мою просьбу, не может ли месье взять мне билет, любой взрослый мужчина ответил бы отказом или вообще позвал полицейского, а этот мальчишка солидно кивнул и билет купил.
Мне удалось попасть в поезд, но я страшно боялась контролера, который запросто мог отправить в полицию ребенка, едущего без взрослого. В купе я развила такую бурную деятельность, в красках живописав жестокость отца и мачехи, которые снова меня избили, и доброту бабушки, к которой сбежала, что пассажиры прониклись ко мне сочувствием. Дама, сидевшая рядом, при проверке подавала мой билет вместе со своим, получалось, что мы едем вдвоем. Мало того, пожилой пассажир обещал помочь мне пересесть на нужный поезд.
Отец примчался за мной в Берне довольно быстро, уже через пару дней. Ему не пришлось долго ломать голову, куда именно сбежала его дочь, слишком подробно я расспрашивала о дороге в Берне, к тому же кто-то из наших видел меня на вокзале.
Бабушка вовсе не была в восторге от моего появления, она прекрасно понимала, какое влияние может оказать ее бизнес на подросшую уже девочку. Из прежних пяти «девушек» в заведении сменились четыре, но они были рады приласкать малышку. То и дело слышались восклицания вроде «какая же ты худенькая!» или «твои волосы невозможно привести в порядок, чем ты их мыла?!».
Меня снова отмыли, накормили и даже приодели, переделав пару платьев из своего гардероба. Все удивлялись, как может ребенок жить в бродячем фургоне.
Я очень боялась появления отца, но твердо знала только одно: я больше не хочу мотаться по всем городам Франции, ночевать где попало и терпеть одну женщину рядом с отцом за другой. Лучше я буду с бабушкой. Я хотела пусть бедный, но дом, пусть нищий район, но постоянное место.
Бабушка не позволила приехавшему за мной отцу побить меня, хотя, думаю, следовало бы. Они долго сидели, беседуя обо мне и о жизни. Мне удалось подслушать кое-что. «Мама Тина» выговаривала сыну за бродяжничество и то, что он гробит себя, выкручиваясь, как винт.
– Ты сломаешься и останешься инвалидом. Эдит еще совсем мала, что с ней будет? Неужели не хватит бродяжничать и выполнять немыслимые трюки?
– Хорошо, я осяду в Париже, найду какую-нибудь работу. Девочка прекрасно поет, знаешь?
– Неужели ты и ее хочешь заставить жить на улице?
– Я найду постоянную работу… Хотя это тяжело.
– И постоянную добрую женщину.
– Это еще тяжелее…
Мы уехали в Париж, отец даже не стал расспрашивать меня, почему я сбежала. Он продал свой грузовичок, но выступать на улицах не перестал, хотя гибкость была уже совсем не та. И мимо женщин тоже не проходил, мало того, снова дал объявление у газету, и в нашем доме, если можно так назвать какую-то темную конуру с двумя матрасами, поставленными на обломки кирпичей, и колченогим столом, появилась Жанна, мать моей будущей сестры Денизы. Иногда я думаю, как же должна довести жизнь дома, чтобы бежать из него не как я в Берне, а вот в такую конуру, как наша, безо всяких надежд выбраться из нищеты?
Но сначала произошла одна интересная встреча.
– У тебя есть платье почище?
Нашлось, детской одежды в мусорные баки выбрасывали немало, дети состоятельных парижан вырастали из своего тряпья, не успев его сносить, а я была столь маленькой, что для меня легко подходили платьица пятилетних девочек.
– Пойдем.
Мы пришли в кафе, кажется, это был «Батифоле», но я не уверена. Отец явно кого-то искал взглядом. Вдруг к нам быстрым шагом направилась какая-то женщина. Меня поразила ее странная улыбка – чуть вызывающая и одновременно заискивающая. Причем смотрела она не столько на папу, сколько на меня.
– Это твоя мать. Настоящая.
Что должен чувствовать ребенок, в десять лет впервые увидевший свою мать, которая к тому же бросила свое дитя в полугодовалом возрасте фактически на погибель и столько лет не интересовалась моей судьбой? Я не знаю, что должен чувствовать, но я не чувствовала ничего. Или не помню, чтобы что-то чувствовала. Для меня слово «мама» было пустым звуком. «Мама Тина» означало еду и какой-то уход, а просто «мама» ничего.
Но с ней оказался еще мальчик, как потом выяснилось, на три года моложе меня.
– Я Герберт. Так ты моя сестра?
– А ты мой брат?
– Погуляйте-ка у кафе, пока мы поговорим…
Мы с Гербертом вышли на улицу. Было холодно, и гулять совсем не хотелось, мы оба кутались в плохонькую одежонку. Я успела только заметить, что он одет еще хуже, чем я, и тоже тонкий, как стебелек.
– Ты живешь с мамой? – как старшая, я решила показать пример вежливости. К тому же, я помнила, что совершила такое большое путешествие самостоятельно, значит, уже взрослая.
– Сейчас да.
– А раньше?
– Раньше в приюте.
Я очень мало общалась со сверстниками, фактически совсем не общалась. Сначала мешала слепота, а потом их рядом со мной не было, мы же выступали с отцом вдвоем. Но о приютах не слышала ничего хорошего, только ужасы. Главной угрозой отца было: «Вот отдам тебя в приют!», потому казалось, что ничего страшней приюта быть не может. Я смотрела на мальчика, который жил в приюте и не умер, во все глаза.
– И… долго?
Поинтересовалась почему-то шепотом, словно, услышав мой вопрос, брата могли схватить и снова отправить в страшный приют.
– Четыре года.
Четыре года?! Боже. Какой ужас!
– И… как там?..
Он чуть помолчал, но потом тихо произнес:
– Там кормят.
– Чем?
– Разным. Три раза в день.
Я не понимала уже ничего. Он что, готов в этот самый приют вернуться? Требовалось срочно сменить тему разговора, пока я окончательно не запуталась!
– А сейчас вы живете с… мамой?
– И еще с ее другом Шарлем.
Дольше нам поговорить не дали, из кафе вышли отец с… этой мамой. Она схватила Герберта за руку и потащила куда-то, даже не посмотрев в мою сторону, а отец крепко взял за руку меня, словно боясь, что я могу побежать за ними.
Зря боялся, вот уж чего мне не хотелось вовсе, так это бежать за незнакомой теткой, даже назвавшейся мамой, тем более она отдала Герберта в приют.
– Папа, а в приюте кормят?
– Что?
– Герберт сказал, что в приюте дают кушать три раза в день. Он жил там четыре года. Почему, папа?
– Твоя мамаша кутила в Константинополе. Наркоманка чертова!
Было видно, что он зол.
– Ты сердишься на нее?
– Я хотел получить развод, чтобы жениться снова, но она не торопится. Даже этого мальчишку записала на меня, будто я отец. Нагуляла черт знает от кого, а записала на меня!
Мне вдруг стало очень жалко маленького Герберта, нагулянного черт знает от кого и четыре года проведшего в приюте; хоть там и кормят три раза в день, но, наверное, бьют или делают еще что-то страшное.
– Папа, он хороший мальчик. Он даже не жаловался на приют…
– Ему, небось, в приюте было лучше, чем у этой кукушки.
– Почему кукушки?
– Женщины, которые бросают своих детей, называются кукушками.
– А я думала, что это птица…
– И птицы кукушки тоже подбрасывают свои яйца в чужие гнезда.
Я уже не помню, что еще пыталась узнать у отца о кукушках и несчастном Герберте, знаю, что о матери не расспрашивала. Но немного погодя выяснилось, что она снова сбежала, бросив Герберта во второй раз, теперь у своего друга Шарля, который не стал долго держать мальчика у себя и сдал его в приют.
Больше мы довольно долго о ней не вспоминали вообще.
И все же на отца эта встреча и мои расспросы повлияли, он попытался организовать хоть какое-то подобие нормальной жизни. Мы больше не разъезжали по всей стране, не ночевали в фургоне, не мерзли в подворотнях, не чая дожить до утра, не мотались по городам и весям. Хотя выступать на улице не перестали, я все больше и чаще пела.
Отец развелся с той, что называла себя моей матерью, я была счастлива, но не из-за развода, а потому что для этого отцу пришлось хотя бы на время перебраться в Берне и поселиться у бабушки. Но довольно быстро выяснилось, что я хочу в Париж. Я уже была пропитана духом парижских улиц, духом свободы, и жизнь в тихом Берне казалась болотом.
У Жанны родилась девочка, которую назвали Денизой. Я не ревновала отца к сестричке, я как-то мысленно отдалилась и от него тоже. Пятнадцать лет не десять, когда хочется держаться за отцовскую руку или прятаться за его спину. Я считала себя достаточно взрослой, чтобы зарабатывать себе на жизнь самостоятельно.
– Ты не должна работать на улице, Эдит. Постарайся найти работу, как у всех.
Я обещала. И постаралась. И нашла. Пятнадцатилетнюю дуреху ростом с десятилетнего ребенка отправили торговать молочными продуктами. Я долго там не продержалась, и в другом месте тоже, и в третьем. Но я не жалею, совсем не жалею. Тому, кто вырос на улице и привык к аплодисментам, очень трудно запереть себя на целый день в четырех стенах и слышать только приказы.
Моего отношения к Симоне не понимает никто. И не поймет, если сам не испытал того же. Разве я могла отказаться от своего отца, каким бы он ни был – удачливым или не очень? Даже от матери, которая принесла мне столько горя? Пусть она была наркоманкой, пусть исковеркала все мое детство, пусть я выжила не благодаря, а вопреки ей, Лин Марса все равно моя мать. Мать я почти не видела, а когда стала известной, она до самой своей смерти меня шантажировала, выкачивая деньги. Но я платила вовсе не потому, что боялась какого-то разоблачения, все равно все прекрасно знали о моем прошлом, я платила потому, что сумела выбраться из нищеты, подняться с самого дна, и чувствовала себя всегда и перед всеми, кто не сумел или не был столь везуч и талантлив, как я сама, несколько виноватой и обязанной помогать.
Знаешь, Тео, давай не будем верить обвинениям против Симоны. Даже если она и брала себе что-то из моего, то это просто по привычке. Ведь в юности мы жили единым целым, когда все было общим, особенно несчастья. Я знаю, что она выдумывает много глупостей, утверждает, что из Эдит Гассион стала Эдит Пиаф благодаря в первую очередь ей, а уж потом кому-то другому и даже самой себе.
Знаю, что, когда меня не будет, она еще многое придумает такого, чего просто не могло быть. Знаю и прошу об одном: не мешайте ей. Пусть рассказывает небылицы, если ей так легче. Те, кто знает меня, и так поймут, где глупые выдумки, а зрителям совершенно неважно, присутствовала ли где-то Симона Берто и была ли она вообще моей сестрой, для моих зрителей куда важней то, какие я песни пела и как держалась на сцене.
Симона – мой черный ангел, гирей висевший на ногах почти всю жизнь, но тем ценней, что я все же смогла подняться даже при таком грузе. Ведь смогла, Тео? Пусть она тешит свое самолюбие уверенностью, что всегда пела лучше меня, пусть завидует, пусть радуется, что теперь мне уже не в чем завидовать. Сейчас только две причины для зависти по отношению к старой развалине Эдит Пиаф – любовь зрителей и твоя любовь, Тео. Ни то ни другое ей не было и не будет дано, потому мне жаль Симону Берто, потому и прошу не преследовать ее даже за совершенное и за нелепости, которые она обо мне рассказывает.
Когда она была в моей жизни, я звала ее иначе – Момоной. А теперь вот зову Симоной, потому что в моем представлении это два разных человека. Момоне я верила, с Момоной рядом прожила столько трудных и прекрасных дней, столько всего вынесла, делила жалкий угол и последние су, горе и радость, надежду и отчаянье, Момона – это та, что не могла предать или распустить гадкий слух. Она неприкосновенна в моей памяти.
Эта память разделила одного человека на Момону и Симону. Первая осталась в моей душе, а вторая… вторая рядом многие годы – и до моего успеха, и при нем. Первая была словно моей собственной половинкой, вторая завидовала и пользовалась моим успехом, как рыба-прилипала. Первая поддерживала меня хотя бы одним своим существованием, вторая беззастенчиво обирала (мне не жалко, совсем не жалко!) и обливала грязью за глаза. Эту вторую ненавидели все мои друзья, и только я верила, что в ней живет та, первая.
Нужно прожить большую и трудную жизнь, чтобы понять, что не было первой и второй, была только вторая, которая действительно считала, что судьба несправедливо обошлась с ней, дав мне больше певческого таланта, а потому я должна всю жизнь платить ей. Я платила…
Но теперь я зову ее Симоной, пусть Момона так и живет только в моей памяти, ее не стоит трогать, должно же быть и у меня в прошлом что-то хорошее.
К этому времени Симона, забыв о моей «неспособности» зарабатывать деньги и основательно потеряв свою собственную гибкость, просто прилипла ко мне. Дело в том, что ей вообще нечем было зарабатывать, кроме собственного тела. Но она, как и я, мала ростом, тоща и непривлекательна внешне, да и в «жрицы любви» не спешила. Работать где-то постоянно «сестричка» тоже не умела, она привыкла к свободе улицы. Но улица могла прокормить гимнаста Гассиона с его дочуркой, но никак не Симону Берто, зрителей на улице мало интересовала девушка, умевшая крутить сальто.
Зато я пела. Причем я уже прошла школу пения в казармах, куда мы ходили выступать сначала с отцом, а потом с парой – Раймоном и Розали. Мы знали подходящие песенки, изучили непритязательные вкусы публики, я научилась играть на банджо и губной гармошке, хотя на гармошке мне не нравилось и это мешало, а банджо сильно отвлекало.
Знаешь, когда на улице поешь перед зрителями песни о любви и страданиях и при этом подыгрываешь себе, слушают внимательно. Однако стоит затихнуть голосу и струнам, как публики след простыл, то есть нужно успеть собрать деньги, пока звучит песня, иначе хороших заработков не будет. Это означает, что выступать нужно вдвоем, да и без сбора денег вдвоем надежней: напарница поможет, поддержит, подстрахует.
В каждом деле есть свои тонкости, я знаток улиц и артистических заработков на них. В любом дворе, на любом перекрестке я сразу скажу, сколько можно заработать там за час. Когда сейчас вижу уличных артистов, хотя это бывает очень редко, им не позволяют петь или крутить сальто, мгновенно понимаю, на что человек годен. Знаешь, бывало, когда я подходила и пела вместе с такой девушкой. Дважды меня просто… прогоняли, считая конкуренткой, но чаще узнавали и деньги бросали щедро.
Один раз за такой «концерт» я заработала столько, сколько раньше получала за неделю. Девушка, которой я помогала петь и отдала всю выручку, была счастлива. Правда, пришлось посоветовать ей сменить репертуар или перестать петь вообще, голоса у бедолаги не было. Я пригласила ее работать и жить у себя, но, когда она пришла, Симона прогнала конкурентку прочь. Она вообще очень ревниво относилась ко всем, кто крутился вокруг меня.
О девушке я узнала много позже, снова случайно встретив на улице, только теперь… выбрасывающей своего новорожденного малыша в мусорный бак! Да-да, было и такое. Глупышка, видно, родила от кого-то и решила оставить ребенка у помойки в надежде, что его подберут добрые люди. Меня полоснул по сердцу взгляд светло-голубых глаз. Не сразу вспомнила, где уже видела такие, а потом бросилась догонять.
Я дала ей чек на большую сумму денег, которых было бы достаточно, чтобы жить, пока младенец не подрастет, не знаю, что сделала эта глупышка, надеюсь, не просадила деньги в пивной и не отдала малыша кому-то. Если честно, вчерашней бездомной очень трудно с толком потратить большую сумму, этому тоже нужно учиться. Но когда я предложила в случае необходимости прийти в мой дом, она фыркнула:
– Уже приходила, мадам! Меня прогнали, как шелудивую собаку.
– Кто?!
– Откуда я знаю, ваша помощница…
По описанию я поняла, что это была Симона.
Симона ревновала меня всегда, ко всем и ко всему. Глупо, но она даже радовалась, что я по утрам была не в состоянии петь нормально. Не знаю, может, потому, что родилась ночью, может, еще почему, но мне действительно легче во второй половине дня или ночью, по утрам я безвольная и бессильная. Симона наоборот, она утром свежа и бодра, а ближе к полуночи клюет носом, словно старая карга. Она моложе меня, но пыталась и здесь дать понять, что без нее я никуда. Пришлось предложить… несколько дней попеть по очереди.
Выглядело это так. Мне просто надоело ворчание Симоны, что я ни на что не годна, что она вынуждена и петь, и играть, и деньги собирать. Эта дурочка была убеждена, что поет не хуже меня.
– Хорошо, давай будем петь по очереди.
– Как это?
– Сегодня ты, а я собираю деньги, завтра наоборот.
Самоуверенная Симона согласилась. Я тоже была самоуверенной, иначе на улице не проживешь, но всегда готова признать, что не могу крутить сальто, как она, играю на банджо хуже, но пою-то лучше!
Симона вполне привычно начала день, заработала первые франки, мы смогли сходить позавтракать. Обычно после этого петь начинала я и продолжала уже до позднего вечера. Но на сей раз продолжила Симона. У нас уже были постоянные слушатели даже из числа полицейских! Они немного подождали, надеясь, что петь начну я, но я только играла.
– Эй, малышка, спой нам «Шаланду».
Я пожимала плечами, показывая на горло, дескать, не могу.
Симона пела заказанную «Шаланду», однако деньги собирать было не с кого, зрители расходились еще до окончания песни. Так повторялось на одной улице за другой. Еще часа через три Симона просто охрипла, и мы ушли домой. Заработка не хватило даже на обед.
– Это потому, что я пела с самого утра.
– Хорошо, завтра я наверстаю упущенное.
На следующий день я действительно пела с удвоенным чувством и напором. Мы заработали больше обычного, но десять франков я положила в карман.
– Это что? – в голове Симоны звучала уже не просто ревность, а настоящая обида, обычно мы делили деньги поровну или тратили вместе.
– Это на завтрак, чтобы тебе не пришлось петь с самого утра. Поедим, и начнешь с обеда.
До сих пор помню, как вытянулось лицо моей названой сестры.
– А ты завтра петь не будешь?
– Завтра твой день.
– Но, Эдит…
– Мы же договорились?
На следующий день заработок был никудышным, мы ужинали хлебом и на завтрак отложить не смогли.
– Я буду петь с утра, пока ты придешь в себя.
– Нет, не нужно, я справлюсь сама.
Я заставила себя встряхнуться и пела с самого утра. Конечно, это тяжело, но уже через час у нас был завтрак. Дальше все пошло как обычно – я пела, Симона собирала деньги. У нас снова было на что обедать и ужинать. Симона рассказывала журналистам, что зачастую нам не на что было завтракать и она вынуждена была драть горло по утрам, чтобы заработать на кофе с булкой. Это неправда, да, мы были похожи на нищих, редко мылись, потому что в нашей комнатухе вовсе не было воды, наша одежда больше подходила для мусорного бака, чем для носки, но бывало, в день мы зарабатывали по триста франков, это большая сумма для двух не обремененных семьей девушек. На эти деньги можно было одеться и вымыться, но мы предпочитали потратить все на ресторан.
Удивительно, но нас в таковые пускали; конечно, не в богатых районах Парижа, в шестнадцатом округе нас и к ресторану не подпустили бы, но все равно. Мы просаживали деньги, на которые спокойно могли бы жить несколько дней, если экономно. Жить, не выходя для выступлений на улицу, понимаешь, но стремление петь каждый день выше наших, во всяком случае моих, сил. Даже если не платили, я бы все равно пела.
Это болезнь, Тео, которой ты, к сожалению, не заражен. Но если видеть глаза слушателей, а когда зал большой, свет софитов яркий и глаз не видно, то просто ощущать присутствие слушателей, слышать аплодисменты жизненно важно, значит, ты болен этой болезнью. Я больна, заразилась в восьмилетнем возрасте, впервые услышав аплодисменты в свою честь, и больна до сих пор, причем болезнь усиливается. Тебе не понять, когда каждый выход к публике словно первое свидание, когда тебе непременно нужно завоевать ее, а для этого ты делаешь все, на что способна.
Это верно, если я не сумею завоевать сердца тех, кто сидит в зале, они больше никогда не придут на мой концерт, как бы меня ни расхваливали газеты или радио:
– Эта Пиаф? Нет, я слышал ее…
Действительно первое свидание, которое определяет, будешь ли ты симпатична и желанна каждому из сидящих в зале в следующий раз. Именно поэтому я говорю, что не пою для всех, я пою для каждого. Для всех – это «Марсельеза», потому что гимн, потому что символ Франции. А песни о любви для каждого, для каждой, так, словно они единственные во всем зале. Только тогда зал встанет не из-за «Марсельезы», а по велению души. Знаешь, я очень люблю «Марсельезу», но горжусь, когда после «Милорда» мне аплодируют стоя.
Знаешь, чего мне все время не хватает? Свободы. Да, я была нищей на улицах Парижа, но нищей только в смысле отсутствия звонких монет в дырявых карманах, хорошего жилья и новой одежды. Зато я была богата Свободой! Именно так – с большой буквы и даже большими буквами. Хотела – пела, не хотела – оставалась лежать на тощем матрасе голодной.
Мы работали только ради пропитания, собирали брошенные монетки, тут же покупали на них еду, не заботясь, останется ли что-то на завтра. Завтра снова заработаем. Еда из консервных банок, мытье изредка, старая, часто рваная одежда, которую не стирали – когда слишком изнашивалась, просто выбрасывали, подбирая в мусорных баках другую, чуть менее рваную. Я даже не представляла, что одежду нужно стирать. Зачем?
Новая одежда? Конечно, я видела женщин, мужчин, детей в красивой, новой одежде, видела витрины магазинов с разряженными манекенами, видела дорогие украшения, но для меня куда важнее были аплодисменты, которые слышались вокруг. «Малышка Эдит, спой еще вот эту песню!»… «Еще эту…»…
Однажды на улице я встретила Малыша Луи. Он смотрел на меня во все глаза, словно увидел самую красивую девушку на свете. Малыш Луи взял меня за руку и повел с собой в никуда. Я пошла. Я жила в мире, где от предложения любого мужчины не отказываются; честно говоря, мне даже в голову не пришло отказаться.
Мы снимали крошечную конуру в затхлой гостинице, но я ничего другого в жизни не видела; конечно, у «мамы Тины» было почти нормальное жилье, но ведь я-то в то время была почти слепой. Мне казалось вполне нормальным спать на матрасе, поставленном на кирпичи, есть из консервных банок и не мыться.
Малыш Луи был очень заботливым, он работал разносчиком в магазине и исхитрялся то и дело что-то приносить с работы, так у нас появились тарелки, вилки, еще какая-то ерунда из домашнего скарба. Луи казалось, что я должна бы старательно обихаживать наш «дом», он ждал, что я стану хорошей хозяйкой, буду стирать, готовить еду, рукодельничать…
Но это не для меня, я уличная девчонка, из всей домашней работы мне нравилось и до сих пор нравится только одно – вязание. Стирать? Фу, какая глупость! Придумывать какие-то блюда и подолгу возиться, пытаясь превратить нищий стол в богатый? Нет уж! Если бывали монеты, то еду проще купить в лавочке или кафе, а заношенные вещи просто выбросить.
Луи, может, и бросил бы меня, но очень скоро оказалось, что я беременна. Я носила ребенка с удовольствием: мне казалось, что теперь уж нищенское существование на улице ушло в прошлое; правда, о том, откуда возьмутся деньги на любое другое и каким оно будет, я почему-то не задумывалась. Я хотела иметь настоящую семью, но ничего не делала для этого – если честно, то я просто не представляла, что нужно делать, в моей жизни никогда не было семьи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?