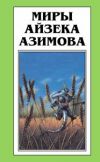Текст книги "Эдит Пиаф. Жизнь, рассказанная ею самой"

Автор книги: Эдит Пиаф
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Однако слушать оперный репертуар он не собирался.
– Довольно. Конечно, это все никуда не годится.
Мелькнула мысль: ну вот и все. И еще про туфли – не сперли ли их?
– Репертуар нужно менять. Жан, найди ей «Бездомных девчонок», «Нини – собачья шкура» и, пожалуй, «Сумрачный вальс». Этого для начала будет довольно. Ты знаешь ноты?
– Нет, зачем?
Пианист хмыкнул, но не насмешливо, а почти весело.
– Читать-то хоть умеешь?
– Обижаете.
– Тогда выучишь до завтра эти три песни, а завтра в это же время придешь репетировать. Только не опаздывай, позже будет занято. Жак Юремер тебе поможет.
– А потом? – если честно, то я не очень поверила в происходящее.
– А потом выступишь в пятницу, и если все будет как я предполагаю, то тебе не придется больше ходить в тапочках по осенним лужам. У тебя есть что надеть?
– А что нужно?
– Ну-у… юбка, пожалуй, сойдет… А вот верх и обувь…
– У меня есть черный свитер, вернее, я вяжу.
– Успеешь до пятницы?
– Да!
В тот момент мне было все равно, уже одно то, что я буду петь, пусть хоть один вечер, вот в этом роскошном заведении, ставило новую жизнь на недосягаемую высоту.
– Вот тебе деньги, купи туфли. Как тебя зовут-то?
– Эдит Гассион.
– Не пойдет…
– А еще Таня… Югет Элиа… Дениза Же…
Лепле просто коробило после каждого произнесенного мной имени.
– Достаточно! Это все не годится. Эдит, пожалуй, можно оставить… Малышка Эдит… Нет… Что ты там пела про воробья? «Жила, как воробушек»? Воробушек!
Пианист Жак Юремер отозвался со своего места:
– «Малышка Муано» есть.
– А мы сделаем Пиаф. «Малышка Пиаф»! Это будет сенсация, или я ничего не понимаю в этой жизни. Иди, учи текст и купи, пожалуйста, нормальные туфли вместо тапочек для покойника, не то простынешь и потеряешь голос.
Симона изумленно таращила глаза на мои новые туфли, которые я надеть в магазине не решилась, так и принесла в кармане пальто (кстати, старые никуда не делись), на еду, которую разложила на кровати за неимением стола:
– Ты все-таки была там?
– Да, меня берут на работу. В пятницу выступление.
– Э, здесь что-то не так. Если берут, то почему выступать только в пятницу, если сегодня понедельник?
– Нужно репетировать.
– Зачем, ты что, без их глупых репетиций спеть не способна? По-моему, они просто придираются, чтобы не заплатить. Помучают до пятницы, выставят посмешищем и выгонят, ничего не заплатив. Ладно, некогда, ты и так долго проходила, нам пора, Лулу будет злиться.
– Я не пойду.
– Эдит, если мы сильно опоздаем, нам не заплатят за сегодняшний день.
– Я принесла еду, ты же видишь.
– А завтра?
– Не знаю, но сегодня я не пойду.
Я была не в состоянии петь в пивной Лулу после того, как увидела «Джернис».
– Мне нужно выучить три песни до завтра. К тому же надо довязать свитер, иначе выступать будет не в чем.
– В приличных заведениях не выступают в свитерах!
Симона была права в своих многочисленных сомнениях, помню, она возражала против всего: того, что выступать только в пятницу, что мы потеряем работу у Лулу, а новой не будет, что меня заставят петь черт-те что, что я не успею довязать свитер…
– Если буду болтать, то точно не успею. Читай мне песню вслух, пока я буду вязать.
– Кушать хочется…
– Давай поедим и примемся за работу. Я должна выступить и получить оплату хотя бы за один день!
Но подругу все терзали сомнения:
– Сколько тебе должны заплатить?
– Не знаю…
– Ничего себе! А если то, что тебе сегодня дали на туфли и еду, и будет оплатой?
– Завтра спрошу, но этот Лепле показался мне хорошим человеком.
– Все они хорошие, пока не надо платить…
Но когда мы уже поели, я принялась вязать свитер, а Симона читать текст песни, чтобы выучить ее, она вдруг расплакалась.
– Что?
– А куда денусь я? Без тебя, тем более после прогула, Лулу меня выгонит. На улице в одиночку тоже нельзя. И Альберту я не нужна…
– Симона, мы же сестры, ты всегда это твердила. Мы всегда будем вместе. Если я буду работать в таком кабаре, то заработка наверняка хватит, чтобы жить вдвоем. Будешь просто рядом со мной. Помогай, не то и правда не успею.
Песни я выучила, все же память всегда была хорошей. На следующий день встал вопрос, идти ли со мной на репетицию Симоне.
– Конечно, идти!
Кабаре произвело на Симону огромное впечатление, там моя подруга разговаривала шепотом и уже ни в чем не сомневалась.
А на меня произвело впечатление другое.
В кабаре нас, вернее, меня явно ждала Ивонн Балле. Ее узнала Симона, тут же принявшаяся дергать меня за рукав и шипеть:
– Это ее портрет на афише в «Паласе»! И у «Казино де Пари»!
Красивая женщина о чем-то беседовала с Лепле. Тот кивнул нам, приветствуя, и так же кивком показал, чтобы я шла к роялю и занималась делом. Пришлось подчиниться, тем более Жак Юремер уже наигрывал какую-то мелодию. Симона тихонько присела в уголке, не спуская глаз с Ивонн. Видеть воочию ту, что ты видела на афишах роскошного казино, конечно, заманчиво. Я решила, что Лепле пригласил в свое кабаре и Ивонн. Неужели я буду петь с ней на одной сцене?!
Хорошо, что Юремер сразу занял меня делом, иначе я просто не смогла бы выдавить из себя ни звука.
– Какую из песен ты выучила?
– Все три.
– С какой начнем?
– Мне все равно.
– Тогда с «Девчонок». Слушай, вот это мелодия.
Он начал наигрывать, я постепенно стала подпевать, его игра все усложнялась, ведь я не привыкла к нормальному аккомпанементу, на банджо мы просто играли мелодию песни, которую пели. Жаку пришлось проделать это же и на рояле. На мое счастье, он был сообразителен и сразу понял, что я умею, а чего нет.
– Тебе нужно выучить нотную грамоту.
– Чего?
– Чтобы уметь петь по нотам и играть на рояле.
С чего я заупрямилась, не знаю.
– Лучше на аккордеоне, это более подходящий инструмент для парижских улиц.
Юремер хмыкнул:
– Знаешь, в этом что-то есть! Луи, может ей и правда подыграть на аккордеоне?
Лепле и Балле внимательно слушали, как мы репетировали. Временами Ивонн что-то говорила Луи, но в основном просто слушала. Не знаю, как долго все продолжалось, мне очень понравилось петь под хороший аккомпанемент, работа приносила удовольствие, к тому же я никогда в жизни не репетировала. Чтобы разучить песню, ее просто нужно спеть несколько раз, а там уж как получится. Теперь я не просто повторяла песню, мы с Жаком раз за разом проходили один и тот же отрывок, чтобы мелодия закрепилась в нужной тональности. Тогда я не представляла, что такое тональность, но чувствовала, что Юремер прав, так получалось куда лучше.
Он показал мне, как на нужную тональность настраиваться, заставив несколько раз спеть основные аккорды.
Репетицию прервал Лепле:
– Достаточно, не то у нее голос сядет.
– У меня? Никогда! Это же не на улице петь!
Лепле расхохотался:
– Пожалей пианиста, он уже устал.
Я поняла, что времени прошло немало.
Жак просто улыбнулся:
– Молодец, девочка, если будешь так работать, станешь настоящей звездой.
Ивонн подошла ко мне:
– Ты действительно молодец. Лепле прав, называя тебя самородком.
Она говорила еще что-то, но я была так смущена, что мало что понимала. По сравнению с красивой, ухоженной Ивонн я выглядела уличной замарашкой, какой, собственно, и была. Мы вымылись, как могли, но наша одежда все равно была старой и не вполне чистой, волосы хоть и причесаны, но стрижены плохо, ногти никогда не знали нормального маникюра. На улице все это ни к чему, да если бы мы и смогли привести себя в порядок, на улице это вызвало бы скорее отторжение, чем участие, там не любят тех, у кого все хорошо, кто выглядит чистенькой конфеткой. И никогда не станут кидать монетки девушке с маникюром. Если у тебя есть деньги на приведение ногтей в порядок, значит, ты не дошла до края и не смеешь зарабатывать на улице.
На мне черный старый свитер и единственная, тоже черная приличная юбка, туфли пусть и новые, но на босу ногу. Не знаю, почему мне не пришло в голову купить еще и чулки, в октябре это казалось почти излишеством, вот зимой – другое дело, когда в мороз без чулок не обойтись…
Ивонн одета в красивое платье, от нее вкусно пахло духами, прическа волосок к волоску, и на шее цепочка с кулоном. И туфли на высоком каблуке, но не такие, как у девушек из заведения «мамы Тины», а изящные.
Я вдруг почувствовала всю свою ущербность, вернее, ущербность своего внешнего вида. Мы с Симоной просто не видели вблизи хорошо одетых, в меру накрашенных женщин, а если и вдыхали запах хороших духов, то только когда красивая женщина проезжала мимо. Обычно таких уличных замарашек, как мы, не подпускали к подъездам богатых ресторанов или театров, а в забегаловки вроде заведения Лулу или в дансинги, куда наведывался Альберт, по-настоящему ухоженные женщины не ходили. Это был другой мир, совсем незнакомый, и я почувствовала небывалое волнение.
Ивонн не погнушалась моим неприглядным видом, обняла за плечи. И вдруг взяла с кресла большой белый шарф и накинула на мои плечи:
– Пусть это будет твой талисман. Он поможет тебе на первом выступлении.
Как в воду глядела – помог.
В тот момент я поняла, что больше никогда не смогу вернуться к прежней жизни, что если меня отторгнут в этом раю, то скорее вообще перестану петь и жить, чем снова вернусь в пропахшее дешевым вином и потом заведение Лулу. Ну, разве только чтобы чем-то помочь девчонкам, которые были ко мне так добры.
Это же сказала и Симона. Она молчала всю дорогу домой, а там вдруг разрыдалась, бросившись на кровать. Мне не нужно было объяснять, почему она плачет, у самой в горле стоял комок, а в глазах слезы.
Из-за эмоций мы едва не забыли об очень важной вещи – свитер так и не был довязан! Я не успела его довязать даже к пятнице, той самой пятнице, которая означала для меня либо полную победу, либо полное поражение.
Я с увлечением репетировала с Юремером в кабаре, дома за вязанием, но свитер все равно закончить не успела, ко дню выступления у него не хватало одного рукава.
Это столь известный случай – как я выступала с одним рукавом, что и рассказывать не стоит, но я расскажу. Лепле был в ужасе:
– Сказала бы, что тебе нечего надеть, я бы дал денег на нормальное платье!
Выручила все та же Ивонн, она зашла ко мне в гримерку (мне даже выделили личную гримерку, в которой, забившись в уголок, сидела Симона. Подозреваю, просто чтобы меня заранее никто не увидел, я была сюрпризом). Лепле с досадой показал певице на меня:
– Ивонн, ты только посмотри!
Та все поняла с первого взгляда.
– Ничего страшного, успокойся и не дергай девочку.
Она покрутила в руках свитер, потом лукаво посмотрела на меня:
– Шарф с тобой?
– Да.
– Надевай свитер.
Вместо недостающего рукава на моей тощей руке оказался тот самый красивый белый шарф. Правда, чтобы его закрепить, у нас нашлась всего одна портновская булавка. Не слишком надежно, но ничего другого просто не нашлось.
– Я же говорила, что пригодится! Руками не размахивай и старайся не дергаться. Помаду бы сменить, где ты только нашла такую яркую!
Но Лепле махнул рукой:
– Пусть так!
Он схватил меня за ту руку, где рукав был, и потащил в зал:
– Пойдем, не то посетители начнут расходиться, а я им обещал нечто заманчивое.
Меня задело то, что я это самое заманчивое, но обижаться некогда.
– Друзья, несколько дней назад на улице Труайон я услышал, как поет вот эта девочка. Я не мог не привести ее спеть вам. Как видите, у нее нет вечернего платья, нет даже чулок, но у нее есть голос, который вы не забудете, единожды услышав. Итак, перед вами Малышка Пиаф.
Никто не засмеялся, зал встретил меня тишиной, недоуменной тишиной… Потом Морис Шевалье сказал, что это действительно была недоуменная тишина. К хорошо одетой, изысканной публике, привыкшей к эстетическому наслаждению (в «Джернис» не распевали фривольных песенок, хотя он славился своей гомосексуальной направленностью, о чем я узнала позже), Лепле вывел девчонку с улицы, почти замарашку. Потом я поняла, почему он не переодел меня, это была фишка.
Лепле сошел с ума? Но те, кто знал Луи Лепле и его нюх на таланты, смотрели с интересом, ясно, что он откопал нечто новенькое. За этот вечер зрители уже выслушали и увидели немало, пожалуй, даже устали от избытка впечатлений и вполне могли обойтись без Малышки Пиаф, просто ужиная под негромкий наигрыш на рояле. Эти воспитанные люди терпели меня просто из вежливости.
Перед хорошо одетыми дамами и господами стояла уличная девчонка, которой приходилось прятать руки за спину, чтобы не было видно, что они красны, и не забывать, что жестикулировать нельзя, иначе свалится шарф и все увидят недовязанный рукав свитера.
Сначала отсутствие привычных выкриков одобрения и вообще какой-то реакции повергло меня в ступор, но Юремер подбодрил:
– Ну, малышка, ты готова?
Он тихонько дал мне аккорд для настройки, и я вскинула голову. Нет, я не смотрела в зал, это было выше моих сил, смотрела куда-то поверх голов. Я не заплачу, ни за что, они не дождутся! Прислонившись спиной к колонне, я начала петь. Куплет пела, не поднимая глаз, в зале было тихо… Но когда дошло до припева под слова «это мы девчонки, это мы бродяжки…», я все-таки посмотрела на слушателей и едва не запнулась. Никаких ухмылок, вокруг внимательные, серьезные лица.
Даже я понимала, что такие песни не поют в подобных местах, в кабаре люди приходят развлекаться, а не переживать, но меня слушали очень внимательно. Это не просто придало сил, а вселило уверенность, и вдруг… на последнем припеве при словах «колокола, звоните по бездомным девчонкам!» я вскинула вверх руки! Случилось то, что должно было случиться, – шарф скользнул с моих плеч и всем открылся недовязанный рукав моего свитера.
Это последние слова песни. Только не плакать, потому что слезы вкупе с недовязанным свитером вызовут смех, а это худшее, что можно услышать после такой песни! Лучше уж гробовое молчание.
Я давно усвоила, что самые длинные мгновения в жизни – это когда ты начинаешь петь, и еще длиннее после окончания. Даже зная, что аплодисменты будут, более того, будет овация, я все равно замираю на долю секунды перед этими аплодисментами, и эта доля секунды длится очень долго, поверь!
А тогда она показалась вечностью. Два мгновения я уже не выдержала бы – умчалась в гримерку и дальше на улицу, и никто, даже Лепле и Ивонн Балле с Морисом Шевалье, не смогли бы вернуть меня обратно.
Но я не успела, потому что раздался гром аплодисментов! Мелькнула мысль, что они подстроены Лепле, чтобы хоть как-то подбодрить, но нет, аплодировали действительно зрители, более того, с разных сторон неслись крики «браво!». И никто не обратил внимания ни на упавший шарф, ни на отсутствие рукава.
Вот теперь не расплакаться оказалось еще трудней.
Но я не успела начать вторую песенку, как мне был сделан еще один подарок. Я и сейчас готова поклясться, что это был голос Мориса Шевалье. Шевалье, который в те годы был сверхпопулярен, на их с Ивонн Балле выступления в «Паласе» и в «Казино де Пари» собирались толпы:
– А у малышки неплохо получается!
Ты представляешь – впервые в жизни исполнять что-то не на улице на ветру и перекрикивая уличный шум, а в кабаре, да еще и таком, ничуть не похожем на пивную Лулу, тоже заносчиво называемую кабаре, и услышать от кумира парижан Шевалье, что у тебя неплохо получается! Тео, это были самые важные аплодисменты для меня, самые важные оценки, это означало, что я могу стать настоящей певицей, что меня признает не только улица из жалости, но и знатоки.
Из жалости?.. Хорошо, что эта мысль пришла мне в голову на последних аккордах третьей песни. Конечно, из жалости! Все эти люди просто пожалели Малышку Пиаф, такую несчастную замарашку, притащенную ради их развлечения Лепле. Девочка нищая, ей нечего есть, она поет уличные песни… Все это сидящих в зале не касалось вовсе, они не чувствовали себя передо мной обязанными, почему бы не поддержать замарашку, аплодисменты ведь не оплачиваются…
Чтобы скрыть брызнувшие из глаз слезы, я метнулась прочь со сцены. Схватив свое пальтишко, принялась как попало заталкивать руку в рукав. Из-за спешки не получалось…
Следом за мной в гримерку вошел сияющий Лепле. Улыбка на его лице тут же сменилась изумлением.
– Ты куда?
– Они смеются надо мной, они из жалости! Я больше не буду петь…
– Что?!
Я набрала побольше воздуха в легкие и выпалила одним духом:
– Они аплодировали мне из жалости, как нищей девчонке с улицы! Я никуда не гожусь!
С трудом сдерживаемые слезы прорвали плотину и хлынули уже в три ручья. А Лепле вдруг… захохотал:
– Ты победила, девочка, ты завоевала зрителей! Дуреха…
Он прижал меня к себе. Лепле не слишком высок, но я очень мала, потому получилось, что я рыдала, уткнувшись ему почти в живот. А он гладил мои спутанные волосы и убеждал:
– Так будет завтра и всегда. Верь мне, я знаю толк в успехе…
В гримерку вошли Ивонн и… Морис Шевалье.
– Какая ты молодец, Эдит, сдержалась! Я бы разревелась прямо на сцене. Какой успех!
Кажется, я звучно шмыгнула носом, растирая по лицу помаду единственным рукавом свитера… Это вызвало общий хохот.
– Луи, ты открыл бриллиант! Скоро наши залы опустеют, весь Париж будет осаждать твое кабаре, чтобы послушать голос Воробушка.
Говорил ли эти слова Морис Шевалье? Какая теперь разница? Может, мне и показалось, может, моя память выдумывает. Но то, что с этого вечера у меня началась совсем другая жизнь, – совершенно точно.
Зрители хотели бы еще послушать находку Лепле, но Ивонн посоветовала:
– Дай девочке вволю выплакаться.
– Я надеюсь, ты не опухнешь от слез до завтрашнего вечера? Нужно, чтобы зрители все же узнали тебя, немало тех, кто присутствовал сегодня, придут и завтра. Да постарайся довязать рукав, лучше все-таки с двумя…
Рукав я довязала, зато чуть не опоздала на само выступление.
– Это еще что?! Ты почему опаздываешь? Уже почувствовала себя звездой?
– Но ведь выступления еще не начались… У меня просто нет часов.
– Часы купим, но почему ты не пришла на репетицию?
– Но мы уже все отрепетировали.
– Эдит, запомни, даже самый большой мастер репетирует каждый день, понимаешь, каждый! Если ты не будешь этого делать, быстро скатишься вниз. К тому же нет предела совершенству – чтобы песня получилась не просто хорошей, а отличной, нужно много работать, постоянно работать.
Это был хороший урок и хороший совет, очень хороший. Я действительно пела на улице, как поется, Лепле научил меня не только чувствовать песню, но прежде всего работать над ней, добиваться звучания.
На следующий день после моей премьеры в «Джернис» сразу после выступления, Лепле привел Жака Канетти, знаешь, того, у которого кабаре «Три осла». Тогда Жак был молод и работал на радио. Сам он пошутил как-то, что ему повезло родиться тогда, когда телевидения еще не было, иначе не видеть бы карьеры с такими-то ушами. Уши у Канетти были нормальные, но с каким-то секретом, они могли спокойно прижиматься к голове, а могли вдруг развернуться в стороны, будто прислушиваясь, он их оттопыривал.
Жак работал на «Радио-Сите», вел очень популярную передачу «Молодежный мюзик-холл», в которой рассказывалось о новых исполнителях и новых песнях. Я слышала такие передачи, но совершенно не держала в голове имя ведущего, на что он мне сдался? Потому, когда Лепле почти торжественно представил мне довольно лопоухого молодого человека лет на пять старше меня самой, я только пожала плечами.
Так бывало потом не раз, потому что я не знала ни в лицо, ни по фамилии практически никого, кто бывал у Лепле, а там бывала элита Парижа. Мистенгетт или Фернандель? Но я не ходила в кино, хотя широкая, добрая улыбка Фернанделя с его большущими зубами мне понравилась сразу… Он уже тогда был любимцем публики и таковым останется навсегда!
– Это он тебе придумал имя «Малышка Пиаф»? – ткнул Фернандель пальцем в Лепле.
Я пожала плечами:
– Да, а что?
– Тебе подходит. Есть шарм. А вот мое придумала теща.
– А разве это не имя?
– Я Фернанд, но чтобы не забыл, что принадлежу жене, и главное, не забыли остальные, теща настояла, чтобы меня называли Фернанделем.
Так что, Тео, не удивляйся своему псевдониму, «Сарапо» – «Я тебя люблю» (или как-то так?), это же прекрасно!
А Мистенгетт показалась мне древней старухой, хотя вовсе не была стара. Просто в двадцать все, кто старше сорока, кажутся стариками, а ей было лет шестьдесят. Тогда я думала, что женщины столько не живут.
Она выглядела отменно, Мистенгетт и в восемьдесят была привлекательна и даже хороша, а уж о ее остром язычке и умении поставить на место любого и говорить не стоит. Мало того, совсем недавно она еще руководила «Мулен Руж» и до сих пор выступала в том числе в «Олимпии».
На мое счастье, тогда близкое знакомство у нас не состоялось. Нелепо звучит: счастье не познакомиться с Мистенгетт, имея такую возможность? Но я была еще никем и никого не знала, а потому запросто могла нагрубить, даже не подозревая о том, и навсегда испортить отношения с хорошими людьми. Когда Лепле это понял, он стал предупреждать меня, кто именно сидит в зале и чем знаменит, а еще советовать, каких тем в разговоре лучше избегать.
Зачастил в кабаре тогда Жан Мермоз. Тео, едва ли ты много знаешь о Мермозе. Это легендарный летчик, именно в том году он в очередной раз совершил очень длинный перелет, мне мало что говорили названия городов, которые упоминались в разговорах, потому я не запомнила, но поняла, что так далеко и долго никто не летал. Жан был великолепен своим высоким чистым лбом, белозубой улыбкой и добрым нравом. Такими бывают только настоящие мужчины.
Мало того, оказалось, что примерно в моем возрасте он тоже был безработным и даже бездомным, тоже ночевал где попало и питался чем придется. Но судьба ему улыбнулась, Мермоз вернулся в небо и стал самым замечательным летчиком Франции, да и всего мира тех лет.
Меня он потряс тем, что подошел после выступления и пригласил за свой столик, причем в самых изысканных выражениях:
– Мадемуазель, позвольте предложить вам фужер шампанского.
Тео, меня впервые в жизни назвали мадемуазель! Не с издевкой, а совершенно серьезно. Мадемуазель пила шампанское такими глоточками, словно хотела растянуть удовольствие до следующего вечера. А Мермоз подозвал цветочницу и купил для меня целую корзину цветов! Мне одной – целую корзину!
Это может оценить только тот, кто в жизни ничего, кроме оплеух и ругани, не видел и не слышал. Нет, и меня хвалили и даже угощали шампанским, например Альберт после удачного ограбления, но это было совсем иное. В «Джернис» я начала чувствовать себя человеком.
К сожалению, через год Мермоз пропал вместе со своими товарищами и самолетом где-то над Атлантикой. Франция тогда погрузилась в траур, его очень любили все французы, даже те, кто об авиации не знал почти ничего. Мермоз был национальным героем, им и остался.
Но я вернусь к Жаку Канетти. Лепле наговорил ему обо мне много лестного, уверив, что второй такой в Париже нет. Жак пришел послушать. Насколько я помню, это был уже следующий день, то есть суббота.
– Эдит, Жак ведет передачу на «Радио-Сите».
Тут я сообразила, почему мне знаком этот голос.
– По воскресеньям? Днем?!
– Да, ты меня слышала?
– А как же!
– Приглашаю завтра на передачу.
– Кого, меня?
– Тебя, конечно.
– Зачем?
Лепле рассмеялся:
– Петь, зачем же еще?
– Это можно.
– Только не опаздывай, приходи пораньше, потому что программа идет в прямой эфир.
Чтоб я знала тогда, что это такое! Хоть кривой, я уже почувствовала вкус к пению в хороших условиях, вкус к известности, хотя до настоящей известности было еще очень далеко. Все же кабаре «Джернис» хоть и пользовалось популярностью, но там одни и те же зрители, состав посетителей менялся не слишком сильно, у каждого кабаре, будь то забегаловка или изысканное заведение, есть свои завсегдатаи. Сколько их? Несколько десятков, не больше.
Конечно, это богатые завсегдатаи: когда Лепле разрешил мне ходить между столиками, как делалось во всех кабаре, я стала собирать столько денег, сколько и не снилось раньше. Однажды мне даже дали тысячефранковый билет, это сделал какой-то восхищенный моим пением восточный принц.
Но это было еще впереди, тогда я только-только дважды попробовала свои силы, вернее, голос в «Джернис».
Лепле порадовался за меня:
– Малышка, появиться на радио у Жака прямой путь к известности.
Я понятия не имела, что именно должна делать, ну, кроме пения, конечно, и как все происходит. Конечно, Луи Лепле допустил огромную ошибку, едва не стоившую провала, не предупредив меня об аккомпанементе. Мне и в голову не пришло, что там некому будет играть! Пришла за десять минут до начала передачи без нот, без сопровождения (не считать же таковым верную Симону?).
Увидев меня одну, Жак закрутил головой:
– А где твой аккомпаниатор?
– Я думала, у вас есть свой…
– У нас есть, но он сегодня не работает.
За аккомпаниатором послали, но было понятно, что он не успеет прийти до начала передачи, даже если никуда не ушел из дома.
– Я спою без аккомпанемента…
– Нет уж!
Канетти сам сел за рояль, как он говорил потом, впервые в жизни. Врал, конечно, потому что играл вполне прилично. Но сначала долго расхваливал «Воробушка», найденного Лепле на улице, и то, как эта птичка поет. Я понимала, что он просто тянет время. Все равно сильно затянуть не удалось, пришлось играть.
Под его невразумительный аккомпанемент я спела всего одну песню, когда к роялю на цыпочках подобрался человек, буквально отпихнувший Жака и занявший его место. Я поняла, что это аккомпаниатор. Уверенно кивнув, я начала вторую песню. Репертуар был невелик, сидевший за роялем Вальтер весьма опытен, и все получилось.
Вообще-то, я даже не поняла, что именно получилось. Зрителей не было, мы находились в нелепой комнате с большим микрофоном, которого нельзя касаться, ничего лишнего произносить тоже нельзя, можно только коротко отвечать на несложные вопросы Канетти и петь, причем и с Вальтером переговариваться только знаками. Что за секретность? Меня очень раздражало отсутствие зрителей, я люблю видеть, нравится мое пение или нет, а вот так – почти в ящике – неуютно!
Когда все закончилось и табло «Микрофон включен!» погасло, Жак показал большой палец, к чему-то прислушиваясь в своих наушниках.
Я хотела что-то спросить у Вальтера, но тот прижал палец к губам и потащил меня прочь, передвигаясь все так же на цыпочках.
Потом мне объяснили, что любой звук из этой комнаты слышен на всю страну.
– И то, что я пела, тоже?!
– Конечно. Сейчас тебя слышал, по крайней мере, воскресный Париж. Нам коммутатор оборвали вопросами.
Я не понимала ничего:
– Какой коммутатор?
Канетти куда-то умчался, попросив никуда не деваться, а ко мне подошла Симона:
– Эдит, я сейчас слушала твой голос по радио!
Я почему-то шепотом поинтересовалась:
– Ну и как?
Она тоже показала поднятый большой палец. Вальтер объяснил:
– Коммутатор – это телефоны студии. Пока ты пела, множество людей попытались выяснить, что это за девушка и часто ли ты будешь выступать.
– Где выступать? Надо им сказать, что я пою в «Джернис».
– Думаю, звонили те, кто в «Джернис» не ходит. А выступать здесь, на радио.
– Чтобы меня слышал весь Париж?!
– Да. Ты замечательно пела, только давай договоримся, что в следующий раз ты принесешь ноты и придешь хотя бы за полчаса до начала. На передачи и выступления не принято являться перед самым началом, нужно же распеться.
– Это я знаю! – я уверенно махнула рукой.
Вальтер снова рассмеялся:
– Значит, договорились.
– О чем?
– О том, что ты будешь приходить с нотами и заранее.
– Меня никто не приглашал.
– Думаю, Жак пригласит, посмотри на него.
Он был прав. Вернувшийся Жак сиял не меньше, чем Лепле после моего первого выступления в «Джернис».
– Эдит, это успех. Наши телефонистки не справляются с наплывом звонков. Придется петь и в следующее воскресенье.
И тут из меня полезла будущая звезда!
– Мне не нравится здесь петь.
– Но, дорогая, никто же не виноват, что ты пришла за десять минут до начала и без нот…
– Я не о том, люблю, когда есть зрители, когда видишь их лица, глаза… Видеть, нравится или нет им то, что ты поешь. А так…
Канетти с Вальтером уставились друг на дружку, потом Жак поскреб затылок:
– Знаешь, а в этом что-то есть… А если я организую на твоих выступлениях зрителей, будешь петь?
– Буду.
– Ловлю на слове.
Со мной заключили контракт по всем правилам о том, что я целых двенадцать недель каждое воскресенье буду участвовать в передаче, причем петь в присутствии зрителей.
– Это потому, что после твоего выступления наши телефонистки несколько часов не имели никакого покоя, принимая звонки с вопросами о тебе! Если справишься, очередь за пластинкой.
– За чем?!
– Кроме радио, я продюсер студии грамзаписи «Полидор».
Я была в состоянии только кивнуть, на большее меня не хватило, это слишком хорошо, чтобы быть правдой!
Мой спокойный внешне кивок восприняли как потрясающую самоуверенность. Потом Вальтер Джозеф рассказывал, что, когда мы ушли, Жак долго восторгался тем, как я пою, а еще качал головой от моей уверенности:
– Она же ничего не знает, всего третий день как ушла с улицы, а ведет себя так, словно настоящая звезда. Откуда это?
– Жак, именно потому, что ничего не знает. Ей, как маленькому ребенку, неведом страх высоты, но за ней надо следить, чтобы не сделала шаг в пустоту.
Договор пришлось подписывать, я сделала это весьма уверенно, но страшно коряво. Канетти посоветовал:
– Отработай красивую подпись, что-то подсказывает мне, что это не последняя.
Легко сказать «отработай»! Я пыталась, но руки, не привыкшие к карандашу и, тем более, ручке, слушались плохо. Вот петь – пожалуйста, а писать… Мы с Симоной, конечно, читали, научил еще мой отец, но только вывески на домах и газеты, нет, я читала все книги, попадавшиеся на глаза, пару книг даже хороших, случайно оказавшихся в руках, но не больше. Где я могла познакомиться с настоящей литературой? В «Салоне блох» книг не водилось, в заведении «мамы Тины» тоже, к тому же я была слепа, а Луи Гассион с собой библиотеку по улицам не таскал… Малыш Луи тоже не жаловал чтение, и Альберт не читал, и девочки из заведения Лулу меня не поняли бы, возьми я в руки книгу. Я и не брала, мне тоже не приходило это в голову просто потому, что книги в эти самые руки не попадали.
Помощь получила, откуда не ждала.
У Лепле были замечательные друзья, один из них – репортер и писатель Жак Буржа. Нет, сам Жак написал, кажется, всего одну книгу, зато хорошо знал историю и литературу, а к тому же был очень добр ко мне. Не подумай плохого, для них с Лепле я была дочкой. Если Лепле сделал из меня певицу, то Жак приучил к чтению. А еще к письму.
Смешно? Вовсе нет. У меня не было никакой необходимости писать, хотя я недолго училась в школе, но училась-то на слух, мои глаза не видели, так что не научилась почти ничему. Жаку Буржа пришлось начинать со мной сначала.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?