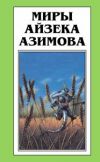Текст книги "Эдит Пиаф. Жизнь, рассказанная ею самой"

Автор книги: Эдит Пиаф
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Симону девать некуда, и она жила с нами в той же самой крохотной комнатушке. Можешь представить, насколько были перекошены наши понятия о жизни, если с нами в одной постели спала довольно взрослая четырнадцатилетняя девчонка, но это никого не смущало. Если бы у нее была нормальная мать или Гассион действительно был ее отцом, они забрали бы девчонку из столь ненормальной семьи, как наша с Малышом Луи.
Мало того, никого не заботило, кто будет записан отцом будущего ребенка, ведь мы с Малышом Луи не были женаты. Мне везло на разных «луидоров» – Луи. Каждый из них сыграл свою роль в моей жизни, кто-то очень важную, как отец, без него меня бы и вовсе не было, вернее, была бы, но совсем не такой. Не сомневаюсь, что мать родила бы кого-то, ведь родила же Герберта, но это была бы уже не я.
Малыш Луи не смог стать для меня чем-то важным просто потому, что он был из другой жизни. Нет, он был нищ, как и я сама, я даже состоятельней, но он был домашний, пусть этот дом мало отличался от нашей конуры и вовсе не похож на твой, Тео. Малыш Луи был домашним по убеждению, он считал, что женщина должна сидеть дома и заниматься хозяйством, а если и работать, то где-нибудь постоянно и уж никак не петь на улицах.
– Вы занимаетесь нищенством!
– Глупости, я зарабатываю пением. Просто пока у меня нет контракта с каким-нибудь кабаре. Вот когда будет, ты еще обо мне услышишь!
Малыш Луи смеялся:
– Тебе бросают монеты по пять су из жалости!
Я злилась и набрасывалась на него с кулаками. Мы даже дрались.
Однако наступило время, когда я уже не могла ходить по улицам, живот был слишком заметен, и поневоле пришлось устраиваться на постоянную работу. Ее нашел Малыш Луи, я стала «украшать» фальшивым жемчугом похоронные венки, вернее, красить этот самый белый жемчуг в черный цвет. Весьма веселое занятие для беременной женщины. Но Луи нравилось то, что в определенное время ухожу и прихожу, что он всегда знает, где я, что в конце недели я приношу крошечную, но постоянную зарплату. Никакие заявления, что на такую зарплату не только ребенка прокормить невозможно, но сами скоро протянем ноги, не помогали: для Малыша Луи важнее всего было постоянство, пусть и совершенно нищенское.
Я же задыхалась и, не будь большого живота, ни за что не согласилась бы сидеть в вонючей мастерской. Она действительно была вонючей, потому что ради экономии мы использовали отвратительную краску. Конечно, не мы, а хозяин, но он твердил, что мертвым все равно, как скоро стечет краска с принесенных им венков, как и родственникам. Все прекрасно понимали, что за крепкие венки нужно платить в несколько раз больше, и предпочитали экономить. В нашем районе не было богачей, зато жили добрые и веселые люди.
Симона, как обычно, была со мной. Она тоже обливала «жемчуг» черной грязью, тоже задыхалась и кашляла. Хорошо, что это продолжалось недолго…
Наша дочка Марсель родилась там же, где и я, нет, не на тротуаре, а в больнице на Рю-де-ля-Шин. Но Малыш Луи мне уже надоел. Он был всего на год старше меня и главой семьи, которую тоже страстно желал, быть просто не мог. Содержать жену и дочь простой разносчик не в состоянии.
Но тогда я меньше всего думала об этом. Еще будучи в положении, я влюбилась в мужчину гораздо старше своего мужа. Он был легионером, прибывшим в Париж на побывку. Солдат Иностранного легиона увел меня от Малыша Луи просто, как сам Луи увел с улицы, – за руку. Но все осложнялось присутствием Марсель, любовнику моя дочь была не слишком нужна. А мне самой? Я много лет старалась не думать об этом.
Когда я родила Марсель, мне едва исполнилось шестнадцать. И дело не столько в возрасте, сколько в полном отсутствии жизненного опыта. Он у меня был, но какой-то искореженный, как в кривом зеркале. Я любила Марсель, но не как мать любит свое дитя, а словно игрушку. Где я могла научиться материнской любви, если у меня не было матери? Игрушка временами мешала, а потому, когда однажды, вернувшись с улицы вечером в свою крошечную комнатушку, я услышала от хозяйки, что приходил отец Марсель и забрал ее к себе, то, честное слово, не слишком переживала. Так даже лучше, мне не приходилось оставлять Марсель одну, закрывая в комнате, и не спать по ночам.
Мой легионер тоже не слишком расстроился из-за отсутствия маленького плачущего ребенка в комнатушке. Я повторяла поступок своей матери – отдала ребенка на воспитание другим, как она когда-то отдала меня своей матери, мало заботясь о том, каково мне так, и я легко смирилась с тем, что моя дочь будет воспитываться без меня.
Я жестоко заплатила судьбе за такой поступок, у меня больше не было детей, совсем не было. Верно, судьба решила – той, что отказалась от одной малышки, ни к чему давать других. У меня не было матери, не было нормальных бабушек, не было семьи в обычном ее понимании, не было дома, я не была приучена к человеческой жизни, мало того, я не видела такой жизни, а потому в семнадцать лет мне и в голову не приходило, что отдать ребенка отцу – это плохо. Меня же отдали отцу, и ничего, я жива…
Я выжила, а вот Марсель нет. Не знаю, что именно стало причиной, но она заболела менингитом и умерла. Я успела застать ее в больнице еще живой. Смотрела на красивую, хотя и умирающую двухлетнюю девочку, не в силах поверить, что это моя крошка, которую я не видела почти полтора года. Время пролетело так незаметно, что я даже не сразу поверила, что это Марсель.
Она умерла, а я смотрела на малышку и вспоминала собственную мать, когда мы встретились с ней и с братом в кафе. Чем я лучше?
Тебе этого не понять, Тео, у тебя была нормальная семья, с заботливыми мамой и папой, с сестрами, домом, устоявшимся бытом, с семейными традициями… У вас был постоянный дом, вы знали, что вечером все соберутся за общим столом, будет вкусно пахнуть из кухни, что о вас позаботятся родители, а потом вы будете заботиться о них. А мы ничего этого не видели. Фургон с блохами – плохая замена дому, бордель с вечно хохочущими или визжавшими «девушками» тоже, и грязные комнатушки с нищенским содержимым, когда мачехи меняются раз в сезон, мало похожи на нормальную жизнь.
Нет, я не жалуюсь, совсем не жалуюсь, просто пытаюсь объяснить, что мне негде было научиться нормальной жизни, я видела ее только со стороны, словно в витринах магазинов.
Конечно, я плакала из-за смерти Марсель, вернее, напилась в стельку. Но не только потому, что малышка умерла, я ведь не успела почувствовать себя матерью, но и потому, что у нас не было денег на ее похороны. И взять эти десять франков тоже негде. Симона Берто, с которой мы в то время вместе выступали на улицах, порылась в своем кошельке и протянула один франк. Смешно, вместо десяти только один! Но у меня не было и того.
Петь? Но за день я все равно не соберу столько, а держать малышку не будут, просто закопают в общей могиле. Я и так чувствовала себя ничтожеством, бросившим малышку, а если ее и похоронят, словно безродную…
И я… я в первый и последний раз в жизни попыталась торговать своим телом! Вообще-то, торговать было нечем, я выглядела ребенком и в гораздо более взрослом возрасте, но мне удалось притащить в свою комнату какого-то австрийца, обомлевшего от моего наскока, от моего детского вида, от слез в моих глазах. Не помню, что именно говорила ему, наверное, просто объяснила, что мне нужно всего десять франков, чтобы по-человечески похоронить свою дочь.
Он дал мне эти десять франков, может, последние в его собственном кошельке. Просто дал, не потребовав ничего взамен, он понял мое горе и безысходное положение. Положил деньги на стол и ушел!
Знаешь, Тео, я не привыкла плакать, жизнь научила меня, что никто не пожалеет, не придет на помощь, что рассчитывать нужно только на себя и лить слезы – пустое занятие, наоборот, на улице в районе Пигаль уважали только тех, кто мог постоять за себя и не плакал ни при каких ситуациях. Но тогда я плакала, рыдала до самого утра, а утром отнесла деньги в больницу, чтобы малышку похоронили нормально, хотя и на кладбище для бедных.
Там решили, что мой зареванный вид из-за материнского горя. Конечно, и от этого тоже, но еще больше я плакала от понимания, что переступила какую-то черту, что прежней жизни уже не будет. Понимаешь, я перешла невидимую грань и теперь понимала, что обратного пути нет. До того времени я жила по законам улицы, но для детей, потому что, хоть и родила дочку, имела любовника, но все же была ребенком в душе, а теперь приняла закон взрослой женщины – если нечем заплатить, плати своим телом!
Наступил момент, когда я предложила собственное тело в оплату, и чистая случайность, что его не приняли. Я понимала, что участи «жрицы любви» не избежать, это только вопрос времени. Понимала это и Симона, мы обе отчаянно сопротивлялись, изо всех сил стараясь удержаться на плаву, не скатиться к откровенной торговле собой, и с ужасом видели, как тают наши шансы…
В районе Пигаль никому не удавалось избежать такой участи, вернее, удавалось только тем, кто имел свой дом и работу. У нас ни того ни другого не было, у нас была улица, съемные конурки с громким названием «номера», и улица с брошенными в тарелку монетами за пение. Ребенку, распевавшему «Марсельезу», такие монетки хотя бы из жалости кидали охотней, от девушек ждали несколько иного…
Пигаль… Это совершенно особый мир; считается, что это мир кривых зеркал, пародирует все дурное, что есть вне него самого. Но это не так, Пигаль ничего не пародирует, он существует сам по себе, по своим законам, своим понятиям чести, совести, правды и неправды.
Нет, там вовсе не живут только плохие люди, там есть четкие понятия справедливости и несправедливости, жесткие законы правильных и неправильных поступков, там тоже верность и преданность, любовь и ненависть, дружба, предательство…
Только законы Пигаль несколько отличаются от тех, что проповедуют священники. Может, священники просто никогда не жили в районе Пигаль? А если жили, то не пытались делать это по его законам.
Что есть правда, что нет? Что такое хорошо и что такое плохо? Я не берусь судить…
Чем нувориш с туго набитым бумажником, ассигнации в котором заработаны обманом, лучше любого вора с Пигаль? А светская львица, вышедшая замуж не по любви, а по расчету за противного толстяка с толстыми пальцами, масленым взглядом ощупывающего всех проходящих мимо девушек, лучше продающей свою любовь проститутки? Вторая хоть не скрывает, что продается…
И все-таки там грязь, душевная, липкая, которую ничем не смыть, даже многими годами жизни в другом мире.
Пока я ночевала в завшивленных комнатках дешевых гостиниц на окраинах, ходила в рваной одежде, одной на все случаи жизни, и собирала на грязной земле брошенные из окон монетки по пять су, я была чистой. Душой чистой.
Можно быть покрытой коростой, не мыться неделями, есть руками, можно даже воровать, но при этом оставаться чистой в душе. Я никогда бы не стащила вторую булку с прилавка, зная, что нам хватит до завтра и одной, никогда ничего не взяла у тех, кто небогат или не способен защититься от меня. Наше мелкое воровство, если невольно случалось, не приносило никому большого вреда, а собрав небольшую сумму, достаточную, чтобы не остаться голодными на сегодня, я могла петь и без оплаты…
Кого мы боялись? Полицейские хоть и гоняли нас со своих участков, но относились весьма лояльно, часто просили спеть что-то, стоя на углу – границе двух участков, и отпускали. Страха не было ни перед настоящим, ни перед будущим, казалось, все как-то само собой устроится. Может, мы просто были слишком молоды?
А вот в районе Пигаль совсем иное. Там страшно, по-настоящему страшно, словно ты попадаешь между жерновами огромной машины и если сделаешь хотя бы одно неверное движение, тебя этими жерновами захватит и превратит в ошметки.
Я никогда не выбралась бы сама, просто для меня не существовало (и не существует) другого способа заработка, кроме пения. Но петь на улице всю жизнь не будешь, поневоле пришлось идти под защиту хозяев Пигаль.
Я со своим тощим видом, крошечным ростом и строптивостью совершенно не подходила на роль жрицы любви. К тому же, все прекрасно знали, что слаба здоровьем, могу свалиться и не встать.
Моим хозяином на Пигаль стал Альберт. Да, именно хозяином. Он лупцевал меня, как тряпичную куклу, я кусалась, царапалась, визжала, брыкалась, но отбиться смогла. Знаешь, от чего отбиться? Меня не стали ставить на панель, разрешив петь на улицах, но при условии, что я буду приносить каждый день тридцать франков.
Я выглядела совсем девчонкой, но уже не настолько, чтобы мне бросали деньги из жалости. Зарабатывать становилось все трудней, иногда эти самые тридцать франков оказывались единственным заработком, тогда приходилось голодать, потому что не отдать деньги Альберту значило быть избитой. Но бывало, когда и тридцати франков не набиралось: если погода была отвратительной, люди мерзли, не останавливались слушать даже песни о любви. Тогда рос долг.
Однажды, когда из-за проливных дождей я не могла работать два дня, Альберт усмехнулся:
– Эй, певица, ты когда долг собираешься возвращать?
– Но ведь и остальные девушки тоже ничего не зарабатывают из-за отвратительной погоды.
Это было так, девушки на панели не могут работать в проливной дождь, кого же соблазнишь, если улица пуста? Но Альберт с усмешкой покачал головой:
– Если бы ты работала как все, я бы не спрашивал, но мы не оговаривали плохую погоду. Гони деньги.
Казалось, почему бы мне не послать его к черту вообще? Почему я должна платить этому верзиле только за то, что он считает себя моим хозяином? Но мы все просто не знали другой жизни, закон улицы, тем более района Пигаль, суров: если ты там зарабатываешь – плати хозяевам. Конечно, это хозяева улицы, они не властны над теми, кто работает в кабаре или заведениях, но и там не лучше. Чем заведения Пигаль лучше заведения «мамы Тины»? Только тем, что роскошней обставлены.
Это не для меня, я хотела зарабатывать на жизнь пением, но никак не проституцией. Мы с Симоной пытались петь в кабаре, но что это за кабаре и что за песни! Большинство кабаре ничуть не были похожи на нынешний прославленный «Мулен Руж», там нет красивых нарядов у выступающих девушек, нет и самих красивых девушек, стоит пьяный гвалт, они смахивают на простые пивные. В таком подрабатывали и мы. В заведении Лулу, громко называвшемся кабаре, был совсем крошечный заработок, дававший просто возможность не сдохнуть с голода. Возможность взять что-то из оставленного посетителями, выпить, если угощали. Мы не шли в номера, не торговали телом, я пела, а Симона исполняла разные трюки, которые давались ей все трудней и популярности не приносили. У нее, как и у меня, мальчишеская фигура, а потому всякие сальто не привлекали большого внимания. Да и мне куда громче аплодировали на улицах.
Но уличные заработки шли Альберту…
И все же долг рос. Однажды Альберт решил меня припугнуть.
– Ты задолжала столько, что не расплатишься до конца жизни.
Мне уже надоело дрожать, и я просто огрызнулась:
– А ты убей меня! Тогда вообще ничего не получишь!
Это было правдой, с живой меня получали хоть что-то. Но Альберт и его подручные не считались со своими подопечными – не эта, так другая. Незадолго до того была убита и выброшена в Сену после отказа работать на улице одна из самых красивых девушек, которых я в то время знала. Она могла бы принести сутенерам хорошие деньги, но за непослушание нашла свою смерть в Сене. Так что же считаться со мной – «Воробушком»?
Альберт усмехнулся:
– Нет, я не стану убивать тебя, мы тебя изуродуем, чтобы больше не смогла петь. Этого будет достаточно.
Думаю, по ужасу в моих глазах он понял, что попал в точку. У меня можно отнять все: дом, еду, одежду, но если отнять возможность петь, то я утоплюсь в Сене сама, безо всякой помощи. Это единственное, чем я дорожила в жизни.
Вернуть долг не удавалось, подручный Альберта Андре Валетт сказал, что на него растут проценты, то есть каждый просроченный день прибавляет еще франк. Это было ужасно!
Дав мне немного помучиться сознанием долговой ямы, Альберт «смилостивился»:
– Хорошо, будешь работать на меня по-другому. Ты девчонка сообразительная, к тому же тебя хорошо принимают в этом районе. Будешь приглядывать мне богатеньких дамочек.
– И ты простишь мне долг?
– Посмотрим, как будешь работать.
– Нет, сначала дай слово, что при первой же удаче спишешь все мои долги и не будешь требовать новые выплаты.
Альберт расхохотался:
– Хитрая девчонка! Ладно, так и быть, договорились.
Я высматривала богато одетых дамочек, которые появлялись без сопровождающих, сообщала об этом Альберту, тот наряжался в подходящий костюм, являлся в указанный мной дансинг, очаровывал (а он был красавцем и выглядел весьма импозантно) какую-нибудь любительницу потанцевать, вызывался проводить ее, заманивал в темный переулок и… Я не знаю, выживали ли они, но драгоценности перекочевывали в карманы Альберта.
Я стала наводчицей вора и, возможно, убийцы! На мой вопрос, живы ли те, кого он обокрал, Альберт пожал плечами:
– К сожалению. Я не убийца.
– Почему к сожалению?!
– Потому что завтра они смогут узнать меня на улице и заявить в полицию!
Если честно, то я перевела дыхание, потому что подставлять дамочек под грабеж – это одно, а вот под убийство совсем иное. Было ли мне жаль ограбленных? Ничуть! Я и сейчас могу это повторить, как бы ужасно ни звучало. Тогда для меня деньги имели ценность только ради хлеба насущного в буквальном смысле. Франки нужны, только чтобы не подохнуть с голода и чтобы тебя не убили хозяева улицы. А уж драгоценности и вовсе не были важны. Они нужны лишь, чтобы получить те же самые франки и прожить еще хоть немного.
Я не видела самих драгоценностей, Альберт не хранил, он сбывал тут же, чтобы не попасться на краденом. Зато я получала от него хоть что-то, позволявшее протянуть еще неделю, еще день, еще час… И петь!
Парадокс, я сама чувствовала, что пою с каждым днем все лучше, потому что научилась чувствовать вкусы публики, понимать, что именно ей нравится, даже просто научилась лучше владеть своим голосом, немало пережила и выражала чувства в песнях, а заработки падали. Поющая девочка вызывает больше жалости, чем поющая девушка. Я выглядела подростком, но не ребенком, а для улицы это большая разница.
Кроме того, ради высматривания богатеньких я вынуждена петь в шестнадцатом округе, но там не очень жаловали уличных артистов. Надеяться только на то, что перепадет от Альберта, нельзя.
Нужно было что-то придумывать. Но идти снова в мастерскую по изготовлению венков или устраиваться на подобную работу означало забыть о пении, о зрителях, об аплодисментах, а потому было неприемлемо. Сейчас мне кажется, что тогда я предчувствовала изменения, которые должны произойти в моей жизни. Не знала, какие именно, но ощущала, что что-то случится, причем хорошее.
Весной не пахло, шел октябрь 1935 года…
Рождение Воробушка
Пусть от грехов черна ее душа…
Пусть у нее в кармане ни гроша…
Это обо мне, такой я была, распевая свои песенки на тротуарах района Пигаль, такой остаюсь и сейчас.
Я рождалась несколько раз.
Впервые где-то на парижском тротуаре, если верить рассказам родственников.
Второй раз, когда стала зрячей, потому что свет после жизни в темноте нельзя назвать иначе как рождением заново.
В третий раз по воле Папы Лепле, когда стала петь на сцене, и не потому что стала вместо Эдит Гассион Малышкой Пиаф, а потому что вообще кем-то стала.
Иногда я задумывалась, что со мной было бы, не попадись я на глаза Лепле. Я его звала «Папа Лепле».
В тот день мы с Симоной решили отправиться на чужую территорию – на Елисейские Поля. Не то чтобы это была чужая территория, просто там никто не пел. Это совсем другой район, где уличные певицы не в почете, хватает тех, кто поет в богатых кабаре. Конечно, нас гоняли отовсюду, наконец мы пристроились на углу Мак-Маона и Труайон. Холодно, ветер, после ночи, проведенной в кабаре, где хоть не пришлось все это время петь, но и поспать тоже не удалось, я чувствовала себя отвратительно. Спасало только любимое пение.
Пальто драное, на ногах столь же драные туфли и нет чулок, на голове настоящая встрепанная швабра, глаза слипались от желания хоть чуть-чуть поспасть, но у нас не было денег на обед и в животе урчало, потому я пела. А когда я пела, переставали существовать и октябрьский холодный ветер, и хмурое небо над головой, и даже урчание в животе.
Родилась, как воробушек,
Жила, как воробушек,
Воробушком и помрет!
Я действительно чувствовала себя нахохленным маленьким воробьем, точно таким, какой сидел на фонарном столбе, внимательно слушая мой голос. Признавала ли эта птаха меня своей? Наверное, да, мы были одинаково нахохлившиеся, одинаково нищие и голодные.
Кося взглядом на птичку, я не сразу заметила столь же внимательно слушавшего меня хорошо одетого господина. А когда поняла, что его интерес не праздный, забеспокоилась. Чего ему нужно? Вдруг он из тех, кто посещает дансинги с богатенькими дамами и видел меня вместе с Альбертом? Вдруг это вообще переодетый полицейский?! Тогда нужно срочно бежать, пока не раздался свисток и на запястьях не защелкнулись наручники! Я уже не раз бывала в полиции, знала, что это такое.
Я была готова дать деру, свистнув Симоне, чтобы бежала в другую сторону (был у нас условный свист), когда человек вдруг сделал шаг ко мне и заявил:
– Какая же ты дура! Прекрати орать, не то сорвешь голос.
Я слишком устала, хотела спать и есть, мне было все равно, дура я или нет, главное – он не пытался защелкнуть наручники. Огрызнулась вяло:
– Вам какое дело?
– Почему ты поешь на улицах?
– Потому что мне нужно что-то жрать!
Я сказала именно так. Позже, много раз пересказывая нашу встречу с Луи Лепле, мы с Симоной, конечно, приукрасили, и свою грубость в том числе.
Но хорошо одетого мужчину это не покоробило.
– Почему бы тебе не петь в кабаре?
– Потому что мне никто не предлагает контракт! Может, вы предложите?
Я не стала вспоминать Лулу с ее дешевой забегаловкой, но его менторский тон разозлил. А если я злюсь, то начинаю грубить и даже хамить.
Он неожиданно кивнул:
– Предложу. Если ты поешь не хуже, чем сейчас.
С этими словами он что-то написал на краешке газеты, которую держал в руках, оторвал кусок и протянул мне:
– Кабаре «Джернис», в понедельник к четырем. Не опаздывай, у меня не слишком много времени. Посмотрим, на что ты способна.
Глядя на обрывок газеты с адресом и пятифранковый билет в своих руках, я обомлела. Что значит «понедельник к четырем»?
– Эй, а вы кто?
Он обернулся с усмешкой:
– Я владелец кабаре «Джернис» Луи Лепле. Только оденься приличней.
Вот это да! Почему-то я сразу поняла, что это не ровня нашей Лулу, хотя не понять сложно, достаточно сравнить внешний вид этого господина и хозяйки нашего кабаре.
Легко сказать «к четырем» и «оденься приличней». У нас не было часов, угадать эти самые четыре крайне трудно и одеться приличней тоже.
Уже через час я выбросила это предложение из головы: кабаре, конечно, здорово, но кто меня возьмет туда в таком виде? Господин явно решил, что я вырядилась как нищенка ради жалости к себе, как актриса, играющая оборванку. Певицы и вообще все выступавшие в кабаре покупали костюмы за свой счет, где мне взять денег, чтобы сделать то же?
Я очень хотела петь в приличном кабаре, но начала понимать, что это не для меня, просто не по карману.
– Может, попросить денег у Альберта? У него много…
Симона скорчила рожу:
– Сдурела? Он потом столько с тебя сдерет, что никакими выступлениями в кабаре не расплатишься.
– Пусть, зато буду петь в приличном месте.
– А если тебя не возьмут? Останешься с красивым платьем и в кабале у Альберта? Тогда уж точно выловят в Сене.
Она была права. Никакой гарантии, что меня возьмут, нет, значит, новая одежда могла остаться ненужной, я мала ростом, ее продать даже дешево будет некому.
– Лучше придумай, во что одеться!
Почти всю ночь я не спала, пытаясь понять, стоит ли надеяться, а днем, когда мы вышли петь, потащила Симону по указанному адресу, посмотреть на это кабаре. Вердикт Симоны был:
– И ничего особенного!
Но меня не обманул ее нарочито надменный тон, если вообще обратила на него внимание. Подруга просто завидовала, ведь она не догадалась спросить, приходить ли ей тоже, а сам Лепле не пригласил.
Вечером они провели на меня настоящую атаку, основательно выпив, принялись в несколько голосов убеждать, что меня просто запрягут в рабство, что нечего и связываться с такими, как Лепле.
– Зачем ты ему? Выставит на посмешище и выбросит вон!
К утру я уже не желала никуда идти. Но, вопреки обычаю, заснуть не удалось совсем, Симона уже вовсю сопела на своей половине узенькой кровати, а я лежала, таращась в темноту и рассуждая. Почему-то мне верилось этому человеку, зачем лгать и заманивать какую-то девчонку владельцу кабаре, да еще такого! Вопреки восклицанию Симоны, я поняла, что кабаре на Пьер-Шаррон не из дешевых. Что-то в нем было необычное, но я пока еще не поняла, что именно. Конечно, были кабаре и пошикарней, но мы-то до тех пор не видели ничего роскошней пивной Лулу!
– Который час?!
Симона, с трудом продирая глаза, проворчала:
– Откуда мне знать?
Мы всю ночь просидели у Лулу, потому что у нее было правило: до последнего посетителя. Правило ужасное, потому что последний посетитель попросту заснул с бутылкой в обнимку и очухался только утром, когда уже не только забрезжил рассвет, но нормальные люди пошли на работу. Мы тоже откровенно маялись, не имея возможности ни уйти, ни лечь спать. Ничего не поделаешь – правило.
Вот тогда меня и принялись убеждать никуда не ходить. Самой Лулу мы ничего не сказали, чтобы не выставила взашей заранее, но приятели-официанты, аккомпаниатор и девушки из подтанцовки высказывались одна за другой, и все против.
До своей конуры добрались уже почти к полудню, идти петь на улицу были не в состоянии, а потому завалились спать. И вот теперь просто непонятно, который час, потому что на дворе хмурый день – то ли все еще полдень, то ли почти вечер. Кто знает, сколько я проспала?
Позже Симона всем рассказывала, что ходила вместе со мной и даже принимала решение по поводу нового имени. Но это не так, хотя я ее не опровергала, в конце концов, какая разница?
Я выглянула в окно:
– Эй, который час?
Мужчина на другой стороне улицы насмешливо откликнулся:
– Тебе, парнишка, давно пора быть на работе.
– Сколько времени, черт побери?
– Скоро три.
Я выругалась уже внутри комнаты. До встречи с тем господином оставался час. Его кабаре далековато, да и я вовсе не готова.
– Симона, ты пойдешь со мной?
– Куда?
– Ну, к этому, хорошо одетому, в его кабаре?
– Нет! – подруга отвернулась к стене, раздосадованная моим намерением. – Ведь решили не идти!
– Я схожу. Мало ли что?
Я не стала больше ничего говорить, чтобы не слышать новых доводов против. Что-то внутри подсказывало, что идти стоит, что я на пороге новой, какой-то неведомой жизни.
Но в чем идти?! Это хорошо, что Симона не пойдет, у нас одна приличная юбка на двоих. Только вот туфли… Те, что были на мне, годились в лучшем случае, чтобы петь на тротуаре. К тому же они явно великоваты. Можно бы заскочить к Лулу и просто попросить у девчонок что-то, но, во-первых, это значило попасть на глаза самой хозяйке, она не сидела до последнего посетителя, но приходила в кабаре после полудня. Лулу обязательно поинтересовалась бы, куда это я собралась, и что тогда? Солгать? Но вдруг меня не возьмут или что-то пойдет не так, тогда и у Лулу работу потеряю.
К тому же девушки были откровенно крупней меня, и ноги у них больше… Шлепать в туфлях на пару размеров больше необходимого, без каблуков – это одно, а на каблуках я вовсе свалюсь.
Я пересчитала наши запасы, денег кот наплакал, но ничего не оставалось, кроме как забрать остатки и попытаться хоть что-то купить на ноги.
Когда я уже натянула единственную приличную юбку, кое-как пригладила свои растрепанные волосы и собралась покинуть нашу обитель, больше похожую на шкаф с широкой дверцей, чем на комнату, Симона открыла глаза и ехидно поинтересовалась, где меня искать, если я не вернусь до завтра.
– В «Джернис».
Конечно, я опоздала, все же пришлось забежать в лавчонку и попытаться найти что-то из обуви. На мою ногу, а главное, по моим средствам там были только легкие тапочки. Можно бы попросить, чтобы поверили в долг, потому что владелец лавчонки меня знал и не сомневался, что верну, но я почему-то почувствовала, что если только возьму в долг под будущий успех, то его просто не будет!
Засунув тапочки в карман, я помчалась на Пьер-Шаррон. Как назло, моросил противный дождь, волосы промокли и, когда я достигла цели, на моей голове царило полнейшее безобразие. Тео, ты должен представить, что это такое, ты хорошо знаешь, что мои волосы и без того невозможно уложить, а тогда мы с Симоной стригли друг дружку сами, нарочно делая одинаковые челки, чтобы быть похожими, ведь я все время твердила, что она моя сестра и я, как старшая, несу за нее ответственность.
Представляешь мою шевелюру в мокром виде и после бега? Я переобулась за углом, но тапочки все равно промокли. Лепле оглядел меня, хмыкнул и жестом пригласил пройти в большой зал.
Потом я поняла, что и зал не столь велик, и обстановка не так уж роскошна, но после заведения Лулу «Джернис» показался мне раем. Я комкала пальто, как могла, чтобы только не показывать его вид, но изнанка была не менее рваной, чем рукава, привлекшие на улице внимание Лепле. Мокрые туфли тут же оставили следы. Почему-то с тоской подумалось о том, что свои прежние я оставила просто в подворотне и если их упрут, то ходить будет и вовсе не в чем. Может, Симона и остальные правы, мне нечего делать в этом роскошном зале?
Не меньше интерьера кабаре меня потряс маникюр Лепле: никогда не думала, что у мужчины могут быть столь ухоженные ногти! Я старательно прятала руки за спину.
– Ну, что будем петь?
В конце концов, что я теряю? Разве только туфли…
– А что вы хотите послушать?
– Ну, давай свой репертуар. Песенки с улицы.
– Я могу и оперные арии.
Лепле поднял свои холеные руки:
– О нет, только не это! Пой то, что любит улица и любишь ты сама. Мне нужен твой голос – если пойдет, репертуар подберем.
Пианист спросил:
– Вступление?
– Что?
– К чему играть вступление, что ты будешь петь?
Пианист у Лулу не задавал таких вопросов, он просто брал пару бравурных аккордов, я пела, а он подстраивался. Я так и объяснила:
– Я начну, а вы подстраивайтесь.
Этот хмыкнул:
– Верно…
Лепле, усевшись в кресло в пустом зале, с интересом наблюдал. Я спела весь свой уличный репертуар, действительно кроме оперных арий, которые слышала по радио в кабаре у Лулу. Пианист прекрасно подстраивался под мои незамысловатые мелодии. Но главное – я видела интерес у владельца кабаре, он слушал со вниманием. Лицо серьезное, никто смеяться надо мной не собирался, взгляд у Лепле добрый.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?