Текст книги "Полное собрание стихотворений и поэм. Том II"
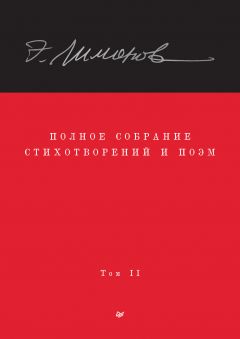
Автор книги: Эдуард Лимонов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Был вечер некоторого дня. Он – человек по имени Макс сидел на берегу моря на той полосе песка, которая там была. Он сидел и разложил на песке перед собой свои предметы. Это были: будильник, который стоял и показывал четыре часа, резинка для стирания написанных на бумаге текстов и чугунный утюг небольшого размера и сухой рыбий скелетик длиной в 20 см. Был вечер, поэтому Макс не торопился и долго глядел на свои предметы, молчал и думал. «Ах, сколько у меня предметов, – думал он, – и такой есть, и такой, и даже рыбий скелетик есть. А ведь ещё вчера всего этого не было».
Так Макс подумал мозговым аппаратом и двинул ногой. А море шумело и подбегало, чтобы зашуметь и отбежать, ведь Макс состоял из трёх тысяч костей и десяти мыслей. Всё скакало в Максе, всё мешалось. Четыре мысли Макса были о четырёх его предметах, пятая – о воде, шестая о песке, седьмая – о небе, которое он видел над собой. Восьмая мысль была о самом Максе, девятая и десятая были ещё пустые.
Таким образом, у Макса было одиннадцать мыслей. Был вечер некоторого дня. Макс, песок, море. Предметы. Его, Макса, мысли.
Иду я – всё это вижу и запоминаю. Прихожу – пишу. Жил-был Макс, у него был утюг. Но кроме этого, ещё резинка, скелет и будильник и у него были собственные ноги. Он пока что сидит, но скоро пойдёт ногами и тогда уйдёт, и песок останется и может, он возьмёт его с собой или возьмёт предметы. Но дальше к Максу подошла коза и стала рядом с Максом. Тут Макс – там коза.
Наступила бледная вечерняя заря. Макс уехал на козе на восток. Взял только рыбий скелетик. Будильник, стиральную резинку и утюг оставил. Беспризорные предметы лежат на песке. Виден козий след, и он переваливается через холм, становится темно. Выявляется Луна… Макса нет. Проходит какое-то время. Вдруг звонит будильник и появляется что-то на холме. Что это? Это же голова Макса. Вот его грудь, руки. Вот голова козы. Да, они едут сюда. Стоп. Макс спрыгивает с козы. Идёт к предметам. «Я очень люблю свой будильник», – говорит Макс, освещаемый Луной. Как я мог его оставить. Эх! Макс взял будильник левой рукой. Поднял правую ногу и сел на козу. Макс поехал, вернее, коза пошла. Вот уж козы нет и Макса нет на холме.
ФилиппПосередине пустыни стоит деревянный стол. Пустыня совершенно гладкая. Песок да песок. И деревянный стол некрашеный такой в занозах. Светит солнце. На столе в главной персидской позе сидит Филипп. Ему всего тридцать лет, а он уже многое повидал. На Филиппе шляпа, она ничего не весит, и вся прозрачная. Филипп не разговаривает. Он неподвижным находится. В руке у Филиппа яблоко. Уточнено: в правой руке меж трёх пальцев. Филипп улыбается всё время заученной загадочной улыбкой. Но яблока он не ест. Больше у Филиппа ничего нет. На песке рядом со столом лежит двадцать копеек. Но Филипп не видит их, иначе бы уже поднял и уехал из пустыни. Вот слышится шум справа от Филиппа. Там что-то чернеется. Не разберёшь что. А это поезд. Поезд подъезжает к Филиппу. Машинист в чёрной форме с серебряными зубами подходит и говорит: «Садитесь, гражданин Филипп, поедем». Филипп без движения и также улыбается. Машинист уходит назад и выглядывает в окошко. «Ту-ту», – говорит он и машет рукою. И поезд проезжает прямо возле Филиппа. А он ничуть не шевелится, только покрылся потом. Подымается ветер. Он метёт песок. Кто-то идёт. Но кто? А это сменщик Филиппа – его зовут Мальва. Он хороший парень. Филипп даёт ему яблоко, слезает со стола и уходит, не оборачиваясь, по песку. Мальва говорит яблоку: «Я Филипп номер два, а не Мальва» и делает улыбку, как нужно. Ещё есть усы. Веет ветер песком.
КоляБассейн из кирпича размером три на три метра. На краю сидит Коля в коричневом костюме. В руке его удочка, в кармашке платочек в горошек. Вода тёмно-бурая. Удочка опущена в воду. Вокруг зелёная трава высотой в десять см. На траве пасётся собака, она ест траву и поглядывает порой на Колю. Но близко не подходит. Тишина. На потолке, который деревянный, ни облачка. Вдруг из бассейна вылазит голая прекрасная женщина. Она выжимает волосы и говорит, что Коля последнее время ей нравится. Уже долгое время она его любит. А сегодня она пришла, спряталась в воду и дышала через трубочку. И что, мол, не выдержала вот, вышла. А что собака смотрит, так это ничего. Коля не отвечает и не шевелится. Женщина говорит, что, мол, ответь, Коля. Коля молчит. Тогда женщина хватает его за плечо. «Ах, ты пренебрегаешь моей любовью, пренебрегаешь», – и она щиплет его. Но Коля не двигается. Тогда женщина рвёт на нём пиджак. Пуговицы отлетают, и из-под пиджака сыплются опилки, мука, и ползёт тесто. «Ах, Коля, ты, оказывается, не настоящий», – говорит женщина и прыгает в бассейн. А Коля совершенно распадается. Голова куда-то подкатилась. Подбегает собака и нюхает Колю.
ЛилияЛилия ехала на лодке по широкой синей реке. В лодку был запряжён чёрный сильный конь, так что его совсем не было видно в волнах. Лилия лежала на спине, и голые её груди смотрели в воздух. Большое тело, роскошный живот, хорошие белые ноги, и всё приятного цвета с синенькими прожилками, как мрамор, лежит и смотрит в небо. А конь везёт её по реке, и вверх завиваются огромные барашки волн и такая пена, и всё бурлит. А Лилия не изменяет выражения лица. Вот до неё пятьдесят метров, вот меньше. Вот она рядом – вот её страстное прекрасное лицо промелькнуло, и вот до неё пятьдесят метров и уже сто и больше. Вот – Лилия точка. А вот нет и точки…
«Я люблю мясо, коня и курицу…»«Давно уже окна повисли…»
Я люблю мясо, коня и курицу
Я люблю цаплю, быль и беду
Я люблю подушку и школу
Всё заколочено и всё протухло
Меня вывели, чтоб опять привести
Очень плохо с их стороны
В городе весна, болтает соседка
Она маркиза, она кокетка
Не верю ей, не верю ей
Подайте мне пальто скорей
Горит железный свет на небе
И кто-то быстро убежал
И засевая смертью площадь
здесь танк могучий проскакал
Любовь побита и побита
Огни сидят в землянках лишь
А если уж любовь побита,
то ничего не сделаешь.
«Водишь кратким пальцем по бумаге…»
Давно уже окна повисли
И шторы на них не шумят
В огромнейшем озере плавать
никто не осмелится счас
Болтают ветвями ивы
Летают вороны, гремя
Какой-то пустынник пугливый
прошёл, полосами летя
Знакомый мертвец Серёжа
лежит под плитою тихо
И рядом плита, и вдали
И будто её унесли…
«Жара. Уж пышная сирень…»
Водишь кратким пальцем по бумаге
Даль и близь… и близь
И течёт в овраге
ручьём чёрным слизь
Мир был остр как гвоздь железен
Доски у моста
всё глядели острыми глазами
на врождённого меня
и теперь красиво то что плохо
раньше было… в сквере пионер
и ушла великая Эпоха
жизни у страны ЭСЭСЭСЭр
«Его золотистые ноги…»
Жара. Уж пышная сирень
и отцвела, и полиняла.
Писать выдумывать мне лень.
Пишу, что вижу, что попало.
Теперь понятно мне уже,
что есть предел желаньям, силам.
И остановка точно есть
движенью вдаль, стихам прекрасным.
Печально это. Сизый сон
едва прогнав – тащу обратно
И ничего не хочет он
А только было бы приятно
«Люблю я славно молодую…»
Его золотистые ноги
кусала больная пчела
По берегу женщина ходит
и шляпа её на плечах
Стекают завязки на шею
и зонтик в прохладной руке
Старушка бесцельная рядом
уселась в тени в уголке
Идёт благородный мужчина
высокую цель он несёт
Кормить зарождённого сына
костлявая мамка бредёт
И тучки нависли, служанки
с базара уже все прошли
И слесарь, водопроводчик
меняет общественный кран
«Зима и шесть колонн у дома…»
Люблю я славно молодую
свою рубашку на плечах
Её по слабости балуя
вином я лью её во швах.
Рубашка моя дорогая
лишь темь настаёт только темь
уж и крадусь, пригибая
с собою совместно тебя
«Жила-была на свете…»
Зима и шесть колонн у дома
и стужа, холод меж колонн
И коридор… квартира двадцать
и колокольчиковый звон
Хозяин он в пальто и шапке
Вино и водка на столе
Огромный шёпот средь гостей
и восемь ламп и все горят
Цветы стоят и озаряют
Лицо лежит, икает, врёт
А магазины закрывают
и он за водкою идёт
Люблю я детскую кроватку
в углу стоящую без дела
А также кожаную папку
в которой люди омертвело
взирают на меня с улыбкой
их нет на свете, давно нет
они лишь образы пустые
чубы и бороды лихие
кавалерийские глаза
и гимназическа слеза
Таким я образом уставлюсь
смотрю смотрю не говорю
И всё что нужно я запомню
и удержу среди себя
Меня волнение толкает
всё дальше дальше от людей
А кто-то нервно отрицает
цивилизацию людей
«Как вчера зажигали Кручёных…»
Жила-была на свете
женщина одна
И странная особа
была подчас она
Всё это в то же время
как я на свете жил
и как-то по несчастью
ту женщину любил
Она пойдёт в аллею
и я за ней иду
Она лежит болея
я тоже не в саду
Но камнем мне тяжёлым
та женщина была
Она от высшей школы
от дома отвлекла.
Она меня учила
пивать вина, стихов
И после тех учений
поэт уж был готов
«Кричит петух залива…»
Как вчера зажигали Кручёных
Так стоял я в слезах под очками
Так же в гробе лежать буду я
И такая же участь моя
В полдень душный сойдутся немногие
И придёт Лиля Брик под зонтом
И лежать будут косточки строгие
Будет парить и жечь под дождём
Молодость, переходящая в старость
О дай Бог тебе меня взять
О дай Бог моя молодость нечто
От горячего мира отнять
Я люблю колумбариев тихость
Эту женщину белую всю
Убежать мне нельзя от земли
Уж его в огонь повлекли…
«По тому, как бледнеют цепочки…»
Кричит петух залива
Пора уже вставать
Коническая слива
цветы начнёт бросать
И на помост зелёный
вступив ногой босой
как бы пастух влюблённый
я крикну: «Время, стой!»
С причёской деревенской
она идёт ко мне
Наклон её фигуры
несёт мне молоко
И в том, что я писатель —
бессилие моё
Ах, был бы я мечтатель
и только, и всего
Лежал бы, кверху голову
и облака следил
Наследовал отцу бы
и в армии служил.
Имел оклад – две триста
вставал бы в шесть часов
вступил бы в коммунисты
имел бы пистолет
Жена бы моя ела
и ела, и пила́
квартира бы горела
от хрусталя, стекла
И дочь бы или сын бы
утрами в школу шли
учились на пятёрки
и ездили бы в Крым
И с рукавом коротким
рубашки расписной
я был бы добрый дядя
с широким животом
«небольшой медник, небольшой сковородник…»
По тому, как бледнеют цепочки
на дверях холодных квартир
может выйдет что это стучатся
каждый день заявляясь в мир
или может бледнеют цепочки
на дверях прохладных квартир
что еврей темноокий Изя
изумился своей жене
По коврам по пыли по селёдке
проходила пара шаля
Он трогал её за локо́тки
И говорил: «О Сара моя!»
И этим пугались шторы
И криво висело зеркало
откуда бескровные лица
вели свои поцелуи
Человек в саду
небольшой медник, небольшой сковородник
на кривых ногах входит в серенькое поселенье
Улицы выбеленные в пыли
встречают его с наслажденьем
Вся сумка котомка и вся тесёмка
опоясывающая покатое плечо
и улыбка как стеариновая свечка
на губах ютится слишком горячо
Болен медник, небольшой сковородник
в поселении живут борщ едят
Болен медник некоторые дни подряд
а он и без этого был уродик
Дико ему что все жители пьяные
что они толкают его и котомку
Хорошо что нет у меня девчонки
что нет у меня никакого потомка
Дико ему что они цветные
и топчутся и дерутся и бьют его
и на углу он стоит и глаза его больные
и там и сям мелькают люди средь сапогов
Я медник я сковородник
Я иду и котомка идёт
Сколько в поселении уродиков
и ещё сколько подрастёт
Вот подрастающие дёргают за волосы
Лыс, лыс, срывают шапку
Валится медник сковородник на землю
Всё это происходит осенью
Ему бродилось. Его звали Берсений. Меж деревьев. Ноги – как можно, так и ходил он. Началось с левой его руки. Она покачнулась, она вздрогнула, будто не рука, а, допустим, ветка. Что-то её вздрогнуло. Она три своих пальца поддёрнула. Сразу же. А до этого ничего не было. Был полный покой, и стояли глаза на месте. Очевидно, не было и дыхания. Неожиданно всё-таки это произошло. То что вздрогнула рука. И тут-то всё открылось. Всё задвигалось внутри, задрожал желудок. Передачи организма что-то передали по своим тонким нитям, и тогда уже качнулась голова.
– Э, нет, – сказал он, – это не моё дело. Я Берсений Критский – и хочу, иду, хочу – не иду.
Я, конечно, пойду. Но какая же местность. Где это случилось всё. Я какого роста. Я метр восемьдесят. Это я знаю, и что худ знаю. Вот висят часы на ветке за ремешок прицеплены. Ремешок чёрный и грязный. Был ли он чёрным раньше? Очевидно, нет, можно всё же заметить, что цвет его не чисто чёрен, бурый это цвет. Очевидно, ремешок был коричневым, а затем уже стал чёрным от пыли и пота. Потеют же, когда носят его на руке. Сколько он достигает длины 26 сантиметров. А посередине его часы. Диаметр часов 35 мм. Сколько времени – не понять. Восемь дырочек на ремешке, а три из них зашиты зелёною ниткой поперёк ремешка, и одна нитка зелёная порвана. Висят часы с ветки и чуть качаются. Ветка без листьев вверх росла, но часы её вниз согнули. Вот тут ветка входит в более толстую ветку, а та – в дерево. Дерево же поднимается из земли. Вообще можно посчитать, что это и куст, а не дерево. Чёткой границы меж кустом и деревом нет.
Что же мы видим, земля-то какая. Я вижу, что она бурая и немного на ней зелени. Это ничего. Всё же можно поставить на неё ногу. Берсений Критский переставляет свою правую ногу и делает это прямо перед собой. Часы теперь почти касаются его лица.
Показывается из-за горизонта солнце. Оно показывается и скрывается вновь. Горизонт – как обструганная лаковая доска. И всё вокруг полированное дерево, и стоит Берсений, колебаясь идти. Наконец шаги его простучали.
«Горячие ворота вертелися на месте…»«Всей чёрной стайкою своей…»
Горячие ворота вертелися на месте
О летнее издошье – ты напоило!
Горячая и шея – и грудь, и две лопатки
Горячее колено, варёная голова
Все стены что в картинках
теперь в других картинках
Ещё раз взглянешь – в третьих
под действием жары
Та муха, что тяжёлая
уселася на вилку
сидит уж там все два часа
не могучи сойти
В открытый двор ведёт окно
железная там жесть
и дерево потрёпанное
в пыли и кислоте
В одной руке моя жара
В другой руке твоя жара
По душной страшной скатерти
разложен вздутый хлеб
Тарелки пышут мясом мягким
а жир готовит умереть
И тихий кран водою жидкой
спешит как молоком стекать
Сидит хозяйка на скамейке
в одной рубашке на плече
и ноги красные стоят
и руки потные лежат
Во взбухшей гру́ди теснота
и взгляд стоит на занавеске
И летней жизни чепуха
Чулки откинуты, подвязки…
«Жил неподвижно в зимней столице…»
Всей чёрной стайкою своей
влетело бабочек перо
оно играло и росло
оно садилось на пальто
Ремень лежал ремень блестел
Диван под мною чуть скрипел
Один я был и потолок
посетил бабочек кружок
Один лежу один гляжу
Какое-то густое семейство их на потолке
они дерутся меж собой
в полутемноте луновой
Мне книга есть мне книга есть
я эту книгу пересёк
я знаю я совсем не здесь
я там я там где потолок
я лейтенант меня зовёт
к своей армейской службе часть
но есть иная тоже власть
она мне полночью придёт
«Иголка и нитка, и я портной…»
Жил неподвижно в зимней столице
старенький уж, и в карты играл
Припоминал удалённые лица
Частные праздники упоминал…
Жён своих нескольких —
Первую, третью
Их пережил, и мягкий глаз
Тихо ехал по всем на свете
Не изменяясь при виде вас, нас
Был он когда-то и плотник, и книжник
Был лиходеем с дороги большой
Он и убил, и родил двух мальчишек
Всё затопило время рекой…
Где-то убитые в рощах погнили
Как-то мальчишки делись куда-то
И не пришла за убийства расплата
Те, кто знали, не сообщили
Утром фанеровым встаёт и зевает
Был бы писателем, был бы вождём
Нет, говорит, очевидно, что в мае
Мы, Генрих Вениаминович,
С божьей помощью и помрём
«строили люди себе Вавилон…»
Иголка и нитка, и я портной
И день весь стучит и меня согнул
Я так и войду в любое окно
Портной – поэт, писавший портной
Я был человеком с кривою улыбкой
решивший писать в летнем углу
И, вечно стоящий с длинною ниткой
Босой на чужом наёмном полу
Видны ли вам домики, деньги, рублики
Видны ли вам волосы на голове
Что ел я, в желудок бросая на дно
любому и каждому всё равно…
Однако мою составляют историю
десятитомник стотомник судьбы
Пошитие брюк человеку с размерами
такими-то в течение семи часов
О власть-механики и технологии
Руки мои движения делают
Я живу и пою, как ночная корова
И всё снова и снова, и снова
«на красное бельё…»
строили люди себе Вавилон
дело под вечер склонялось
кое-что сделали. много осталось
Спать улеглись Вавилон оставив
Утро совсем раздавалось рано
никто отдохнуть не успел
встают и спешат ещё средь тумана
несут камень бел
Строили люди себе Вавилон
Под новой стеной вавилонская мать
кормила вавилонское своё дитя
вавилонским козьим соском
Грудь вавилонская трепетала
Пыль проходила стены росли
сделали ещё очень мало
Дело ж под вечер…
Спать полегли
«Я помню землянику…»
на красное бельё
ложусь я нынче спать.
Огромная жара стоит и липнет вся
Пахучая тоска
как жирная паучиха
висит от потолка
Тушу я бледный свет
и свечку спичкой поджигаю
и запах возникает
Я древний нынче судья
осудивший на смерть сейчас
и моя пухлая рука
лежит и потеет всегда
Подряд возложили со мной
других ещё вдалеке
и запах стоит вековой
о теле убитом в носке
и сад под Луной полосой
о сад на окне маловат
но там кипарисы стоят
главное оливы стоят
там лавры также стоят
и свечка и свечи кадят
Я был молодой судья
остался всё так же я
на красное лёг бельё
какое же имя моё?
«Красные сфинксы…»
Я помню землянику
Средь леса на поляне
Я помню как я пас
Корову на дурмане
Она меня ждала
И головой качала
Она затем пришла
Чтоб чащу показала
И лес молчащий вдоль
Сказал: интеллигент
Здесь столько разных воль
Царит же здесь момент
Живи как будто там
На озере в глуби
Всё время лебедя́
И с женскими грудьми
Поверишь или нет
Корова вновь спешит
Её единый рог
Показывает внутрь
«мечта чернозёмной холодной России…»
Красные сфинксы
Белые лютни
Много красавиц в белых носках
Стеклянные сосуды
Пронзённые цветами
И аромат дымов и едкий страх
«Город паршивую девочку…»
мечта чернозёмной холодной России
есть виноград Италии
там на красных теплых камнях
море не думает о людях
оно лишь шумит и отходит
уж видно морскую капусту
а вдалеке его пусто
лишь только корабль там проходит
матросы сидят в воду свесили ноги
счастливы счастливы они
они побывали сейчас в подвале
уже они пьяны плывут
Назавтра никто не увидит берег
А я здесь при шляпе в пальто
И жутко смеётся швейцар здоровенный
в учреждении где я никто…
Пришёл я примите меня на работу
и все коридоры прошёл
где тёмные двери стояли без счёту
и где был большой тёмный пол…
мне всюду сказали что я мечтатель
что я прирождённый артист
такие на службе служить не умеют
таких никуда не возьмут
и многие двери мне то подтвердили
что я ушёл наконец
при этом во мне расшумевшись ходили
пять моих утомлённых сердец
В дороге в трамвае в стекле замерзавшем
увидел Италию вновь
на корабле старинном паруса подымавшем
запел поп Иван про любовь
«Да, там где двенадцать стучало…»
Город паршивую девочку
взял утром под локоток
вывел её в магазин бакалея
купи себе пищи кусок
Она долго рылась в карманах
но денег она не нашла
Ах, Боже сама виновата
зачем же с завода ушла
приятный с бородкой мужчина
в бобровый дышал воротник
сказала что может родить ему сына
он ртом поднял крик
Пришла и милиция Надьку забрали
в районный отдел отвели
горячего чая ей дали
и села на лавку вдали
и те кто туда заходили
нисколько её не жалел
и толстые лица блестели
а время будильник поел
«Лёгкое лето прошло…»
Да, там где двенадцать стучало
и ехал безумный романс
там швейная машинка урчала
съедая меня
когда своё время припомню
всегда я шил и шил
и вся голова в пошивах
и вся голова в иголках
Утюг огромный шипучий
Вода и длинный шнур
и пар едкий вонючий
летающий стаей кур
мохнатую шляпу на осень
себе я сошью и всё!
тогда уж пойду деревенский
ничто я не знаю
как шить
«Вершина вверх дрожала вся…»
Лёгкое лето прошло
тяжкое лето сидит
гром а большая стола
лампа горит да горит
малые тонкие псы
в тёмной квартире барсы
Чёрных чёрная голоса
вуа, вуа, а…
Техника за стеклом
движет часами большими
китель сданный на слом
звёздами выпукл своими
Был офицер стал нет
Играй на гитаре папа
Твой сын он приехал в ответ
Раскрой ему струны пожалуй!
«Вот теснота и обрубки…»
Вершина вверх дрожала вся
сосна металась как поймали
вот миг когда придёт гроза
ужасная и в чёрной шали
Василий друг вверху темно
и воет, воет сладко
скорей вперёд вон там окно
и лампа светит иль лампадка
Там впустят нас и сядем мы
поожидаем нежно молний
И стоны красные сойдут
и стоны лакомые тут
Но громкий час опередил
уже нам не добраться
Всей тушей дождь на нас полил
и огонёк нам заслонил
а там ковёр и верно платье
ведь дачи место дачное
и чай пожалуй нам суждён
Да наше дело мрачное
В семи кустах застряли мы
не выйти заблудились
им здания из тьмы
лишь сильней стеснились
Там врач живёт там врач живёт.
я знаю знаю точно
У ней под платием живот
она красива чем-то
Вот теснота и обрубки
Смотришь на мир сквозь себя
Ходят пастушие дудки
за уши нас теребя
мальчика кислых щей
щиных старых паров
хлеб и десятки вещей
вплоть для завивки щипцов
Сахар кололи щекой
между зубов зажав
Помню в саду меж собой
вместе с тобой разговор
Забавно как выглядит юность
в пёрышках вся и в духах
душные шубки душные юбки
душные сны в волосах
Первое дело – смешное
Второе дело – туман
Третье дело пустое
Все вместе проделки – обман
Всеми предметами сразу
пользуйся в жизни своей
Брейся, ешь вилкой, ножом отрезай
Карандашом дави, ртом своим напевай.
Однако однако – пустое
в пространство летят только те
кто ходит огромное босое
поле поливать в темноте
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































