Текст книги "Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентльмена"
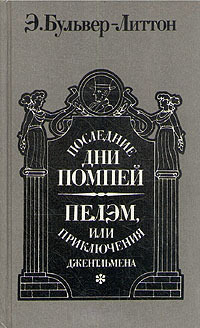
Автор книги: Эдвард Бульвер-Литтон
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 53 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Я слез с коня и склонился над убитым. Я вынул из-за пазухи миниатюру, с которой никогда не расставался, и омыл безжизненный образ Гертруды в крови того, кто ее погубил. Не успел я этого сделать, как до слуха моего донесся звук чьих-то шагов. Поспешно спрятал я, как мне показалось, портрет на груди, вскочил в седло и быстро помчался прочь. Тогда и в течение многих последовавших затем часов все чувства мои, казалось, замерли. Я был подобен человеку, завороженному сном и передвигающемуся как лунатик или же преследуемому призраком: глазам его мир живых, поглощенный своими заботами, представляется страной фантастических образов и скользящих теней, населенной чудищами мрака и ужасами могилы.
Лишь на другой день хватился я миниатюры. Я отправился на то самое место, внимательно обыскал все кругом, но тщетно – найти ее так и не удалось. Затем я возвратился в город и вскоре узнал из газет обо всем, что случилось после того, как я нашел убитого. С тревогой убедился в том, что все улики указывают на меня, как на преступника, и что агенты правосудия идут по следу, на который наводит их мой плащ и масть моего коня. Таинственное преследование Тиррела, стремление изменить свою внешность, то обстоятельство, что я обогнал тебя на дороге и скрылся при твоем появлении, – все это тягчайшим образом свидетельствовало против меня. Оставалось еще одно, самое убедительное доказательство, и его мог предъявить только Торнтон. В настоящий момент жизнь моя в его руках. Вскоре после моего возвращения в город он ворвался ко мне в комнату, запер дверь на ключ и на засов и, когда мы остались вдвоем, вызывающе произнес, злорадно усмехаясь в своем гнусном торжестве: «Сэр Реджиналд Гленвил, слишком часто оскорбляли вы меня своей надменностью, а еще больше – своими подачками; теперь моя очередь оскорблять и торжествовать – знайте, одного моего слова достаточно, чтобы отправить вас на виселицу».
И он обстоятельно изложил все, что свидетельствовало против меня, причем извлек из кармана мое угрожающее письмо к Тиррелу. Вы помните, я писал, что поклялся отомстить ему, что мщение рано или поздно его настигнет. «Прибавьте, – холодно сказал Торнтон, снова пряча письмо в карман, – прибавьте эти слова ко всем прочим уликам против вас, и я не дам за вашу жизнь медного гроша».
Не знаю, каким образом Торнтон завладел этой бумагой, столь для меня пагубной. Но когда он ее читал, я был потрясен, ясно осознав опасность, которой ныне подвергался. С одного взгляда понял я, что нахожусь в полной власти стоящего передо мною негодяя. Он заметил это и наслаждался моими терзаниями.
«Теперь, – сказал он, – мы хорошо узнали друг друга. Сейчас мне требуется тысяча фунтов. Я уверен, что вы мне не откажете. Когда я их истрачу, то приду опять. Пока же вы от меня избавляетесь». Я швырнул ему чек, и он удалился.
Ты легко поймешь, какое унижение испытал я, принеся гордость в жертву осторожности. Но принудили меня к этому исключительно важные соображения. Я быстро приближаюсь к могиле, и для меня не было бы существенной разницы, если бы насильственная смерть сократила мои дни: их и так остается уже не много, и я вовсе не стремлюсь их продлить. Но невыносима была мне мысль, что я навлеку на мать и сестру беду и позор, которых им не избежать, даже если бы на меня пало одно лишь подозрение в преступлении столь чудовищном. Когда же я осознал, как тяжелы скопившиеся против меня улики, принятый мною путь показался мне менее унизительным, чем мысль о тюремной камере и судебном разбирательстве, об улюлюканье и проклятьях черни, о смерти, уготованной убийцам, и позорной памяти, которую они по себе оставляют.
Но сильнее всех этих побуждений было мое отвращение, мой страх при одной мысли о чем-либо, могущем раскрыть перед всеми тайну прошлого. Я невыразимо страдал, представляя себе, что имя Гертруды и ее участь становятся всеобщим достоянием, что их обсуждают, критикуют, высмеивают праздные зеваки и любопытные. Поэтому мне показалось не бог весть каким нравственным подвигом побороть чувство унижения, которое я испытывал от злорадной наглости Торнтона, и утешаться мыслью, что через несколько месяцев я освобожусь и от его вымогательств и от жизни.
Однако с недавнего времени терзания, которым меня подвергал Торнтон, и его требования дошли до того, что я уже не в силах был сдерживать свое негодование и принуждать себя к уступкам. Борьба с самим собою мне уже не по силам, дело быстро приближается к самой жестокой последней схватке, которую мне придется претерпеть, прежде чем «злодей перестанет мучить, а усталый обретет покой». Несколько дней назад я принял решение, и теперь пусть оно совершится. Я намерен покинуть родину и найти убежище на континенте. Там я укроюсь от преследований Торнтона и от опасности, которой они мне грозят; там, никому не известный и никем не тревожимый, стану я дожидаться исхода своей болезни.
Но до отъезда мне предстояло выполнить два обязательства, и теперь оба уже выполнены: одно в отношении благородной женщины с горячим сердцем, почтившей меня своим сочувствием и привязанностью, другое в отношении тебя. У нее я был вчера и в общих чертах изложил ей историю, подробно рассказанную тебе. Я раскрыл перед ней бесплодную и выжженную пустыню своего сердца, поведал ей о болезни, которая вскоре унесет меня. Как прекрасна любовь женщины! Она хотела следовать за мною повсюду, принять мой последний вздох и, наконец, проводить меня к месту последнего успокоения. И все это без какой-либо надежды, без помысла о награде, хотя бы о награде от моей ничего не стоящей любви.
Но довольно! С нею я уже простился. Твои подозрения я понял и простил – они ведь были так естественны, Я считал себя обязанным их рассеять: пожатие твоей руки доказывает мне, что это сделано. Но для моей исповеди есть и другая причина. Сердце мое свободно от любовных увлечений, и теперь я не склонен поддаваться мелкой щепетильности и изощренности чувств, которые часто становятся для нас препятствием на пути к счастью. Я замечал, как ты прежде ухаживал за Эллен, и, признаюсь, меня это очень радовало. Ибо я знаю, что за всем твоим суетным честолюбием, за принятой тобою внешней, искусственной личиной скрывается горячее и великодушное сердце, благородный и проницательный ум. И если бы сестра моя была в десять раз совершеннее, чем она мне кажется, на всем свете не нашел бы я человека более достойного ее, чем ты. Заметил я и то, что за последнее время ты отдаляешься от Эллен. И, догадываясь о причине, я почувствовал, что обязан ее устранить. Она любит тебя, хотя, может быть, ты этого и не знаешь, – беззаветно, по-настоящему. Вся моя жизнь протекла в праздном себялюбии, и я хотел бы кончить ее с сознанием, что помог двум дорогим мне существам, и с надеждой, что моя смерть станет началом их счастья.
Теперь, Пелэм, я сказал все. Я ослабел, истерзан и, сейчас мне все тягостно, даже твое общество. Поразмысли над тем, что я сказал в заключение, и давай свидимся завтра еще раз. Послезавтра я навсегда покидаю Англию.
Глава LXXI
. . . . .
Не отвергнуть вовеки
Нам того, что любовь к небесам
Всколыхнет в человеке:
К дальним звездам влечет муравья.
Тьму – к лучу золотому.
Так из тесных оков бытия
Рвемся мы к неземному.
П. Б. Шелли
Нелегко было у меня на сердце, ибо я слишком любил Гленвила, чтобы не страдать, слушая его ужасную повесть, – все же с радостью, хотя и овеянной скорбью, узнал я, что друг мой невинен, подозрения, которые я питал на его счет, не оправдались, и устранено единственное препятствие к моему браку с его сестрой. Правда, меч все время висел над его головой, и мы не могли быть уверены в том, что, пока он жив, ему не грозят позор и смерть, уготованные преступнику. Поэтому, с точки зрения нашего общества, все преграды к моему с Эллен союзу далеко еще не были сняты. Но разочарования, недавно мною пережитые, вызвали у меня теперь такое отвращение к этому обществу, что сердце мое с удвоенной силой желания устремилось к чистой и святой любви, в которой я мог обрести и утешение и покой.
Впрочем, это эгоистическое соображение было не единственной побудительной причиной для того образа действий, который я решил избрать. Напротив, в сознании моем оно отнюдь не преобладало над другими, а именно, над моим желанием даровать другу, который был для меня теперь дороже, чем когда-либо, единственное еще возможное для него на этом свете утешение, а Эллен оказать самое надежное покровительство на случай, если бы брату ее грозила опасность. Конечно, ко всему этому примешивались и чувства, которые при более счастливых обстоятельствах могли быть проникнуты величайшим восторгом оттого, что моя глубокая и преданная любовь увенчалась столь блистательным успехом. Но теперь, когда сама жизнь Гленвила находилась под угрозой, я не имел права им предаваться и постарался заглушить их, как только они возникли.
Проведя бессонную ночь, я наутро отправился в дом леди Гленвил. Там я уже давно не бывал, и потому впустивший меня слуга был, казалось, несколько удивлен столь ранним посещением. Я выразил желание повидаться с матерью Эллен и стал ждать в приемной, пока она не появилась. В своей речи я обошелся без всяких излишних предисловий, а в немногих словах высказал свою любовь к Эллен и попросил ее мать быть посредницей в мою пользу. Зная, как она любит сына, я решил, что мне в немалой степени поможет и упоминание о сочувствии, которое к моему намерению питает Гленвил.
– Эллен наверху, в гостиной, – сказала леди Гленвил. – Сейчас я пойду и предупрежу ее, что вы здесь; если вы получите ее согласие, то мое вам обеспечено.
– В таком случае, не разрешите ли мне опередить вас? Простите мое нетерпение и дайте мне поговорить с ней первому.
Леди Гленвил держалась добрых старых традиций и питала некоторую склонность ко всяким формальностям и церемониям. Поэтому, не рассчитывая на благоприятный ответ, я, вместо того, чтобы дожидаться его, со свойственной мне уверенностью вышел из комнаты и быстро взбежал по лестнице наверх. Войдя в гостиную, я закрыл за собою дверь. Эллен сидела в глубине комнаты. Я вошел так неслышно, что она заметила мое присутствие лишь тогда, когда я уже был подле нее.
Увидев меня, она вздрогнула. Лицо ее, дотоле совсем бледное, вспыхнуло.
– Боже мой, вы? – произнесла она прерывающимся голосом. – Я… я думала… но, простите, я сейчас… Я только позову маму.
– Подождите минутку, умоляю вас, я уже виделся с вашей матушкой, она-то и послала меня к вам.
И тут быстро, дрожащим голосом, ибо привычная смелость меня покинула, я в немногих, но горячих словах поведал ей историю моей тайной, всевозрастающей любви, все ее сомнения, страхи и надежды.
Эллен снова опустилась на стул, молча, словно завороженная и собственными своими чувствами и неистовой силою моих. Я опустился на одно колено и, схватив ее руку, стал покрывать поцелуями – Эллен не отняла у меня руки. Я поднял глаза и в ее глазах прочел все, на что сердце мое надеялось, но чего не осмеливалось выразить даже про себя.
– Вы… вы… – произнесла она, обретя, наконец, дар речи. – Я думала, вы заняты только своим честолюбием и мыслями об успехе в обществе… Я и мечтать не могла об этом. – Она покраснела и смущенно замолкла.
– Верно, – сказал я, – вы имели право так думать: ведь я до настоящего момента ни разу не приоткрыл вам своего сердца, не обнаружил его тайных безумных желаний. Но разве вы думаете, что любовь моя, оставаясь скрытой, была для меня меньшим сокровищем? Разве она была менее глубока оттого, что лежала на самом дне моей души? Нет, нет, поверьте мне, такой любви нельзя было смешивать с явлениями обыденной жизни. Она была слишком чистой, чтобы осквернять ее легкомыслием и безрассудством, природными моими свойствами, которые развивались во мне, когда я жил светской жизнью. Не думайте, что если я был праздным среди праздных, себялюбцем среди себялюбцев, холодным, тщеславным, беспечным среди тех, для кого такие свойства – достоинства и добродетели, не думайте, что я не таил в себе ничего более достойного и вас и себя самого. Сама любовь моя к вам доказывает, что я мудрее и лучше, чем казался. Скажите же мне, Эллен, – я позволяю себе назвать вас по имени, – скажите мне хоть слово, хоть полслова! Ответьте мне, скажите, что вы прочли все, скрытое в моем сердце, и не отвергнете его.
Дорогие мне уста не раскрылись для ответа. Но на них играла мягкая, ласковая улыбка, и я понял, что могу надеяться. Доныне я помню и благословляю тот час! Он был – лучший в моей жизни.
Глава LXXII
Тысячу крон – иль голову долой!
«Король Генрих VI», ч. III
Простившись с Эллен, я поспешил к сэру Реджиналду. В холле царил обычный перед отъездом беспорядок. Я перепрыгнул через груды книг и ящики, преграждавшие мне путь, и взбежал вверх по лестнице. Гленвил, как всегда, находился в полном одиночестве. Лицо его было не так бледно, как вчера, и, увидев, как оно просияло при моем появлении, я, опьяненный своим счастьем, возымел надежду, что он, может быть, справится и с врагом своим и с болезнью.
Я поведал ему обо всем, что произошло сейчас между мною и Эллен.
– А теперь, – добавил я, крепко сжимая его руку, – у меня есть к тебе одно предложение, на которое ты должен согласиться: позволь мне сопровождать тебя за границу. Я поеду с тобою в любое место, которое ты предпочтешь. Вместе обдумаем мы все возможные способы сохранить в тайне наше убежище. Я никогда не стану заговаривать с тобою о прошлом. В часы, когда тебе захочется одиночества, я не стану докучать ненужным и несвоевременным выражением своего сочувствия. Я стану заботиться о тебе, охранять, поддерживать с такой нежной любовью, какой не питал бы и к родному брату. Видеть меня ты будешь лишь тогда, когда пожелаешь. Никто не нарушит твоего одиночества. Когда тебе станет лучше, – а я уверен, что так будет, – я отправлюсь обратно в Англию и в самом крайнем случае обеспечу сестре твоей защитника. Затем я возвращусь к тебе один, ибо место твоего добровольного затворничества опасно раскрывать кому бы то ни было, даже Эллен, и останусь с тобой до… до…
– До конца! – прервал меня Гленвил. – Пелэм, ты слишком… слишком великодушен. Видишь, на (глазах у меня слезы (впервые за много, много времени), так бесконечно тронут я, до самой глубины души, твоей дружеской, бескорыстной привязанностью. Но теперь твоя любовь к Эллен увенчалась успехом, и я не согласен, хотя бы даже на время, лишать тебя твоего счастья. Поверь, как ни приятно мне было бы твое общество, гораздо сильнее будет радость моя от сознания, что вы с Эллен вместе и счастливы. Да, при одной мысли об этом исчезнет вся горечь одиночества. От меня ты получишь последнее письмо: в нем будет некая просьба, и дружеская твоя любовь ко мне получит полное удовлетворение и утешение оттого, что ты ее выполнишь. Что до меня лично, то я умру, как и жил, – один. Делить с кем-либо мое горе представляется мне странным и ненужным.
Я не в силах был слушать его дальше. Я прервал его новыми доводами и мольбами, на которые он начал было склоняться, и у меня появилась уже твердая надежда убедить его, как вдруг мы вздрогнули, услышав в холле какой-то отчаянный шум.
– Это Торнтон, – спокойно сказал Гленвил. – Я велел не принимать его, и он пытается пройти силой.
Не успел сэр Реджиналд договорить, как Торнтон ворвался в комнату.
Хотя время было еще раннее, около полудня, он уже где-то напился; пошатываясь, направился он к нам, и в блуждающих пьяных глазах его можно было прочесть выражение наглости и торжества.
– Ого, сэр Реджиналд, – произнес он, – что, хотели от меня улизнуть? Ваши чертовы прислужники сказали, будто вас дома нет, но я живо заткнул им глотку. Они у меня стали тише воды, ниже травы – недаром я научился владеть кулаками. Итак, вы завтра отбываете за границу, да еще без моего разрешения – славную шуточку вы намеревались со мною сыграть. Ладно, ладно, приятель, нечего смотреть так сердито. Ни дать ни взять сторожевой пес, которому шею свернули!
Гленвил, побелев от еле сдерживаемой ярости, поднялся с высокомерным видом.
– Мистер Торнтон, – промолвил он спокойным голосом, хотя от возбуждения весь дрожал. – Сейчас я не намерен терпеть вашего наглого вторжения. Вы немедленно выйдете из комнаты. А если вам от меня еще что-нибудь нужно, я выслушаю вас сегодня вечером, в любой час.
– Ну нет, друг любезный, – ответил Торнтон с хриплым смехом, – у вас, конечно, ума хватит на трех человек – двух дураков и одного сумасшедшего, но меня-то вам не провести. Не успею я повернуться к вам спиной, как вы сделаете то же самое, и когда я снова навещу вас, ваша милость уже будете на полдороге в Кале. Но – черт побери мою душу – никак это вы, мистер Пелэм? А я-то вас сперва и не заметил. Вы ведь, наверно, не посвящены в нашу тайну?
– От мистера Пелэма у меня тайн нет, – сказал Гленвил, – если вам угодно, можете обсуждать при нем гнусную сделку, которую вы со мной совершаете. Раз вы не верите моему слову, убеждать вас – ниже моего достоинства, и с делом вашим можно покончить хоть сейчас. Вам правильно сообщили, что я завтра намерен покинуть Англию. А теперь, сэр, что вам угодно?
– Клянусь богом, сэр Реджиналд Гленвил! – вскричал Торнтон, видимо до крайности уязвленный холодным презрением Гленвила. – Вы не покинете Англию без моего согласия. Можете хмуриться сколько угодно, я вам говорю – не покинете. Вы даже за порог этой комнаты не переступите, пока я не скажу: «Разрешаю!»
Гленвил был не в силах больше сдерживаться. Он бросился бы на Торнтона, но я схватил и удержал его. На лице его мучителя прочел я такую ярость и злобу, что мне стало очевидно, какой опасности подвергнет моего друга малейшая неосторожность, и я смертельно за него боялся.
Заставив его снова опуститься в кресло, я шепнул ему на ухо:
– Дайте мне поговорить с этим человеком наедине, и я попытаюсь вас от него избавить. – И, не ожидая ответа, я обернулся к Торнтону и сказал холодным, но вежливым тоном: – Сэр Реджиналд Гленвил ознакомил меня с необычайными требованиями, которые вы к нему предъявляете. Если бы он послушался моего совета, то немедленно передал бы это дело в руки своего поверенного. Однако он так болен, так стремится поскорее уехать за границу и почти всем пожертвовать ради своего покоя, что готов пренебречь моим советом и избавиться от ваших приставаний, уступив домогательствам, как бы они ни были незаконны и неоправданны. Поэтому, если вы соблаговолили посетить сэра Реджиналда с целью предъявить ему какое-то требование до его отъезда из Англии, то есть последнее, на которое он согласится, то будьте добры сообщить сумму, которой вы домогаетесь, и если она будет в пределах разумного, я думаю, сэр Реджиналд уполномочит меня передать вам, что вы будете удовлетворены.
– Ну вот и ладно! – вскричал Торнтон. – Это речь разумного человека. И хотя я не люблю разговаривать с третьими лицами, когда присутствует тот, кто мне нужен; я не возражаю против того, чтобы иметь дело с вами, поскольку вы всегда были со мною вежливы. Пожалуйста, передайте сэру Реджиналду вот эту бумагу. Если он возьмет на себя труд подписать ее, может отправляться хоть на Ниагарский водопад! Я не стану ему препятствовать, – так пусть же он возьмет в руки перышко и таким образом навсегда от меня избавится, ибо я понимаю, что нужен ему, как снег во время уборки урожая.
Я взял у него сложенную бумагу и передал Гленвилу, который откинулся на спинку кресла, ослабевший от приступа ярости. Он едва взглянул на нее и тотчас же разорвал на мелкие кусочки, растоптал их ногами.
– Вон! – закричал он. – Вон, мерзавец, делай что хочешь. Я не стану нищим ради того, чтобы тебя обогатить. Ведь он требует всего моего состояния.
– Как угодно, сэр Реджиналд, – со злобной усмешкой ответил Торнтон, – как угодно. Отсюда до Боу-стрит недалеко, а из Ньюгейтской[795]795
Ньюгейт – тюрьма в Лондоне.
[Закрыть] тюрьмы на виселицу еще ближе. Как угодно, сэр Реджиналд, как угодно! – И негодяй, разлегшись во весь рост на оттоманке, уставился прямо в лицо Гленвилу со спокойным и злобным вызовом, словно говоря: «Я знаю, ты будешь брыкаться, но сделать-то ничего не сможешь».
Я отвел Гленвила в сторону.
– Друг мой, – сказал я ему, – поверь, я вполне разделяю твое возмущение, но мы должны сделать все, только бы не разъярить этого подлеца. Чего он требует?
– Я нисколько не преувеличиваю, – ответил Гленвил, – когда говорю, что он потребовал почти всего моего состояния, я ведь привык тратить безрассудно, и это сильно отразилось на моих средствах. Он требует именно ту сумму, которую я отложил в качестве приданого для сестры в добавление к ее личному состоянию.
– В таком случае, – сказал я, – отдай ему эти деньги. Сестра твоя выходит за меня и ни в каком приданом не нуждается. А что касается лично тебя, то ведь тебе не так уж много нужно, и ты разделишь со мною все, что у меня есть.
– Нет, нет, нет! – вскричал Гленвил.
Природное великодушие снова подхлестнуло в нем гнев, он вырвался из моих рук и угрожающе двинулся на Торнтона. Эта достойная личность по-прежнему возлежала на диване, поглядывая на нас с полупрезрительным, полуторжествующим видом.
– Сию же минуту убирайтесь вон, – произнес Гленвил, – не то раскаетесь!
– Как! Еще одно убийство, сэр Реджиналд! – сказал Торнтон. – Ну нет, я не воробей, чтобы мне свернула шею такая дамская ручка, как ваша. Дайте мне то, чего я требую, подпишите бумагу и избавитесь от меня на веки вечные и еще на один день в придачу.
– Такого безумства я не совершу, – ответил Гленвил. – Если вы соглашаетесь на пять тысяч фунтов, то эту сумму вы получите. Но пусть мне петлю накинут на шею, вы из меня не вытянете больше ни гроша.
– Пять тысяч! – повторил Торнтон. – Да это же одна капля, пустяк, вы просто смеетесь надо мной, сэр Реджиналд. Ну, я человек благоразумный и, пожалуй, кое-что сбавлю, хотя требования мои вполне справедливые. Дайте мне возможность уютно и удобно устроиться в жизни, завести свору охотничьих собак, хорошенький домик и к нему участок земли да девушку по моему вкусу, и я буду считать, что мы с вами квиты. Вот мистер Пелэм, джентльмен башковитый, который сам себе свинью подкладывать не станет, хорошо знает, что пяти тысяч фунтов для всего этого мало. Положите мне тысячу фунтов в год, то есть дайте кругленькую сумму в двадцать тысяч зараз, и я не потребую от вас больше ни гроша. Черт побери, от пьянства всегда страшная жажда; мистер Пелэм, протяните-ка мне вон тот стакан с водой, у меня голова что-то кругом пошла.
Видя, что я даже не шевельнулся, Торнтон встал и, проклиная всех гордецов на свете, с важным видом двинулся к столу, чтобы взять случайно стоявший на нем стакан с водой; неподалеку лежал портрет злосчастной Гертруды. Игрок, пьяный до такой степени, что плохо отдавал себе отчет в своих действиях и словах (иначе он, по всей вероятности, сделал бы, если употребить одну из его любимых, характерных для его профессии поговорок, более удачный ход), взял в руки портрет.
Гленвил заметил это движение и в один миг оказался уже рядом с Торнтоном.
– Не прикасайся к нему своими проклятыми лапами! – бешено закричал он, уже не владея собой. – Положи сейчас же на место, или я разорву тебя на клочки.
Но Торнтон крепко зажал портрет в руке.
– Вот это штучка! – издевательски протянул он. – Не успело это слово вылететь из его уст, как он во весь рост растянулся на полу. Но Гленвил на этом не остановился. Как тяжело он ни был болен, порыв ярости подхлестнул его атлетически сложенное тело: он поднял игрока, словно малого ребенка, и потащил к двери; в следующий момент я услышал, как Торнтон тяжело скатился вниз, что было весьма мало похоже на изящный и медленный спуск по лестнице.
Гленвил вернулся в комнату.
– Боже мой! – вскричал я. – Что ты наделал!
Но он был еще слишком разъярен, чтобы обратить внимание на мои слова. Обессиленный, задыхающийся, прислонился он к стене; зубы его были стиснуты, глаза сверкали особенно страшно из-за лихорадочного блеска, который придавала им болезнь.
Тут я услышал, как Торнтон вновь поднимается по лестнице. Он открыл дверь и едва переступил порог. Никогда еще не видел я на человеческом лице выражения такой беспредельной злобы и ярости.
– Сэр Реджиналд Гленвил, – произнес он. – Сердечно вам благодарен. Чтобы сцепиться с медведем, надо иметь железные когти. Вы бросили мне вызов, а ответ мой вам доставит палач. Будьте здоровы, сэр Реджиналд, будьте здоровы, мистер Пелэм. – С этими словами он закрыл за собою дверь, быстро спустился по лестнице, и в следующее мгновение его уже не было в доме.
– Нельзя терять ни секунды, – сказал я. – Закажи почтовых лошадей, впряги их в свою карету и тотчас же уезжай.
– Ты не прав, – ответил Гленвил, постепенно приходя в себя. – Я не должен бежать. Это не просто бесполезно, а гораздо хуже. Это было бы самым явным доказательством моей виновности. Пойми, что если Торнтон действительно пошел донести на меня, я буду арестован агентами правосудия задолго до того, как достигну Кале. А если бы я даже добрался туда, то во Франции они схватят меня так же легко, как и в Англии. Но, говоря по правде, я не думаю, чтобы Торнтон донес. Для такого человека, как он, деньги – искушение более сильное, чем жажда мести. На свежем воздухе он минуты через три протрезвится и сообразит, что убивать ради утоления мгновенной вспышки злобы курицу, несущую золотые яйца, – чистое безумие. Нет: самое правильное для меня – ждать до завтрашнего утра, как я и намеревался. А тем временем он, по всей вероятности, нанесет мне еще один визит, и я с ним сторгуюсь.
Несмотря на мои опасения, я не мог не видеть всей справедливости этих соображений, тем более что у меня самого имелся в их пользу довод гораздо более сильный, чем все, приведенные Гленвилом. Это была глубочайшая внутренняя убежденность в том, что сам Торнтон виновен в убийстве Тиррела и что поэтому он ради личной своей безопасности постарается избежать нового, обстоятельнейшего следствия по этому ужасному делу, а если он обвинит Гленвила, – без этого не обойдется.
Оба мы ошибались. Сильные страсти негодяям свойственны так же, как и честным людям. Они тоже способны жертвовать своей выгодой этим страстям, хотя, по расчетам людей рассудительных, выгода – единственное правило, которым они руководятся.
Пережитое волнение так обессилило Гленвила, что он снова попросил меня оставить его. Я согласился, взяв с него обещание, что он увидится со мною вечером, ибо, несмотря на мою уверенность, что Торнтон не приведет своей угрозы в исполнение, я не мог до конца заглушить в себе мрачного рокового предчувствия.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































