Текст книги "Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентльмена"
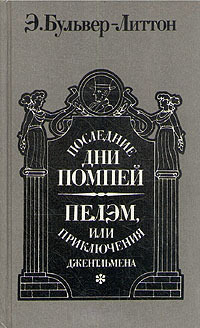
Автор книги: Эдвард Бульвер-Литтон
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 52 (всего у книги 60 страниц)
С того мгновения, как я уловил смысл прерывистых фраз, которые произносила Гертруда, словно какой-то демон завладел моей душою. Все человеческие чувства как бы исчезли из моего сердца – оно всецело отдалось одному пламенному, ненасытному, яростному желанию, и это была жажда мщения. Я хотел уже оторваться от ее ложа, но рука Гертруды крепко сжала мою и удержала меня. Эта рука, влажная и холодная, становилась все холоднее и холоднее… пальцы разжались… рука упала… я взглянул на Гертруду… легкая, но зловещая дрожь прошла по лицу ее, казавшемуся еще более призрачным в призрачно-белесоватом лунном свете, тело свело судорогой, какой-то лепет вырвался из разжавшихся бесцветных губ. Остального досказывать не буду… Ты знаешь… Ты сам догадаешься.
На той же неделе мы похоронили ее на пустынном кладбище, где она в минуты просветления высказывала желание лежать рядом с могилой своей матери.
Глава LXX
– Слава богу, самая мучительная для меня часть моей истории окончена. Теперь ты можешь понять, как случилось, что мы с тобою встретились на ***ском кладбище. Я поселился в домике неподалеку от могилы, где покоились останки Гертруды. Каждую ночь ходил я в это безлюдное место, жаждал улечься подле моей навеки уснувшей подруги и все время оплакивал ее, думая только о себе. Я простирался ниц на могильном холме, я смиренно проливал слезы. Сердце мое, измученное до предела, забывало обо всем, что пробудило в нем самые бурные страсти. Ненависть, жажда мщения – все исчезло. Я поднимал лицо свое к благостным небесам, я взывал к ним, и голос мой громко звучал в мирном безмолвии ночи. Когда же голова моя снова падала на хладную могильную насыпь, я не думал ни о чем, кроме сладостных первых дней нашей любви, кроме горестной преждевременной смерти моей любимой. В одно из таких мгновений услышал я твои шаги, вторгшиеся в царство моей скорби; и в это мгновение, когда кто-то другой увидел меня, когда чьи-то другие глаза проникли в святилище моей печали, с этого самого мгновения вся нежность и святость, еще таившиеся в душе, одержимой темными страстями, исчезли, подобно тому, как свертывается пергаментный свиток. С новой силой овладела мною жалящая память, и отныне ей суждено было стать основным стержнем, ключом моего существования. Снова вспомнил я последнюю ночь Гертруды, снова трепетал, прислушиваясь к приглушенному лепету, страшный смысл которого постепенно проникал мне в душу, снова ощущал холодное-холодное, влажное прикосновение прозрачных, мертвеющих пальцев. И снова ожесточил я свое сердце железной решимостью и дал клятву неискоренимой вечной ненависти и беспощадного мщения.
Наутро после той ночи, когда ты застал меня на кладбище, я покинул свою обитель. Я отправился в Лондон и попытался как-то привести в порядок свои мстительные замыслы. Прежде всего следовало установить, где сейчас находится Тиррел. Случайно выяснил я, что он в Париже, и выехал туда через два часа после того, как были получены эти сведения. По приезде я скоро нашел его, ибо знал, где бывают игроки. Однажды ночью я увидел его в игорном притоне. Ясно было, что он в стесненных обстоятельствах и что за столом ему не везет. Не замеченный им, я упивался, глядя, как изменяются черты его лица по мере того, как в них отражаются все ужасные, мучительные ощущения, которые можно пережить лишь у игорного стола. И пока я смотрел на него, впервые осенила меня мысль об особенно изысканной, утонченной мести. Поглощенный связанными с этой мыслью соображениями, я направился в совершенно пустую соседнюю комнату. Там я уселся и принялся более подробно обдумывать свой еще смутный, принявший лишь самые общие очертания замысел.
Сам лукавый искуситель рода человеческого послал мне верного помощника. Я сидел, погруженный в задумчивость, как вдруг услышал, что кто-то назвал меня по имени.
Я поднял глаза и увидел человека, которого часто видел с Тиррелом и в Спа и на лечебных водах, где мы с Гертрудой встретили Тиррела. Это была личность низкая – по происхождению и по натуре, но за склонность к грубому юмору и пошлую предприимчивость люди, разделявшие вкусы Тиррела, считали его человеком разносторонне одаренным и чем-то вроде Йорика. Благодаря этой незаслуженной славе, а также своему увлечению игрой, которое уравнивает людей самого различного общественного положения, он в некоторых кругах принимался за человека более высокого ранга, чем был в действительности. Нужно ли говорить, что речь идет о Торнтоне? Я знал его очень мало; однако же он заговорил со мною так, словно мы были друзьями, и попытался завести со мною беседу.
«Видели вы Тиррела? – сказал он. – Он опять принялся за свое: знаете, что ты впитал с молоком матери, и так далее». Я побледнел, услышав имя Тиррела, и ответил очень коротко, что именно – уже не помню. «Ага! – продолжал Торнтон, глядя на меня с наглой фамильярностью. – Я вижу, вы ему не простили: в *** он сыграл с вами гнусную шутку – соблазнил вашу любовницу или что-то в этом роде, он мне рассказывал. А скажите, что с этой бедной девушкой?»
Я не ответил, сердце у меня упало, захватило дыхание. Все мои страдания показались мне ничем по сравнению с только что перенесенным унижением. Это о ней… о ней… которая некогда была моей гордостью… честью… всей жизнью… о ней говорили так… и… я не в силах был думать об этом. Я быстро встал, бросил на Торнтона взгляд, который привел бы в полное замешательство человека, не столь бесстыдного и подлого, как он, и вышел из комнаты.
В эту ночь я, не смокнув глаз, лихорадочно метался на своей постели, точно это было ложе, усеянное шипами, и вдруг сообразил, какую пользу могу извлечь из Торнтона при осуществлении своего замысла. На следующее утро я разыскал его и подкупил (это было не очень трудно): он обещал мне хранить тайну и помогать. Всякому, видевшему и наблюдавшему не так много самых различных людей, как довелось тебе, план мщения, выработанный мною, показался бы каким-то вымученным, неестественным. Ибо люди, поверхностно судящие обо всем, готовы считать естественными всякие чудачества в спокойном течении повседневной жизни, но они неспособны представить себе их в бурном кипении страстей, а ведь именно в подобные мгновения хватаешься за любую нелепость, если она окажется средством, ведущим прямо к цели. Если бы тайные движения сердца смятенного, охваченного страстями, были открыты всем, в них можно было бы обнаружить гораздо больше романтического, чем во всех баснях, от которых мы с недоверием и презрением отворачиваемся, считая их преувеличенными и фантастичными.
Мысленно я строил тысячи планов мщения, но среди них смерть моей жертвы была лишь самой последней целью. Да, смерть – мгновенная судорога – представлялась мне лишь очень слабым возмездием за жизнь, ставшую медленной, непрерывной пыткой, на какую меня обрекло его предательство. Но мое страдание, мои муки я еще мог бы простить. Жало моей мести острила и яд ее питала мысль об участи, постигшей создание более невинное и более оскорбленное, чем я. Этой жажды мщения не могла утолить какая-либо обычная расплата. Если фанатизм удовлетворяется только дыбой и пламенем костров, ты легко можешь представить себе ненависть, которую испытывал я: столь же неукротимую и яростную, но притом смертельную, неуклонно стремящуюся к одной цели и справедливую. И если фанатизм мнит себя добродетелью, то так же было и с моей ненавистью.
Окончательно созревший у меня замысел состоял в том, чтобы все крепче и крепче привязывать Тиррела к игорному столу, быть неизменным свидетелем его безрассудств, наслаждаться его лихорадочным возбуждением и страхом, постепенно погружать его на самое дно нищеты, упиваться предельным унижением, которое он тогда испытает, лишить его помощи, утешения, сочувствия и дружбы с чьей бы то ни было стороны, незримо следовать за ним в какую-нибудь жалкую, грязную конуру, следить за борьбой, которую неутолимость желаний поведет в нем с возмущенной гордостью, в конце концов увидеть изможденное лицо, впавшие глаза, бескровные губы – ужасные, мучительные следы жестокой нужды, доводящей до голодной смерти. И тогда, у этого последнего предела, но не раньше, я открылся бы ему, предстал бы перед ним, простертым без надежды и помощи на смертном ложе, и крикнул бы ему в ухо, уже едва слышащее, то имя, которое сможет пробудить в нем страшные воспоминания, лишить его борющееся в предсмертных судорогах сознание последней опоры, последней соломинки, за которую он в безумии своем пытался бы ухватиться, и еще больше сгустить сумрак близкого конца, открыв его трепещущим чувствам преддверие разверстой пасти ада.
Охваченный нечистым пылом, который возбудили во мне эти намерения, я помышлял только о том, как бы их осуществить. Торнтона, неизменно связанного тесными отношениями с Тиррелом, я использовал для того, чтобы он все больше и больше завлекал Тиррела в игорный дом. А так как неверное счастье за столом в притоне не могло привести даже такого неутомимого, пламенного игрока, каким был Тиррел, к разорению так быстро, как того требовало мое нетерпение, Торнтон пользовался каждым подходящим случаем, чтобы затевать с ним игру один на один и ускорять осуществление моих замыслов, применяя так хорошо известные ему неподобающие приемы. Враг мой с каждым днем приближался к полному разорению. Близких родственников он не имел, с дальними рассорился; друзьям своим и даже знакомым он надоел постоянными приставаниями или возмутил их своим поведением. В целом свете, по-видимому, не было человека, который протянул бы руку помощи, чтобы спасти его от окончательного безденежья, от полной нищеты, к чему он приближался в полном отчаянье. Последнее, что он способен был выжать из бывшего своего имущества или из бывших друзей, немедленно ставилось на карту в игорном доме и немедленно проигрывалось.
Может быть, все это шло бы не так быстро, если бы Торнтон не поддерживал его надежд всевозможными искусными способами. Тиррел часто пользовался его услугами как профессионала. Торнтон хорошо знал все домашние дела игрока, и когда он давал ему обещание изыскать на самый крайний случай какое-нибудь средство для поправления дел, Тиррел с готовностью предавался успокоительной надежде.
Я со своей стороны принял имя и внешний облик, под которыми стал известен тебе в Париже, а Торнтон представил меня Тиррелу как молодого англичанина, очень богатого и в еще большей мере – неопытного. Игрок жадно ухватился за новое знакомство, из которого, в чем быстро уверил его Торнтон, можно было извлечь выгоду. Таким образом я получил легкую возможность день за днем отмечать, как сеть, которую я сплетал вокруг Тиррела, становится все плотнее, как месть моя приближается к вожделенной цели.
Но это было еще не все. Я только что сказал, что на белом свете не было человека, который бы спас Тиррела от заслуженной им и неминуемой участи. Но я запамятовал, что было все же одно существо, которое еще таило к нему нежную привязанность и к которому он, в свою очередь, испытывал, казалось, более благородное и нежное чувство, сохранившееся со времен, когда он не был так испорчен и грешен. И вот я приложил все свои силы и старания к тому, чтобы это существо (ты легко догадаешься, что то была женщина) отшатнулось от моей добычи; я не мог допустить, чтобы у Тиррела сохранилось утешение, которого он лишил меня. Я применил все средства обольщения, чтобы ее нежное чувство перешло от него ко мне. Все, что могло мне помочь, клятвы и обещания, соблазны любви и богатства – все было пущено в ход, и в конце концов – успешно; я одержал победу. Эта женщина стала моей рабой. Когда Тиррел колебался – идти ли ему дальше по гибельной дороге, именно она боролась с его сомнениями и подталкивала его вперед; именно она обстоятельно сообщала мне о плачевном положении его финансов и делала все, что только могла, для того, чтобы они как можно скорее иссякли. А самое жестокое предательство – бросить его на произвол судьбы в самую тяжелую минуту – было, по моему желанию, отложено до наиболее подходящего случая, и я ожидал его с какой-то злобной радостью.
В осуществлении моего замысла смущали меня два обстоятельства: во-первых, знакомство Торнтона с тобой, во-вторых, совершенно неожиданное получение Тиррелом (немного времени спустя) двухсот фунтов за отказ от каких бы то ни было возможных дальнейших претензий к покупателям его имения. Ты должен простить меня, если с первым, поскольку оно могло помешать осуществлению моих планов или раскрыть мое инкогнито, я постарался как можно скорее покончить. Другое меня сильно встревожило, ибо первой мыслью Тиррела было отречься от игорного стола и попытаться жить на полученные им жалкие гроши столько времени, сколько позволит строжайшая бережливость.
Но, по моему указанию, Маргарет, женщина, о которой шла речь, противилась этому намерению столь искусно и успешно, что Тиррел уступил своей природной склонности и вновь с увлечением предался любимому занятию. Однако я так нетерпеливо стремился завершить эту подготовительную часть моей мести, что мы с Торнтоном условились уговорить Тиррела рискнуть всем, что у него было, до последнего фартинга, в игре один на один со мною. Полагая, что ему легко удастся поправить свои дела благодаря моей неопытности в игре, Тиррел легко попался в ловушку. И на вторую же ночь нашего карточного поединка он не только проиграл все, что у него еще оставалось, но и подписал долговое обязательство на сумму, о которой в то время и мечтать не мог.
Раскрасневшийся, разгоряченный, почти обезумевший от торжества, я весь предался восторгу, охватившему меня в этот миг. Я не знал, что ты находишься так близко, и выдал себя – ты помнишь, как все это произошло. Радостно отправился я домой и впервые после смерти Гертруды был счастлив. Но, по моему расчету, это должно было быть лишь началом моего мщения: я упивался пламенной надеждой, представлял себе, как он будет нуждаться в самом необходимом и голодать у меня на глазах. На следующий день, когда Тиррел, в полном отчаянии, пожелал услышать хоть одно слово утешения из уст, которым, как он любя и веря, думал, чужды были ложь и предательство, его последний друг посмеялся над ним и покинул его. Знай, Пелэм, я при этом присутствовал и слышал ее слова!
Но тут-то иссякла для меня возможность осуществить свою месть до конца: я еще не утолил, не усмирил своей жажды, а кубок был внезапно оторван от моих губ. Тиррел исчез: куда – никто не знал. Я велел Торнтону навести справки. Через неделю он сообщил мне, что Тиррел умер в крайней нужде от предельного отчаяния. Поверишь ли ты, что, когда я услышал об этом, первыми чувствами моими были ярость и разочарование? Да, он умер, умер в той самой нищете, которой я для него желал, но я не стал свидетелем его смерти, и мне казалось, что он не испытал самых горьких мук смертного ложа.
Хотя я часто расспрашивал Торнтона, мне и посейчас неизвестно, для чего ему понадобилось вводить меня в заблуждение. Думаю, что и сам он был обманут[794]794
Как потом выяснилось, дело именно так и обстояло. (Прим. автора.)
[Закрыть]. Достоверно только (ибо я сам это разузнал), что один человек, по описанию очень походивший на Тиррела, погиб в состоянии, о котором говорил Торнтон. Это, по всей видимости, и ввело его в заблуждение.
Я покинул Париж и через Нормандию вернулся в Англию (где и прожил несколько недель). Там мы с Торнтоном встретились снова. Но я думаю, что подлинная встреча наша состоялась тогда, когда Торнтон стал донимать меня своей наглостью и дерзостью. Лезвие страстей наших – обоюдоострое. Подобно царю, который выпускал в битву с врагами диких зверей, мы убеждаемся, что эти неверные союзники для нас самих гибельнее, чем для врагов. Но не такой у меня характер, чтобы я стал сносить насмешки или приставания человека, который был марионеткой в моих руках. Я весьма неохотно терпел его фамильярные выходки, когда не мог обойтись без его услуг. Теперь же услуги, которые он к тому же оказывал мне не по дружбе, а за плату, больше не требовались, и я еще менее склонен был выносить его близость. Подобно всем людям такого же склада, как он, Торнтон обладал некоторым низменным самолюбием, постоянно получавшим от меня щелчки. Ему приходилось бывать на дружеской ноге с людьми даже более высокого положения, чем я, и его оскорбляло мое высокомерное отношение; я же не мог вести себя иначе – так отвратительны были мне свойства его натуры. Правда, я проявлял столь безудержную щедрость, что этот алчный негодяй преспокойно глотал обиды, за которые так хорошо вознаграждался. Но со свойственной ему злобной хитростью и коварством он хорошо знал, как за них отплачивать тою же монетой. Он помогал мне, но в то же время высмеивал мое мщение. И хотя ему вскоре стало ясно, что, произнеси он хоть полслова, оскорбительных для Гертруды или ее памяти, это может стоить ему жизни, он все же умудрялся наносить мне раны в самое чувствительное, самое больное место всевозможными замечаниями общего характера или же скрытыми намеками. Так возникла, росла и все усиливалась в нас неприязнь друг к другу, превратившись, наконец, во взаимную ненависть, которая, думается мне, и стала, как в преисподней у дьяволов, нашей общей карой.
Не успел я возвратиться в Англию, как обнаружил, что он уже там и дожидается моего приезда. Он удостаивал меня частыми посещениями и просьбами о деньгах. Не обладая никакой тайной, действительно угрожающей моей репутации, он хорошо понимал, что знает нечто способное нарушить мое душевное равновесие, и, как только мог, пользовался тем, что для меня не было ничего тягостнее и мучительнее даже самого легкого напоминания о моих отношениях с Гертрудой, об их мрачной и гибельной развязке. Под конец он мне все же надоел. Я убедился, что он опускается на самое дно, к последним отбросам общества, и мне стала невыносима даже мысль о том, чтобы дальше терпеть его фамильярные выходки и потакать его порокам.
Не стану подробно распространяться о своих внутренних переживаниях, а также о событиях моей внешней, мирской жизни. Великая перемена произошла в моей душе: ее уже не раздирали яростные и противоречивые страсти. Бурное некогда море лежало теперь в мертвенном, тягостном покое: его не волновали теперь даже легкие целительные ветры.
Я спал над бездною оцепенелой.
Сильная, всепоглощающая страсть есть одно из самых безнравственных явлений, ибо после нее дух наш всегда слишком изнеможен, слишком погружен в косность, чтобы оказаться способным к той действенной, энергичной жизни, которой мы по-настоящему обязаны жить. Все же теперь, когда чувство, тиранически властвовавшее над моей душою, угасло, я попытался сбросить вызванную им же апатию и возвратиться к разнообразным занятиям и делам повседневного существования. С надеждой и пылом ребенка хватался я за все, что могло отвлечь меня от мрачных воспоминаний или же хоть на миг нарушить мою душевную оцепенелость. Так, ты нашел меня предавшимся всяческим суетным обольщениям, которые надоедали мне, как только проходила их новизна: то я тщеславно гнался за литературным успехом, то за еще более пустыми побрякушками, которые может дать богатство. Порою я замыкался в уединении и размышлял о догматах ученых и заблуждениях мудрецов, порою же отдавался жизни более деятельной, разделяя увлечения суетящейся вокруг меня толпы, и тешил свое сердце надеждой, что аплодисменты государственных мужей и деловой водоворот заглушат голос прошлого и отгонят призрак смерти.
Осуществились ли эти надежды, успешной ли была борьба, ты сможешь судить по тому, как осунулось мое лицо, как разрушается моя оболочка, как явственно день за днем приближаюсь я к могиле. Но я уже говорил, что не стану удлинять эту часть моей истории, да оно и не нужно. Лишь об одном предмете, не связанном с сутью моей исповеди, должен я упомянуть ради некоего существа, нежно любящего и ни в чем не повинного.
В холодном и недружелюбном мире, куда я вступил, было одно сердце, уже в течение многих лет отданное мне. Тогда я и не подозревал об этом незаслуженном мною даре, иначе (ведь это было до моей встречи с Гертрудой) я ответил бы на устремленное ко мне чувство и избавил себя от греха и горя, терзавших меня столько лет. С тех пор женщина, о которой я говорю, вышла замуж и, после смерти своего супруга, снова стала свободной. Близкая всей моей семье, особенно сестре, она теперь постоянно встречалась со мною. Сострадание, которое она питала ко мне, заметив происшедшую со мною внешнюю и внутреннюю перемену, оказалось сильнее ее сдержанности, и лишь поэтому решаюсь я говорить о привязанности, которой не следовало бы раскрывать. Думаю, ты уже понял, кого я имею в виду, и если ты обнаружил ее слабость, то надо тебе узнать и ее благородство. Надо тебе узнать, что в ней это была не игра воображения или случайная причуда, а долгая и втайне хранимая любовь. Пусть станет тебе известно, что не пренебрежение общественным мнением, столь чуждое всякой порядочной женщине, а глубокая жалость заставила ее быть неосторожной, и что в настоящее время она не повинна ни в чем, кроме одного: одержима безумием, любовью к тому человеку, как я.
Перехожу к тому времени, когда я обнаружил, что меня намеренно или ненамеренно обманули и что мой враг жив! Живет и благоденствует, всеми восхваляемый и окруженный почетом. Это известие было точно прорыв заграждения, в который неудержимо хлынул поток, дотоле струившийся медленно и спокойно. Все дремавшие так долго бурные помыслы, чувства и страсти вспыхнули с новой силой – неистово, яростно стремясь к действию. Смятение души моей лишь недавно улеглось: теперь ровная поверхность снова взволновалась, всюду были лишь обломки крушения, хаос, судороги взволнованной стихии. Но все это – избитые, робкие образы, слабо передающие то, что я чувствовал. И, однако, над всем преобладала и господствовала одна мысль – все же прочее было в ней, как атомы, составляющие некую массу, – пробужденная мысль о мщении! Но как осуществить его?
Тиррел занимал теперь в обществе положение, исключавшее все способы возмездия, кроме того, от которого я ранее отказался. Пришлось прибегнуть к нему, хотя я и считал его слишком слабым, слишком милосердным: ты передал Тиррелу мой вызов и несомненно помнишь, как он себя вел. Совесть всех нас превращает в трусов! Письмо ко мне, вложенное в его письмо к тебе, содержало лишь те доводы общего характера, к которым чаще всего прибегают люди, нанесшие нам обиду: разрушив наше счастье, они не хотят становиться вдобавок и виновниками нашей гибели. Когда я узнал, что он уехал из Лондона, ярости моей не было предела: я просто обезумел от гнева. Все закачалось у меня перед глазами. Я почти задыхался в неистовом водовороте охвативших меня чувств. Ни о чем не задумываясь, я тоже покинул город, преследуя своего врага.
Выяснилось, что он, все еще преданный, хотя, кажется уже не так безумно, как раньше, прежнему увлечению, находится неподалеку от Нью-Маркета, ожидая, когда начнутся скачки. Едва узнав его адрес, я послал ему второй вызов, еще более резкий и оскорбительный, чем тот, что передал ты. Я писал, что отказываться бесполезно, что я дал клятву осуществить мщение и что рано или поздно, перед лицом неба и вопреки силам ада, клятва моя будет исполнена. Запомни эти слова, Пелэм, к ним я еще должен буду вернуться.
Ответ Тиррела был краток и пренебрежителен. Он делал вид, что считает меня сумасшедшим. Возможно (признаюсь, что бессвязность моего послания могла вызвать подобные подозрения), он искренне это думал. В конце его письма говорилось, что, если я не перестану писать ему, он ради самозащиты обратится к правосудию.
Когда я прочел его ответ, мною овладела мрачная, грозная, железная решимость. Без всяких внешних проявлений чувств я молча сел за стол, положив перед собой это письмо и портрет Гертруды. Время шло, но я не вставал, не двигался. Помню хорошо, что из мрачного раздумья вывел меня бой стенных часов: пробило час ночи. Этот единственный зловещий удар вызвал в памяти моей все связанные с ним фантастические и жуткие представления детских лет, наполнив душу мою холодом и страхом. Кровь застыла у меня в жилах, холодный пот выступил на лбу. Я преклонил колени и произнес ужасную, смертную клятву – этих слов я теперь не посмел бы повторить, – что не пройдет и трех дней, как преисподняя поглотит свою добычу. Потом встал, бросился на кровать и заснул.
На другой день я покинул свое убежище. Я купил себе сильного и быстрого коня, завернулся с головы до ног в широкий и длинный плащ для верховой езды и один отправился в путь, храня в сердце своем спокойную и холодную уверенность, что сдержу клятву. Под плащом скрыты были два пистолета. Я решил следовать за Тиррелом, куда бы он ни направился, пока, наконец, мы не окажемся один на один в таком месте, где нам никто не мог бы помешать. Я твердо решил принудить его к последней встрече, твердо решил, что не позволю руке своей дрогнуть, а глазам неточно прицелиться, когда осуществлю свое намерение – стать с ним лицом к лицу так, чтобы колени наши соприкоснулись, а дула каждого пистолета были бы тесно прижаты к вискам обоих противников. Решимости моей ни на одно мгновение не поколебала и мысль, что моя смерть последует так же несомненно, как и смерть моего противника. Напротив, умереть таким образом и, значит, избежать более медленной, но столь же верной смерти от болезни, разрушающей меня день за днем, я стремился с той же исступленной и в то же время ничем не смущаемой радостью, с которой люди бросаются в битву, ища гибели, менее для них тягостной, чем жизнь.
Прошло два дня, и хотя каждый день я видел Тиррела, судьба не доставляла мне возможности осуществить мое намерение. Настало утро третьего – Тиррел был на скачках. Уверенный в том, что он пробудет там несколько часов, я оставил своего утомленного коня в городе, а сам отправился к месту скачек и, усевшись в самом отдаленном уголке, довольствовался тем, что издали следил за малейшим движением врага, как змея, не спускающая глаз со своей жертвы. Быть может, ты помнишь, что проехал мимо человека, сидящего на земле и закутанного в плащ для верховой езды. Нет надобности сообщать тебе, что это ко мне ты обратился, когда проезжал. Я узнал тебя тогда, но как только ты скрылся из виду, позабыл об этом. Словно ребенок, созерцающий разыгрываемое перед ним фантастическое зрелище, я смотрел, как вдали движутся толпы народа, не зная даже, не обманывает ли меня зрение, оцепенелый, подавленный тягостным чувством ужаса, проникнутый убеждением, что жизнь моя так далека и чужда жизни мелькающих передо мною людей.
День склонялся к вечеру, я пошел за лошадью, вернулся к месту скачек и затем уже не отставал от Тиррела и держался от него настолько близко, насколько это было возможно, не вызывая подозрений. Он возвратился в город, немного отдохнул, зашел в игорный дом, побыл там очень недолго, вернулся в гостиницу и велел подать лошадь.
Ни разу не потерял я из виду того, кого преследовал. И сердце мое забилось от радости, когда, наконец, я увидел, что он выезжает один среди сгущающихся сумерек. Пока он не съехал с большой дороги, я двигался за ним на некотором расстоянии. Теперь, думалось мне, время мое настало. Я перешел на крупную рысь и почти настиг Тиррела, но в этот момент показалось несколько всадников, и это вынудило меня снова умерить шаг. Возникали затем и еще другие такие же препятствия. Наконец мы оказались одни на дороге. Я пришпорил коня и почти совсем сблизился со своим врагом, как вдруг заметил, что он нагнал другого человека, – это был ты. Принужденный снова держаться на расстоянии, я стиснул зубы и затаил дыхание. Вскоре меня обогнали двое всадников, и я заметил, что из-за какого-то происшествия они остановились, чтобы оказать тебе помощь. Судя по твоим показаниям в связи с дальнейшими событиями, то были Торнтон и приятель его Доусон. Но тогда они проскакали слишком быстро, а я слишком погружен был в свои мрачные думы и потому не обратил на них внимания. Я все время старался не отстать от тебя и Тиррела, иногда различая в лунном свете ваши силуэты, иногда же (и при этом я испытывал жгучую тревогу) лишь улавливая отдаленный стук копыт по каменистому грунту. В довершение всего начался ливень. Вообрази мою радость, когда Тиррел расстался с тобою и поехал один!
Я обогнал тебя и последовал за своим врагом со всей быстротой, на какую способна была моя лошадь, но она не могла сравниться с конем Тиррела, мчавшимся во всю прыть. Так или иначе, в конце концов я доехал до очень крутого, почти обрывистого спуска. Пришлось двигаться медленно и осторожно, но это меня не очень смущало; я не сомневался, что Тиррел принужден будет сделать то же самое. Моя рука уже сжимала пистолет, готовясь совершить заранее обдуманное мщение, как вдруг до моего слуха долетел один-единственный пронзительный, резкий крик.
За ним не последовало ни звука – кругом царило безмолвие. Когда я был уже недалеко от подножия холма, мимо меня промчалась лошадь без всадника. Ливень прекратился, и при свете луны, выглянувшей за несколько минут до того из-за туч, я узнал коня, на котором ехал Тиррел. Что ж, мелькнула у меня мысль, может быть, он сбросил с себя всадника и моя жертва будет теперь целиком в моей власти. Я поехал быстрей, несмотря на то, что еще не совсем спустился с откоса, и вот добрался до исключительно унылого места, – то был обширный пустырь; справа находилась заводь, над которой высилось странного вида засохшее дерево. Я огляделся по сторонам, но нигде не обнаружил и признака жизни. Что-то темное и еле различимое лежало у заводи; я подъехал ближе, – милосердный боже! – враг мой выскользнул из моих рук: он был распростерт передо мною – неподвижный, холодный, мертвый.
– Как! – вскричал я, прерывая Гленвила, ибо не в силах был сдержаться. – Значит, не ты покончил с Тиррелом? – С этими словами я крепко сжал его руку. Я был так возбужден и увлечен его мучительным повествованием, нервы мои были до того напряжены, что я тут же разразился слезами радости и благодарности. Реджиналд Гленвил невинен, Эллен не сестра убийцы!
После краткого перерыва Гленвил продолжал:
– В глубоком, тягостном молчании смотрел я на обращенное ко мне искаженное лицо мертвеца. Темное, смутное чувство благоговейного страха наполнило мою душу. Я стоял один под небом, торжественным и святым, и ощущал над собою десницу божию: произнесен был таинственный и ужасный приговор. Кто-то пресек в самом разгаре мою неистовую и нечестивую ярость, словно бессильный гнев ребенка; некое всевидящее око следило за тем, как шаг за шагом развивался мой замысел, начертанный жалким моим разумом, и некая неисповедимая, грозная воля разрушила его именно в то мгновение, когда он, казалось, должен был увенчаться успехом. Я жаждал гибели своего врага, и вот желание мое исполнилось – каким образом, я не знал и не мог догадаться. Здесь, у ног моих, лежал он, немой и бесчувственный, комок праха земного. Казалось, что в тот миг, когда я уже занес руку, божественный мститель сам применил власть, по праву ему принадлежащую; казалось, ангел, уничтоживший некогда ассирийские полчища, снова устремился с неба, чтобы поразить жертву, хотя и более ничтожную, и, покарав смертного преступника, навеки положил предел мстительным замыслам его врага из числа таких же смертных!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































