Текст книги "Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентльмена"
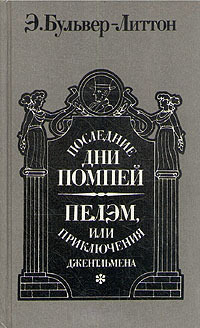
Автор книги: Эдвард Бульвер-Литтон
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 60 страниц)
Глава XXI
Возвратясь домой, я нашел у себя на столе письмо от матушки следующего содержания:
Дорогой Генри,
Я весьма рада была узнать, что ты так хорошо проводишь время в Париже, часто бываешь у Д. и К., что, по словам Кулона, ты – его лучший ученик, что все восторгаются твоей любимой лошадью и что ты истратил только тысячу фунтов сверх назначенного тебе содержания; не без труда я убедила твоего дядюшку выслать тебе чек на полторы тысячи фунтов; надеюсь, этого хватит, чтобы погасить все твои обязательства.
В будущем, дорогое мое дитя, тебе придется избегать такой расточительности, и это – по весьма веской причине, а именно: за отсутствием необходимых для этого средств. Боюсь, что твой дядя впредь уже не будет столь великодушен, а отец не в состоянии тебе помогать. Поэтому, думается мне, ты лучше чем когда-либо поймешь необходимость жениться на богатой наследнице: во всей Англии только две из них (обе – дочери джентльменов) могут притязать на такое замужество. У наиболее достойной – десять тысяч фунтов годового дохода, у второй сто пятьдесят тысяч фунтов приданого. Первая – стара, очень дурна собой, злонравна, сварлива; вторая – миловидна, кроткого нрава, совсем недавно достигла совершеннолетия, но ты сам поймешь, что непристойно даже помышлять о ней, прежде чем мы попытаем счастья у первой. Я намерена приглашать обеих на мои воскресные интимные вечера; холостяков я на эти вечера не допускаю, поэтому у тебя хоть там не будет соперников.
А теперь, дорогой сын, прежде чем перейти к вопросу, имеющему для тебя большое значение, я хочу напомнить тебе, что светские удовольствия никогда не должны быть самоцелью, а всегда должны служить лишь средством; иначе говоря, я надеюсь, что, живя в Париже, среди развлечений, верховых прогулок, визитов, liaisons, ты твердо помнишь: все это желательно лишь в той мере, в какой позволяет тебе блистать в обществе. Сейчас я наметила для тебя новое поприще, где тебе предстанут совершенно иные цели, и те удовольствия, которые ты, возможно, найдешь там, не имеют ничего общего с теми, которыми ты наслаждаешься теперь.
Я знаю – это введение не испугает тебя, хотя, пожалуй, испугало бы иных неразумных молодых людей. Тебя так тщательно воспитали, что вряд ли тебе покажется тягостным или неприятным какой бы то ни было шаг, способствующий возвышению в свете.
Перейду прямо к делу: не сегодня-завтра должен освободиться пост члена парламента от местечка Баймол, принадлежащего, как известно, твоему дяде; нынешний член, мистер Тулингтон, проживет самое большее еще неделю, и дядя настаивает на том, чтобы ты занял эту вакансию. Хотя, как я упомянула, Баймол – собственность лорда Гленморриса, однако он не может распоряжаться там совершенно самовластно. Мне это кажется весьма странным, ведь мой отец, и вполовину не такой богатый, как твой дядя, имел возможность без всяких затруднений посылать в парламент двух членов. Но я мало что смыслю в этих делах. Возможно, дядя человек недалекий, не умеет их вести. Как бы там ни было, он говорит, что сейчас нельзя терять ни минуты. Ты должен немедленно возвратиться в Англию и тотчас проехать к нему в…шир. Полагают, что вокруг выборов разгорится борьба, но что в конечном счете ты непременно пройдешь в парламент.
Пребывание у лорда Гленморриса доставит тебе также благоприятный случай приобрести его расположение; ты сам знаешь – он уже довольно давно не видел тебя; большая часть его владений не входит в состав неотчуждаемого родового имущества. Если ты пройдешь в парламент, не должен будешь всецело отдаться этой деятельности и я нимало не тревожусь за твои успех; ведь я отлично помню, как прекрасно ты, совсем еще ребенок, декламировал монолог «Меня зовут Норвал»[368]368
«Меня зовут Норвал» – цитата из трагедии «Дуглас» шотландского драматурга Джона Хома (1722–1808).
[Закрыть] (из трагедии «Дуглас») и речь, начинающуюся словами: «Римляне, сограждане, друзья»[369]369
«Римляне, сограждане, друзья» – начало речи Брута из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь».
[Закрыть]. Я слышала на днях Каннинга[370]370
Каннинг Джордж (1770–1827) – английский политический деятель.
[Закрыть], и его голос очень напомнил мне твой; словом, я не сомневаюсь, что спустя немного лет ты войдешь в состав министерства.Ты видишь, дорогой сын, – тебе совершенно необходимо вернуться как можно скорее. Ты должен нанести прощальный визит леди N. и постараться упрочить дружбу с наиболее видными людьми из числа твоих нынешних знакомых; тогда ты сможешь с легкостью возобновить добрые отношения с ними, если в будущем снова приедешь в Париж. С помощью учтивости ты легко достигнешь этого. Как я уже говорила тебе, ты нигде (за исключением Англии) ничего не теряешь от вежливости; впрочем, запомни – никогда не употребляй этого слова, оно чересчур отзывает Глостер-сквером.
Еще один совет – возвратясь в Англию, старайся употреблять в разговоре как можно меньше французских выражений; это признак величайшей вульгарности; меня чрезвычайно позабавила недавно вышедшая книга, автор которой воображает, что он дал верную картину светского общества. Не зная что вложить нам в уста по-английски, он заставляет нас говорить только по-французски. Я часто спрашивала себя, что думают о нас люди, не принадлежащие к обществу, поскольку в своих повестях они всегда стараются изобразить нас совершенно иными, нежели они сами. Я сильно опасаюсь, что мы во всем совершенно похожи на них, с той лишь разницей, что мы держимся проще и естественнее. Ведь чем выше положение человека, тем он менее претенциозен, потому что претенциозность тут ни к чему. Вот основная причина того, что у нас манеры лучше, чем у этих людей; у нас – они более естественны, потому что мы никому не подражаем; у них – искусственны, потому что они силятся подражать нам; а все то, что явно заимствовано, становится вульгарным. Самобытная вычурность иногда бывает хорошего тона; подражательная – всегда дурного.
Ну что ж, дорогой Генри, пора кончать это письмо, слишком длинное, чтобы быть интересным. Надеюсь увидеть тебя дней через десять после того, как ты его получишь; если б ты мог привезти мне кашмировую шаль, мне было бы очень приятно увидеть из твоего выбора, какой у тебя вкус. Да благословит тебя господь, дорогой мой сын.
Любящая тебя мать
Фрэнсес Пелэм.
P. S. Надеюсь, ты иногда посещаешь церковь. Меня очень огорчает безверие молодых людей нашего времени. Это очень дурной тон. Быть может, ты мог бы попросить мою давнишнюю приятельницу, мадам де Д., помочь тебе выбрать шаль. Береги свое здоровье.
Я дважды перечел это письмо. Оно заставило меня серьезно задуматься. Мысль, что мне придется покинуть Париж, вызвала у меня сожаление, но вслед за тем я ощутил некоторую радость, подумав о новых возможностях, так неожиданно открывшихся мне. Главная цель философа – примиряться с любой неприятностью, уравновешивая ее тем или иным благом; если этого блага нет – философ должен его придумать. Поэтому я принялся размышлять не столько о том, что я теряю, покидая Париж, сколько о том, что я этим выигрываю. Во-первых, я уже несколько пресытился тамошними развлечениями: ни одно дело не утомляет так, как безделье. Я жаждал перемены – и что же? – она сама представилась мне! Затем, откровенно говоря, я несказанно обрадовался предлогу ускользнуть от целой стаи folles amours[371]371
Безумных страстей (фр.).
[Закрыть] с мадам д'Анвиль на первом месте; то самое стечение обстоятельств, которое люди, играющие на кларнете и способные влюбляться, сочли бы чрезвычайно огорчительным, мне представлялось чрезвычайно благоприятным.
Но имелась, однако, еще одна причина, более всего остального примирявшая меня с предстоящим отъездом. За время пребывания в Париже я, вращаясь частью среди людей, притязавших на остроумие, частью среди подлинных roués[372]372
Светских развратников (фр).
[Закрыть], усвоил себе известную – не скажу – grossièreté[373]373
Грубость (фр.).
[Закрыть], но недостаток утонченности, известную вульгарность выражений и мыслей; я сознавал, что это черты случайные и что мне нетрудно будет их отбросить, но в ту пору они в какой-то мере замедляли мое приближение к тому умственному и нравственному облику, который я стремился приобрести. Ничто не могло бы так шлифовать манеры, как пребывание на континенте, не будь тех английских débauchés[374]374
Распутников (фр.).
[Закрыть] с которыми там неизбежно встречаешься в свете. Английское беспутство всегда грубо, а в беспутстве самое заразительное – его тон. Когда страсти разнузданы, люди теряют власть над собой, и от тех, в чьем обществе мы предаемся разгулу страстей, мы перенимаем характер и способы их удовлетворения.
Как известно читателю, я слишком жаждал совершенствования, чтобы не стараться избежать такой нравственной порчи, и поэтому весьма легко примирился с тем, что лишусь шумных развлечений и веселой компании. Изгнав таким образом из своих мыслей всякое сожаление об отъезде, я сосредоточил их на тех преимуществах, которые мне сулило возвращение в Англию. Большой любитель сильных впечатлений и разнообразия, я заранее радовался выборам, предвкушая и напряженную избирательную борьбу и несомненное торжество.
Вдобавок, к тому времени мне уже надоело ухаживание за женщинами, я жаждал заменить его теми интересами, на которые мужчины обычно устремляют свое честолюбие, и тщеславие нашептывало мне, что успех у женщин – неплохое предзнаменование для новой деятельности. Зная, что в Англии я буду подвизаться на новом поприще и преследовать иные цели, я решил отказаться от той роли, которую играл до того времени, и избрать другую. Насколько я выполнил это решение – покажут разнообразнейшие события, о которых речь впереди. Что до меня – я сознавал, что выхожу на более высокую арену, где действующих лиц гораздо больше, и ранее приобретенное мною знание человеческой природы подсказывало мне, что для моей безопасности требуется большая осмотрительность, а для успеха – более достойное поведение, чем прежде.
Глава XXII
Я отнюдь не принадлежу к числу людей, неделями размышляющих над тем, что можно решить в один день.
– Через три дня, в половине десятого утра, – объявил я Бедо, – я уеду из Парижа в Англию.
– Бедная моя женушка, – сказал слуга, – если я расстанусь с ней, ее сердце будет разбито.
– Если так – оставайтесь, – ответил я. Бедо пожал плечами.
– Службу у вас, месье, я предпочитаю всему на свете.
– Как, даже вашей супруге? – спросил я. Учтивый негодяй приложил руку к сердцу и низко поклонился.
– Ну что ж, – продолжал я, – ваша преданность не должна пойти вам в ущерб. Вы возьмете жену с собой.
Верный супружескому обету, слуга тотчас помрачнел и промямлил, что не может злоупотребить моим великодушием.
– Я настаиваю на этом, – заявил я. – Ни слова больше.
– Тысячу раз прошу извинения, месье; но моя жена серьезно больна, и такое путешествие ей не по силам.
– Раз так, вам, примерному супругу, и думать нечего о том, чтобы оставить больную женщину, не имеющую средств к жизни.
– Бедности закон не писан! Если бы я внял голосу сердца и остался – я умер бы с голоду, et il faut vivre[376]376
А жить-то надо (фр.).
[Закрыть].
– Je n'en vois pas la nécessité[377]377
Не вижу в этом необходимости (фр.).
[Закрыть], – ответил я, садясь в экипаж. К слову сказать – эта острота принадлежит не мне; это исключающий всякие возражения ответ некоего судьи вору, пытавшемуся оправдаться.
В тот день я, по традиционной формуле, «прошел положенный круг взаимных сожалений». Визит к герцогине Перпиньянской был последним (прощание с мадам д'Анвиль я отложил до следующего дня). Эта добродетельная и мудрая особа находилась в будуаре, где обычно принимала близких знакомых. Войдя, я мельком взглянул на роковую дверцу. Я терпеть не могу упоминаний о том, что было и миновало безвозвратно. Поэтому, беседуя с герцогиней, я никогда не касался наших прошлых égarements[378]378
Безумств (фр.).
[Закрыть]. В то утро я сообщил ей о предстоявшей женитьбе одного, о недавней кончине другого и, наконец, – о моем собственном отъезде.
– Когда вы едете? – тревожно спросила герцогиня.
– Послезавтра. Если вы дадите мне какие-нибудь поручения в Англию, это несколько смягчит для меня боль расставания.
– Никаких, – ответила она и вполголоса (чтобы не услыхал никто из светских бездельников, усердно посещавших ее малые утренние приемы) прибавила: – Сегодня вечером вы получите от меня записку.
Я поклонился, переменил тему и попрощался; обедал я у себя, один, а вечер употребил на то, чтобы перечитать многочисленные billets doux, полученные мною за время пребывания в Париже.
– Куда прикажете деть все эти локоны? – спросил Бедо, открывая до верху наполненный ящик.
– В мою шкатулку.
– А все эти письма?
– В огонь.
Я уже лежал в постели, когда мне принесли от герцогини Перпиньянской письмо следующего содержания:
Дорогой друг,
Позвольте мне назвать вас так по-английски, ведь на вашем языке это слово звучит не столь двусмысленно, как на нашем. Мне не хочется, чтобы вы покинули Францию, питая ко мне те чувства, которые живут в вас ныне, – но я не нахожу тех волшебных слов, которые могли бы их изменить. О! если б вы знали, сколь я достойна сожаления; если б могли на один миг заглянуть в это одинокое, израненное сердце; если б могли шаг за шагом проследить, как я шла все дальше по стезе греха и заблуждений, вы увидели бы, сколь многое из того, что вы сейчас осуждаете и презираете во мне, – плод не столько природной склонности к пороку, сколько неблагоприятного стечения обстоятельств. Я сызмальства слыла красавицей, была воспитана в сознании, что я красавица; известность, высокое положение, влияние в обществе я приобрела благодаря своей красоте. И все эти преимущества, связанные с внешними прелестями, были причиной моей нравственной гибели. Вы видели, сколь многим я сейчас обязана изощренному искусству. Я сама себя ненавижу, когда пишу эти слова, – но все равно. С той минуты вы тоже меня возненавидели. Вы не приняли во внимание, что всю свою молодость я провела среди волнующего преклонения и в более зрелые годы уже не могла отказаться от него. Благодаря своей привлекательности я царила над всеми и считала, что лучше прибегнуть к любым ухищрениям, нежели отказаться от власти; но, удовлетворяя свое тщеславие, я, однако, не смогла заглушить голос сердца. Любовь – чувство столь естественное в женщине, что вряд ли хоть одна способна устоять против него; но для меня любовь всегда была глубоким чувством, а не страстью.
Любовь и тщеславие – вот мои соблазнители. Я уже сказала, что мои ошибки – следствие неблагоприятного стечения обстоятельств, а не природной склонности к пороку. Возможно, вы возразите мне, что, называя своими соблазнителями любовь и тщеславие, я впадаю в противоречие, – вы ошибаетесь. Я хотела этим сказать, что тщеславие и потребность в любви жили в моем сердце, но ложное, опасное направление этим дремавшим во мне силам придали те условия, в которые я была поставлена, и события, свидетельницей которых я стала. Я была создана для любви; ради того, кого я полюбила бы, я пошла бы на все жертвы. Меня выдали за человека, которого я ненавидела, – и глубины моего сердца открылись мне, когда уже было поздно.
Но довольно об этом; вы покидаете нашу страну. Мы не увидимся никогда – никогда! Быть может, вы возвратитесь в Париж, но меня уже не будет в живых – n'importe![379]379
Что за важность! (фр.)
[Закрыть] – я до самого конца не изменю себе. Je mourrai en reine.[380]380
Я умру по-королевски (фр.).
[Закрыть]Как последнее доказательство того чувства, которое я питала к вам, прилагаю цепочку и кольцо; как о последнем знаке внимания, прошу вас – носите эти безделушки ежедневно в течение полугода, а главное – завтра утром, в течение двух часов, в саду Тюильри. Эта просьба рассмешит вас; она покажется вам ненужной и романической – возможно, так оно и есть; любовь зачастую выражается в причудах, к которым разум относится с презрением. Что удивительного, если я, любя, более других женщин склонна к таким причудам?
Я знаю – вы не откажете в моей просьбе. Прощайте! В этом мире мы никогда уже не встретимся, а в существование другого я не верю. Прощайте.
Е. П.
«Какие рассудочные излияния! – подумал я про себя, прочтя это письмо, – и все же в нем как-никак больше чувства и твердости духа, чем можно было предположить у этой особы». Я взял цепочку в руки, она была мальтийской работы, не очень изящна и вообще ничем не примечательна, если не считать волосяного колечка, прикрепленного к ней так прочно, что, пытаясь снять его, я едва не разорвал цепочку.
«Странная просьба, – подумал я, – но ведь и женщина, от которой она исходит, – странная. И поскольку в этом есть нечто интригующее и загадочное, я во всяком случае явлюсь завтра в Тюильри в цепях и оковах».
Глава XXIII
Твоя невежливость не заставит меня отказаться от того, что мне приличествует сделать, и раз у тебя храбрости больше, нежели учтивости, я рискну ради тебя жизнью, которую тебе хочется отнять у меня.
Дождавшись часа, когда в саду Тюильри прогуливаются светские люди, я пошел туда. Цепочку и прикрепленное к ней колечко я надел так, что они были на самом виду, и на темном фоне сюртука – я всегда носил темное платье – они выделялись еще резче. Я не пробыл в саду и десяти минут, как заметил, что молодой француз, самое большее лет двадцати, необычайно внимательно разглядывает эти новые знаки отличия. Он проходил мимо меня гораздо чаще, чем этого требовали изгибы аллей, и, наконец, сняв шляпу, вполголоса попросил удостоить его чести доверительно обменяться со мной несколькими словами. Я с первого же взгляда определил, что имею дело с джентльменом, и поэтому, согласясь на его просьбу, удалился с ним под сень деревьев, в более уединенную часть сада.
– Разрешите мне спросить, – так он начал, – откуда у вас эта цепочка и это кольцо?
– Месье, – ответил я, – вы поймете, если я скажу, что это – тайна, которую я, дорожа честью некоей особы, должен свято хранить.
– Сэр, – воскликнул француз, побагровев, – я видел их не раз – короче говоря, они мои!
Я улыбнулся – француз пришел в ярость.
– Oui, monsieur,[382]382
Да, месье (фр.).
[Закрыть] – продолжал он скороговоркой, сильно повысив голос, – они мои! Я настаиваю на том, чтобы вы либо немедленно вернули их мне, либо силою оружия отстояли свои права на них.
– На ваше предложение, месье, возможен лишь один ответ, – сказал я. – Я сей же час разыщу кого-нибудь из моих друзей, и он без промедления явится к вам. Разрешите узнать ваш адрес.
Француз, крайне взволнованный, вручил мне свою визитную карточку. Мы раскланялись и разошлись в разные стороны.
Бегло взглянув на карточку, я едва успел прочесть на ней: В. d'Azimart, rue de Bourbon, №…[383]383
Байрон д'Азимар, улица Бурбон, №… (фр.).
[Закрыть], как над моим ухом раздались слова:
Ты узнаешь меня? Ведь ты Алонзо!
Даже не оглянувшись, я понял, что это лорд Винсент.
– Как я рад вас видеть, дорогой мой! – воскликнул я и тотчас шепотом рассказал ему о том, что произошло. Выслушав мой рассказ с явным интересом, лорд Винсент без всякой аффектации изъявил готовность исполнить мою просьбу и сожаление о том, что я обращаюсь к нему по такому поводу.
– Ба! – сказал я. – Дуэль во Франции – совсем не то, что в Англии; во Франции дуэль – обычное дело. Пустячное происшествие, случающееся едва ли не каждый день. Не переводя дыхания, человек принимает вызов и приглашение на обед. Не то в Англии! Там на дуэль смотрят серьезно и обставляют ее торжественно, строят постные физиономии – встают спозаранку – пишут завещание. Прошу вас, постарайтесь покончить с этим делом как можно скорее, так чтобы мы успели потом пообедать в Роше де Канкаль.
– Ладно, дражайший Пелэм, – сказал Винсент. – Я не могу отказать вам в этой дружеской услуге. Вероятнее всего, месье д'Азимар предложит драться на шпагах, и, зная, как вы искусны в фехтовании, я уверен, что исход будет благоприятен для вас. Я впервые принимаю участие в такого рода деле, но надеюсь, что с честью выполню свои обязанности.
как говорит Ювенал. Au revoir[385]385
До свиданья (фр.).
[Закрыть]. – С этими словами лорд Винсент ушел, в своей отеческой радости по поводу удачно примененной цитаты едва не забыв тревогу о моей жизни.
Из всех каламбуристов, которых я знаю, лорд Винсент – единственный, у которого доброе сердце. Вообще говоря, для этой породы людей в целом на свете нет ничего важнее игры слов, и укоренившаяся в них жестокая привычка беспощадно расправляться с фразами делает их равнодушными к смерти близкого друга. Дожидаясь его возвращения, я ходил взад и вперед по всем аллеям, какие только имеются в Тюильрийском саду, и усталость уже начинала меня одолевать, когда вернулся Винсент. Вид у него был весьма серьезный, и я сразу понял, что противник предложил самые тяжелые условия. В Булонском лесу – на пистолетах – через час, вот то главное, что он мне сообщил.
– На пистолетах! – воскликнул я. – Ну что ж, пусть так! Я предпочел бы драться на шпагах, как в интересах юнца, так и в моих собственных; но на дистанции в тринадцать шагов, целясь твердой рукой, я тоже не сплошаю. Сегодня, Винсент, мы разопьем бутылочку Шамбертена.
На лице каламбуриста появилась какая-то жалкая улыбка, и в первый раз в жизни он не нашелся что ответить. Мы неспешно, с сосредоточенным видом пошли ко мне домой за пистолетами, а затем молча, как подобает христианам, отправились в условленное место.
Француз и его секундант уже дожидались нас. Я заметил, что противник бледен и неспокоен – мне думалось, не от страха, а от ярости. Когда мы стали по местам, Винсент подошел ко мне и тихо сказал:
– Бога ради, позвольте мне уладить дело миром, если только возможно!
– Это не в нашей власти, – ответил я.
Он подал мне пистолет. Я посмотрел на д'Азимара в упор и прицелился. Его пистолет выстрелил на секунду раньше, чем он ожидал, – вероятно, у него дрогнула рука – пуля задела мою шляпу. Я целился вернее и ранил его в плечо – именно туда, куда хотел. Он, шатаясь, сделал несколько шагов, но не упал.
Мы подбежали к нему; когда я приблизился, его лицо покрылось мертвенной бледностью, он пробормотал сквозь сжатые зубы какие-то проклятья и повернулся к своему секунданту.
– Благоволите спросить, считает ли себя месье д'Азимар удовлетворенным, – сказал я Винсенту и отошел в сторону.
– Секундант, – сообщил Винсент (обменявшись с ним несколькими словами), – сказал в ответ на мой вопрос, что рана, полученная месье д'Азимаром, не позволяет ему в настоящий момент продолжить дуэль.
– От всей души поздравляю вас с исходом поединка, – сказал мне Винсент. – Месье де М. (секундант д'Азимара) сообщил мне, когда я был у него, что ваш противник один из самых знаменитых стрелков Парижа и что некая дама, в которую он давно уже влюблен, поставила условием своей милости смерть того, кто носит цепочку с кольцом. Ваше счастье, дорогой мой, что у него дрогнула рука. Но я не знал, что вы такой отменный стрелок.
– Как сказать, – ответил я. – Конечно, я не чудо-стрелок, как их обычно называют. Мне не расплющить пулю о лезвие перочинного ножа; но вообще я без промаха попадаю в мишень поменьше человека и на дуэли целюсь так же уверенно, как на стрельбище.
– Le sentiment de nos forces les augmente,[386]386
Сознание нашей силы удваивает ее (фр.).
[Закрыть] – заключил Винсент. – Так что же, сказать кучеру, чтобы он повез нас в Роше?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































