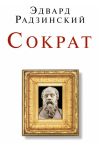Текст книги "О себе (сборник)"
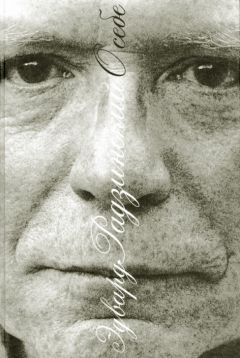
Автор книги: Эдвард Радзинский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
О главном режиссере
Главный режиссер театра Маяковского Андрей Гончаров поставил две мои пьесы – «Беседы с Сократом» и «Театр времен Нерона и Сенеки». Поставил в самое трудное для меня время, боролся за них, и благодаря ему я увидел премьеры. Поставил очень по-гончаровски – то есть ярко, публицистично, с замечательными актерскими работами (это было всегда в его спектаклях. Я уверен, что и он сам – с его барственным лицом и обликом вельможи XIX века – мог быть блестящим актером).
У него был громовой голос. И от собственного крика он очень возбуждался. Как и привыкшие к этому крику актеры… Этот голос был слышен даже на улице. И если, войдя театр, вы не слышали громоподобных раскатов, значит, репетировал другой… И я благодарен ему за успех – и «Сократа», и «Нерона».
Но камерные пьесы про любовь были ему неинтересны.
И потому ставить эти пьесы он пригласил режиссера Владимира Портнова.
Когда главный режиссер (допустим, все тот же Андрей Гончаров) приглашает очередного режиссера (того же Портнова), он искренне хочет, чтобы тот имел очень большой успех. Но если этот успех состоится и будет вправду очень большим, он начинает… огорчаться. И чем больше успех, тем больше огорчение. И это закономерно. Потому что, повторюсь, главный режиссер в театре – это муж, который очень не любит, когда жена-труппа начинает увлекаться другим.
… И Гончаров не выдержал – на пике успеха снял оба спектакля. И я его за это тоже люблю. Ибо – это часть Театра, часть божественной «Лилы».
Все эти годы я сам выбирал театр – и театры, слава Богу, отвечали мне взаимностью. Проблема была в разрешении.
Но с этой пьесой все было наоборот. Впервые ее с легкостью разрешили… после чего… ее никто не захотел ставить!
Пьесу «Старая актриса на роль жены Достоевского» я решил прочесть Эфросу. Тогда по Москве уже ходили слухи, будто ему предложили Театр на Таганке, и он согласился.
Даже я – человек, далекий от общественной жизни, более того, эгоистически занятый только своими пьесами, понял, что этого делать ему ни в коем случае нельзя.
… И я пришел к нему. Сначала мы поговорили о пьесе. Там был персонаж, который живет под диваном. И он очень забавно рассказал, как это надо поставить. И даже предложил мне поговорить с Олей (Яковлевой).
– Она могла бы замечательно сыграть вашу старую актрису.
Когда я спросил его про «Таганку», он сказал, что это слухи… но вопросительно посмотрел на меня.
Он ждал продолжения разговора.
Я сказал:
– Дай Бог, чтобы это были слухи… Потому что этого делать нельзя…
Он вмиг потерял ко мне интерес. Он не слушал.
Я понял – он решил.
Но с Олей я поговорил.
Я позвонил ей и только успел сказать: «Я написал пьесу про старую актрису…» – она тотчас прервала. Столь знакомый нежный ее голос стал ледяным:
– Это как же? Значит, другие будут играть твои пьесы про любовь, а я старуху? Не рано ли мне?
Звонил я ей, уже понимая, что Эфросу сейчас не до моей пьесы. Он был назначен главным режиссером «Таганки».
Почему решились на это власти? Думаю, они верили, что его спектакли сотрут воспоминания о ненавистном невозвращенце Любимове, сотрут воспоминания о той старой, бунтующей «Таганке».
Почему решился Эфрос? Все потому же – не мог не работать. Мечтал о своем театре. Чувствовал, что силы уходят, и надо спешить.
И еще верил, что сохранит традиции «Таганки», не даст ее актерам попусту тратить время без спектаклей. Верил, что вновь сделает театр лидером.
К тому же работать ему в Театре на Бронной стало невозможно. Отсутствие единой власти Режиссера в репертуарном театре – конец театра. Труппа была развращена восемнадцатилетним присутствием двух главных режиссеров – главного официально – то есть Дунаева, и главного фактически, главного по искусству, то есть Эфроса. И труппа научилась извлекать выгоду из этого скрытого противостояния двоих, чтобы потом начать поедать их обоих. Шли бесконечные собрания, выяснение отношений, театр разбился на группы. В результате Дунаеву пришлось уйти в театр «Эрмитаж», и он вскоре умер. Эфросу предложили «Таганку», и он умрет ненамного позднее.
Впрочем, объявился еще один умерший – это был сам Театр на Малой Бронной. На долгие годы у публики останутся лишь воспоминания о былом его величии – об эфросовских спектаклях в Театре на Малой Бронной.
С первого дня перехода на «Таганку» Эфрос получил сполна.
Причем и от очень достойных людей.
Я никогда не забуду… Вскоре после его назначения мы шли с ним по Переделкино, где он снимал в то лето дачу. Навстречу шел один достойнейший литератор. Он поздоровался, Эфрос ответил. Прошло несколько мгновений – литератор догнал нас. Лицо его было яростно.
– Я не узнал вас сразу, – прокричал он Эфросу. – И если я поздоровался с вами – это была ошибка!
Я презираю вас.
И счастливый исполненным долгом – этим плевком – зашагал дальше.
А тот ад, который устроили в театре Эфросу таганские актеры…
Впрочем, иначе и быть не могло. Никто не хотел понимать истинных причин его перехода. Он стал дозволенной возможностью демонстрировать нелюбовь к строю. Он, всю жизнь преследуемый строем, для многих стал его воплощением. И они получили безопасное право показывать себя благородными и смелыми…
И делали это с огромной охотой. Он недооценил ту готовность к ненависти, которая всегда пребывает внутри рабского общества. Радость дозволенного: «Ату его»! Любимое – «против кого дружить будем!».
Актриса и Достоевский
Пьесу «Старая актриса…» я решил отдать Олегу Николаевичу Ефремову… Я хотел, чтобы Актрису играла Доронина, которая тогда работала во МХАТе, где он был главным режиссером.
Прочитав пьесу, Ефремов позвонил мне и с искренним любопытством спросил:
– Слушай, зачем ты написал эту дребедень… У тебя так все хорошо. Столько было известных спектаклей! Зачем тебе нужна эта скучища? К тому же – непонятная!
Я позвал режиссера X. Он и поныне, слава Богу, здравствует, так что избегну фамилии. Мы с ним были тогда дружны, я знал, что ему хочется со мной работать.
Он тотчас приехал. Он явно очень хотел, чтобы ему понравилось. Я начал читать. А он… начал засыпать, и довольно быстро. Ему было неудобно – я видел, как он борется со сном, но веки тяжко падали, как у гоголевского Вия… Я решил помочь – дал ему яблоко. Он набросился на него, видно, тоже думал, что поможет. Съел яблоко… и заснул снова. Наконец, читка-пытка закончилась.
Он сказал неловко:
– Понимаешь, была репетиция, я очень устал. Пьеса интересная, но… у нас нет актрисы, – тут он воодушевился, поняв, как отказать, не обидев. – Сюда непременно нужна великая старая Актриса, а у меня в театре нет такой.
И заспешил уйти.
Я понял: свершилось! Я наконец-то написал пьесу, которая никому не нравится.
Действие происходит в Доме для инвалидов и престарелых. Я видел один такой дом в провинции, и он меня поразил. Оказалось, инвалидами там считались тихие сумасшедшие. Их соединили с престарелыми, то есть с людьми, которые уже в силу возраста должны быть мудрыми. Поэтому в этом инвалидном Доме жили вместе мудрые и безумные.
И вот в таком Доме встретились двое: старая актриса, когда-то знаменитая, но много лет назад ушедшая со сцены, и сумасшедший художник, которому кажется, что он… Достоевский. И этот безумец, в жажде вернуться в свое прошлое, заставляет старую актрису играть жену Достоевского – а точнее, воспоминания Анны Григорьевны о своей любви к Достоевскому.
И постепенно их жизнь в этом жалком инвалидном Доме соединяется с жизнью Достоевского и Анны Григорьевны. И они перестают понимать, где выдумка и где их реальная жизнь…
Но произошло забавное: когда я перечитывал собственную пьесу она… оказалась загадкой для меня самого. Ибо, если она знаменитая старая актриса, что она делает в этом убогом Доме? Скорее всего, она ее гримерша (о которой она так часто рассказывает). Жалкая, нищая гримерша, которая вот здесь, в этом инвалидном Доме, на старости лет играет в своего кумира – знаменитую старую актрису, которой она преданно служила всю жизнь.
Но ведь возможно и другое решение: она действительно была знаменитой старой актрисой, которая в силу обстоятельств докатилась до этого жалкого пристанища.
Но тогда? Тогда, возможно, играет в игру «сумасшедший художник». Возможно, он лишь притворяется сумасшедшим. На самом деле он… молодой режиссер! Он узнал о когда-то знаменитой старой актрисе, живущей в этом нищем Доме. И придумал весь этот маскарад. Предлагая ей сыграть Анну Григорьевну, он хочет таким нехитрым способом воскресить в ней жажду играть. Он здесь с единственной целью – вернуть на сцену когда-то знаменитую старую актрису. Хотя…
Хотя, может быть, он действительно Достоевский!
В конце концов – «есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». И тогда его законное место в нынешнем веке здесь, в этом доме – среди безумных и нищих – «среди униженных и оскорбленных».
Вот так внутри пьесы оказалось несколько пьес (впоследствии пьесу ставили во многих театрах на Западе – и каждый выбирал свой вариант прочтения, играя совершенно разные пьесы).
Короче, наконец, я написал, пьесу, которую мне самому надо было понимать, ибо она жила без меня.
Почему у нас не хотели ее ставить?
Есть такой забавный анекдот. Человек, у которого очень плохо с желудком, приходит в ресторан болгарской кухни, где обожают готовить острые блюда. И говорит:
– У меня больной желудок, мне нужно что-то не острое.
Отвечают:
– У нас все блюда очень острые.
После длинной дискуссии его осенило:
– У вас есть яйцо?
– Есть!
– Ну вот! Прекрасно! Сварите мне его.
Официант уходит, проходит минут двадцать, яйца нет, полчаса – нет.
Он спрашивает:
– Что с яйцом, черт побери?
Отвечают:
– Все оказалось не так просто: наш повар уже полчаса пытается ввести перец внутрь яйца.
Лучшие советские театры не хотели жить без перца политики. Это был театр аллюзий, когда при помощи ассоциаций благороднейшие художники кусали Власть. Но кусали дозволено. И за этой дозволенной фрондой и приходил зритель. В пьесе должна была быть возможность публицистики.
Вся беда этой пьесы: не могли ввести перец. Пьеса была совершенно аполитична. И оттого не возбуждала.
Я уже примирился с печальной судьбой пьесы, когда вдруг получил письмо.
Писала из Франции Лили Дени – одна из самых блестящих переводчиков с русского. Она уже переводила тогда мои пьесы, которые играли на французском радио. Она писала о том, что в знаменитом «Одеоне», которым руководил тогда Джорджо Стреллер – один из самых известных режиссеров Европы, хотят поставить «Старую актрису…». Лили прочла ее в нашем театральном журнале и перевела на французский.
Я был в ужасе. Я хорошо помнил и Ефремова, и спящего режиссера X. Я ответил переводчице, что лучше взять любую мою другую пьесу, но только не эту.
Но они хотели ставить только ее. И поставили.
Началась перестройка, и меня легко выпустили на премьеру в Париж.
Я приехал в город, о котором всегда мечтал отец. Он никогда там не был, но так хорошо его знал.
Я жил в гостинице у Люксембургского сада. Рядом – был «Одеон».
В «Одеоне», где состоялась премьера моей пьесы, когда-то впервые сыграли «Свадьбу Фигаро». Здесь, в улочке за театром, тогда жил Бомарше. И здесь, по Люксембургскому саду, прогуливались закадычные друзья, будущие вожди Революции: Робеспьер, Камилл Демулен и его невеста красавица Люсиль. И когда Люсиль и Демулен поженятся, окна их новой квартиры будут выходить на площадь перед театром «Одеон».
Вот из этой квартиры, окна которой глядят на площадь и поныне, Демулена отвезут в тюрьму, а потом на гильотину – по приказу его друга Робеспьера. А его жену Люсиль посадят в тюрьму, совсем рядом с их жилищем. В тюрьму был превращен в дни Революции великолепный дворец в Люксембургском саду. Из тюрьмы ее отправит на гильотину все тот же их друг Робеспьер.
И сам изобретатель гильотины Шмидт жил совсем рядом, здесь же, в Латинском квартале.
Банкет по поводу премьеры моей пьесы устроили в знаменитом ресторане «Прокоп». Здесь, в том же ресторанном зале, они все сидели – будущие мои герои: Робеспьер, Демулен, Дантон, Бомарше, Наполеон…
Премьера
Спектакль в «Одеоне» сыграли актеры «Комеди Франсез». Старую актрису играла знаменитая Денис Жане.
Они выбрали такой вариант пьесы: он был безумный художник, поверивший, что он Достоевский. Она была гримершей, играющей в жалком инвалидном Доме в своего кумира – Великую актрису.
Жизнь в этом Доме они играли лицом к залу. Но историю Достоевского и Анны Григорьевны играли, повернувшись в кулису. И оттуда тотчас начинал идти свет рампы, и возникал шум зрительного зала. Там был тоже театр.
И когда она открывала свой крохотный чемоданчик гримерши… оттуда тоже возникал свет рампы и гул зрительного зала. Там – тоже был театр. Театр был всюду. Эта была все та же любимая Игра в Игру.
Через много лет Габриель Маркес вспоминал:
«В 80-х я видел пьесу «Старая актриса на роль жены Достоевского» в одном из парижских театров. Постановка мне очень понравилась и хорошо запомнилась».
Успех спектакля родил длинное продолжение. Пьесу поставили Национальные театры в Брюсселе и Хельсинки, она вышла в Театре «Мингей» в Японии, ее ставили в Германии, Испании, Дании, Греции, Аргентине, потом в Нью-Йорке и т. д.
Я видел несколько спектаклей во Франции, поставленных в провинции. Один был особенно интересен. Это было на фестивале в Семюр-ан-Оксуа «Открытая сцена», где представили две моих пьесы.
Семюр-ан-Оксуа – средневековый город в буквальном смысле этого слова. Самое новейшее здание, по-моему, было построено здесь в XVII веке. И спектакли ставили прямо на улице, на фоне старинных домов, или в самих этих великолепных зданиях.
«Продолжение Дон Жуана» играли, к примеру, в замке легендарного Роже де Рабютена, графа де Бюсси, современника исторического д’Артаньяна… Их пути должны были пересекаться. Жизнь самого Рабютена – продолжение романа А. Дюма «20 лет спустя». Фрондер, воевавший то против короля, то за короля, познавший камеру в Бастилии, полководец, исторический писатель и великий Дон Жуан. Этот автор «Любовной истории галлов» мог покинуть поле боя ради свидания с возлюбленной. Осталась его интереснейшая переписка с кузиной – самой блестящей женщиной века, госпожой де Севинье…
Для зрителей был построен амфитеатр прямо перед входом в спальню де Рабютена. Двери были открыты, виднелись роскошное парадное ложе и портреты его возлюбленных на стене.
На этом галантном фоне и играли «Продолжение Дон Жуана».
«Старую актрису…» играли в здании заброшенного старого вокзала. Это была как бы последняя остановка в жизни пожилой женщины. Героиня выходила совсем молодой, почти девочкой. Садилась к гримировальному столику и читала эпиграф к пьесе:
«… Мне 19 лет, я сижу в грим-уборной, сзади ко мне подходит актер – это великий Ленский. Он берет кисточку, делает несколько мазков на моем лице – и в зеркале, на глазах, я становлюсь старухой! Я плачу! Я не хочу!..»
И гример на наших глазах превращал ее в старуху. Она начинала играть.
В то время я посмотрел много своих пьес на Западе. Меня слишком долго не выпускали, и я был голоден – жаждал этих путешествий. И когда ВААП заключал договор, я не интересовался гонораром. Я требовал одного – моего присутствия на премьере.
Вместе со спектаклями я ездил по Японии и Швеции. Смотреть свою пьесу в переводе опасно. Перевод – лукавое искусство. Есть такая формула: «Перевод – как женщина: если она красива, то она неверна. Если она верна, то она некрасива».
Я всегда надеялся, что мои переводчики не следуют этому прелестному афоризму.
В Москве «Старую актрису…» долго, долго не ставили. Повторюсь: я хотел, чтобы эту пьесу играла Доронина. И, конечно, дал ей прочесть. Она замечательно разбирает пьесы, обнажая скрытую притчу.
И я подумал: какой забавный сюжет! Автор и актриса беседуют по телефону о постановке пьесы, и сквозь пьесу встает их собственная жизнь. Они начинают понимать, что случилось с ними.
Так, в разговорах о пьесе прошло несколько лет, когда она все-таки сыграла «Старую актрису»…
Это случилось уже после раскола МХАТа. Вместе с частью мхатовской труппы она ушла в здание на Тверском бульваре. И там начала репетировать пьесу.
Спектакль поставил один из самых блестящих наших режиссеров – Роман Виктюк.
На сцене была декорация – фронтон здания МХАТа в Камергерском. Он стоял в странном, жутковатом, освещении и смотрел незрячими окнами на мхатовский занавес с чайкой. Это был исторический занавес – чудом уцелевший подлинный занавес МХАТа, великих его времен. Над этим МХАТом со слепыми окнами, столь напоминающим мертвый дом, над пустой сценой начинали звучать голоса его умерших великих актеров.
Они играли знаменитый финал «Трех сестер».
«… Как играет музыка… Они уходят… Один ушел навсегда».
И на этом чеховском прощании начинался текст пьесы. Звучала белогвардейская песенка:
Мы были на бале, на бале, на бале,
И с бала нас прогнали, прогнали,
Прогнали по шеям…
Спектакль начинался как воспоминание о канувшем в Лету прекрасном бале – о великом Московском Художественном театре, который ушел навсегда.
И Доронина неистово, лично, яростно играла эту тему – поругание святынь, невозвратность погибшего высокого. И тему театра – трагизм судьбы его жрецов. Беспощадность Времени, навсегда отнимающего у Актера несыгранные роли. И, наконец, последнюю реплику пьесы – почти крик боли – о пустоте и бесцельности нынешней жизни.
Но была еще одна тема пьесы – самая для меня тогда важная.
Пьесу ставили в безумном постперестроечном мире 90-х, освещенном заревом горящего Белого дома, с растерянными, потерявшимися, полными гнева людьми. Как писал римский историк, «рабы, долго влачившие оковы, получив свободу, становятся злоречивы». Это – закон рабства. Вся ложь, которую десятилетия вынуждали говорить людей, все запреты, в которых они жили, должны были вылиться в нетерпимость и злобу.
И потому главной для меня тогда темой пьесы была Любовь.
Безумного художника играл любимый шукшинский актер Георгий Бурков.
Он это понял. И когда его герой предлагает Старой актрисе сыграть историю Полины Сусловой, загадочной «хлыстовской богородицы», святой всех расстриг, в которой и бездны, и небо, он знает – актриса слишком много прожила. Она стала мудрой. Ярость и страсти Сусловой – это для нее в прошлом. Добро – вот итог прожитой жизни. И к радости «безумного» художника вместо Полины Старая актриса решает сыграть Анну Григорьевну, молодую жену Достоевского. Сыграть добро, олицетворенное в «лучшей из жен российской литературы». «Этой отваги и верности перевелось ремесло – больше российской словесности так никогда не везло».
Но чтобы сыграть Анну Григорьевну, нужно отрешиться от суеты и обид. И «безумный» Художник мудро ведет Актрису от зла и непримиримости – к прощению. Бурков с какой-то нежной болью, убирая даже намек обличения, произносил текст:
– А нынче любой сытый злодей клянется Достоевским Федей, а какой-нибудь преследователь человеков памятник Феде норовит поставить… А я им и говорю: «Ставьте мне ваши памятники. Только на цоколе написать не забудьте: «Феде Достоевскому от благодарных бесов»».
Изгнание бесов… «Любовь все спасет», прощение – как непросто было это играть Дорониной, перенесшей столько несправедливости во время раздела МХАТа… (Никак не ожидал такого упоения, с которым сильные мужчины беззастенчиво травили тогда женщину.) И она поневоле вносила все происшедшее с нею в роль. И сама же боролась с этим, понимая, как далек от мстительной страсти жертвенный характер Анны Григорьевны.
Мне кажется, эта роль помогла ей жить в то время.
Есть роли, которые делает актер, и есть роли, которые делают актера, меняют его самого.
И немного про Брежнева
Бурков замечательно рассказывал… Обычно он это делал, когда возникала напряженность во время репетиций. В первой же паузе он начинал какой-нибудь смешной рассказ. И в его смехе, в его лукавой интонации рассказчика было что-то очень-очень знакомое… Шукшин! Он продолжал жить в нем. Как до сих пор продолжает жить Эфрос в своих актерах.
Режиссеры не уходят. Они прячутся в своих актерах.
Мой любимый бурковский рассказ – о посещении Брежневым спектакля «Так победим!» по пьесе Михаила Шатрова. Бурков играл в этом спектакле рабочего, который встречается с Лениным.
По случаю прихода Брежнева все преобразилось – в буфете появились дефицитные тогда кипрские апельсины. И Бурков, понимая, что эта роскошь весьма временная, купил пару апельсинов домой. Запрятал в карманы штанов и отправился в гримерку.
Но все закулисье было заполнено добрыми молодцами. Один из них молча преградил ему дорогу – взгляд уперся в оттопыренные карманы бурковских штанов.
Бурков молча вынул один апельсин. Молодец молча кивнул, но продолжал недвижно стоять. Бурков все так же молча вынул второй апельсин. И добрый молодец освободил дорогу.
Брежнев и члены Политбюро появились в ложе. Раздались аплодисменты.
Брежнев был продолжением все той же кафкианской жизни. Полководец, не выигравший ни одного сражения, но удостоенный всех высших воинских наград; писатель, награжденный высшей премией по литературе, не написавший ни одной книги; оратор, нечленораздельную речь которого транслировали телевидение и радио; мудрый правитель страны, находившийся в глубоком маразме, о котором страна сочиняла бесконечные анекдоты.
Спектакль начался.
«Ленин, – рассказывал Бурков, – по замыслу режиссера должен был скромно, этак бочком, войти в свой кабинет.
Как только Ленин показался в кабинете, в тишине зала отчетливо послышался голос, до боли знакомый миллионам:
– Это Ленин?
– Да, – шепотом ответил кто-то в ложе.
– Надо его приветствовать? – спросил Генсек.
– Не надо, – прошептал достаточно громко кто-то из членов Политбюро.
В это время на сцене появилась секретарша Ильича.
– Кто это? – тотчас осведомился на весь театр Генсек.
– Секретарша, – зашептали в ложе.
– Она хорошенькая, – отметил Леонид Ильич.
Зал испуганно слушал.
Но опять любимый голос:
– Кто это?
– Крупская, – ответил шепот.
– Крупская? Молодая, – удивился Брежнев.
Наступила очередь Буркова. Он вышел на сцену и произнес текст.
– Пусть повторит. Я не услышал, – раздался голос Брежнева.
В ответ послышался чей-то успокаивающий шепот.
Но управлять спектаклем Генсеку явно понравилось. И когда какая-то оппозиционерка на сцене посмела возражать Ленину, Брежнев был категоричен:
– Пусть она уйдет! – услышал зал.
После этого Генсека тихонечко увели на время из ложи. Но он был упрям и вскоре вернулся. И угодливый член Политбюро объяснил происходившее на сцене:
– Это Арнольд Хаммер говорит с Лениным.
– Разве Хаммер в Москве? – искренне удивился на весь театр Генсек.
И тут кто-то не выдержал. Точнее, посмел не выдержать. Или было нужно, чтоб не выдержал. Раздался чей-то смех. И тотчас напряженное молчание зала перешло в общий, очень нервный хохот.
После этого Брежнева увели смотреть любимый хоккей».
На самом деле это была не смешная, но очень трагическая история про Кремль и власть. Плохо слышащего и еще хуже понимающего больного человека привели на спектакль старики-соратники, желавшие любой ценой сохранить неизменность ситуации. И потому не отпускали его на покой, заставляли играть в вождя.
Но видно кто-то был против.
«Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно», – как справедливо написал советский поэт. И кому-то было, видимо, нужно продемонстрировать полный маразм несчастного Генсека. Брежнев плохо слышал, но сцена и ложа были напичканы микрофонами. И они усилили и без того громкий голос глуховатого Генсека.
И на следующий день о маразме Брежнева говорила «вся Москва».
Пока на сцене шла одна пьеса, в ложе, возможно, разыгралась вторая.
Уже через несколько месяцев Брежнев умер…
И вскоре Генсеком стал находившийся в тот день в ложе руководитель КГБ Андропов.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?