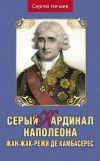Текст книги "Огонь под пеплом"
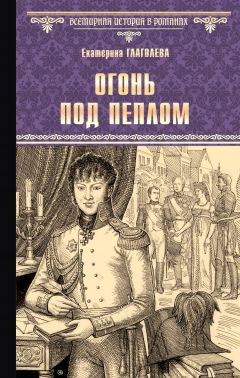
Автор книги: Екатерина Глаголева
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
18
События приняли нежданный оборот: уезжая в январе из Петербурга в Париж, Чернышев вовсе не думал, что вскоре попадет на свадьбу. Наполеон принял его ласково, ничем не дав понять, что уже отказался от планов женитьбы на Анне Павловне и посватался к другой. Однако новый поворот не отменял миссии Чернышева: состоять постоянно при Бонапарте, наблюдать, примечать, докладывать. Государь не рассердился на императора французов, хотя тот мог бы действовать и поделикатнее, и прислал к нему князя Алексея Куракина (родного брата посланника в Париже) с поздравлениями и пожеланиями счастья. А в Вену отправился граф Алопеус, бывший посланник в Стокгольме: официально – чтобы поздравить императора Франца, так удачно выдавшего замуж свою дочь, а на самом деле – чтобы поддержать усилия графа Шувалова, пока еще не увенчавшиеся успехом. Рано или поздно, но тройственный союз возродится: прусские дипломаты в Вене тоже не дремлют, а Меттерних поддерживает через них связи с Англией…
Чернышев был в Компьене, когда новой императрице представляли придворных и сановников. Конечно, она далеко не красавица, особенно на фоне французского двора, состоящего из молодых офицеров и их хорошеньких жен, но, в общем, довольно мила… Похоже, что это застывшее выражение лица – маска, скрывающая робость. Она же принцесса, ее учили, как надо себя держать в многолюдных собраниях, которые, возможно, внушают ей страх. Но Саша не мог не слышать пересудов, в которых разочарование смешивалось со злословием; многие вслух жалели о Жозефине.
Парижский люд готовили к встрече новой повелительницы песенками и куплетами. В воскресенье, первого апреля, все театры давали бесплатные представления, но угощать зрителей собирались пьесами, написанными «по случаю»: «Австрийские праздники», «Женитьба Доблести», «Союз Марса и Флоры»… В Театре водевиля, впрочем, сыграли комедию Детуша «Подложная Агнесса», которая с успехом шла на сцене уже полвека, однако добавили к ней верноподданническую сцену. Новые куплеты Дезожье распевали и во Французском театре, где их «подхватил объятый радостью народ», и в Комической опере, где их вставили в пьесу «Дезертир» (чрезвычайно удачный выбор, поскольку ради императорской свадьбы всем дезертирам и не явившимся на службу рекрутам объявили амнистию).
Бьют его – он егозит, и бранится, и орет,
А как встанет – запоет, —
припомнились Чернышеву последние строчки «Женитьбы Фигаро» о «добром народе». Бомарше смеялся над тем, что во Франции всё заканчивается песенками. Верно, теперь песенки приготовили наперед, чтобы ничего и не начиналось…
Второго апреля императорский кортеж покинул Сен-Клу и вступил в Париж.
Недостроенную Триумфальную арку у заставы Звезды, в начале Елисейских Полей, срочно «доделали», натянув раскрашенное полотно на деревянный каркас, и огородили под ней места для привилегированной публики. Восемь буланых андалузских лошадей редкой красоты влекли шагом золоченую карету с большими застекленными окнами, на подножках и запятках примостились восемь пажей в зеленой с золотом ливрее. Наполеон в белом костюме, который он надевал на коронацию, и черной шляпе с тремя страусовыми перьями сидел справа от Марии-Луизы в великолепном платье из серебряного тюля, расшитого жемчугом, и кружевной вуали под бриллиантовой диадемой. Не доезжая арки, карета остановилась; префект департамента Сены, сопровождаемый другими чиновниками, поднес Наполеону ключи от города на бархатной подушке.
Графиня Потоцкая смотрела на императорский поезд из окна квартиры, которую тетушка Мария-Тереза сняла для нее в красивом здании на площади Согласия (графиня Тышкевич упорно называла ее площадью Людовика XV). Благодаря тетушке Анна была в курсе парижских сплетен, которые неприятно ее поразили: отправляясь в аристократические гостиные, она не была готова услышать настолько вольные речи и дурные шутки, на нее точно плеснули помоями. В Сен-Жерменском предместье императора изничтожали языком, не имея возможности расправиться с ним иначе. Встречу в Компьене обсуждали очень бурно: критиковали азиатскую роскошь замка, уверяли, что уборную Марии-Луизы обили лучшими индийскими шалями, отобранными у Жозефины (это была явная ложь: Наполеон никогда не отнимал своих подарков), наконец, выражали свое разочарование уступчивостью эрцгерцогини, которая могла бы и не пускать его в свою постель в первую же ночь. Наполеон, верно, сам удивлен величием своей судьбы. Вот увидите: мы скоро узнаем о возможном результате его предприимчивости! Сейчас Святая, и будущая императрица хочет совершить свой въезд en sainte[11]11
Игра слов: en sainte («как святая») звучит как enceinte («беременная»).
[Закрыть]! Потоцкую передернуло от хохота, которым встретили этот гадкий каламбур. Теперь ей показалось, что молодая жена не слишком занимает Наполеона, который больше озабочен впечатлением, произведенным на толпу. Генералы и маршалы в парадных мундирах, гарцевавшие верхом впереди и позади кареты, короли и королевы в блестящих экипажах, многочисленная свита, женская красота, блеск бриллиантов – яркое, завораживающее зрелище! Но французы, должно быть, уже навидались такого: они оставались холодны, приветственные клики и подброшенные в воздух шляпы были редки. «Vive l’empereur!» – кричали гвардейцы-ветераны, выстроившись в две шеренги вдоль Елисейских Полей, словно Наполеон проезжал мимо на белом коне и в своем знаменитом рединготе. Решетка сада Тюильри закрылась за последним экипажем из кортежа; народ туда не пустили.
Гортензия ехала с Жюли Клари и Жеромом впереди кареты императора. Церковный обряд предстояло совершить в Лувре; от венчания в соборе Парижской Богоматери пришлось отказаться, потому что пышной церемонии не получилось бы: место архиепископа пустовало, три французских кардинала примкнули к тринадцати итальянским, покинувшим Париж, чтобы не присутствовать при свадьбе «двоеженца». (Наполеон велел установить за ними полицейский надзор, а итальянцев лишил права носить знаки их достоинства, обвинив в оскорблении величия.) Из собора принесли только коронационные мантии для императора с императрицей. Гортензии велели нести край мантии, всего пять лет назад спадавшей с плеч ее матери! Эту обязанность с нею, королевой Голландии, разделили королева Испании, королева Вестфалии и великая герцогиня Тосканская; королева Неаполя, вице-королева Италии и княгиня Баденская шли впереди со свечами и почетными знаками, их собственные мантии несли высшие придворные сановники.
Путь из Тюильри в Лувр лежал через Большую галерею, где столпились восемь тысяч человек, бурно приветствовавших новую императрицу. Гортензия больше не испытывала к Марии-Луизе никакого сочувствия. Она-то заочно сострадала ей по-женски, считая ее жертвой, подобной себе, а это просто бездушная кукла, созданная для того, чтобы сидеть на троне, – чем выше трон, тем лучше.
Лувр был теперь Императорским музеем. Квадратный салон, где обычно выставляли картины, переделали под часовню и соорудили там трибуны для придворных и дипломатического корпуса. Ради этого пришлось снять со стен и вынести крупные полотна, что было не так-то легко сделать. Говорили, что хранитель музея Денон хотел этому помешать, но император приказал вышвырнуть картины, а если это невозможно – сжечь их. Стены обили шелком и парчой, напротив входа установили алтарь с большим крестом и шестью золочеными канделябрами.
Гортензия чувствовала на себе любопытные, испытующие взгляды: все подстерегали ее реакцию – ее и Эжена. Как хорошо, что мать вовремя уехала! Скорей бы всё закончилось! К счастью, кардинал Феск, совершавший обряд, не злоупотребил временем собравшихся.
Из часовни прошли в Большой зал Тюильри, где обычно давали спектакли. (Будущий Людовик XVI праздновал свадьбу с Марией-Антуанеттой в оперном зале при Версальском дворце.) Теперь на месте сцены, в полукруге из мраморных ионических колонн, поставили помост с тремя ступенями, подвесив над ним балдахин, прикрепленный к куполу рядом с огромной люстрой; император с супругой и родней заняли места за столом в форме подковы. Три тысячи гостей, дожидавшихся их прихода, сидя на скамьях, вскочили при их появлении и оставались на ногах до самого окончания банкета – так было принято в Версале. Послов поместили слева, чтобы им всё хорошо было видно и они могли составить подробные отчеты для своих дворов. На галерее под потолком сидели музыканты: Иоганн Непомук Гуммель сочинил Свадебную кантату в двадцати двух частях для солистов с оркестром и двух хоров – австрийского и французского.
Как назло, у Марии-Луизы начал резаться зуб мудрости, левая щека распухла, а ей сидеть у всех на виду! Затверженные поздравления слились в одно неразборчивое бормотание, сервиз из позолоченного серебра сверкал в блеске свечей, и от этого мельтешило в глазах. Стол был заставлен кушаньями, лакеи в ливреях разносили блюда и в соседние залы, но император, никогда не обедавший дольше двадцати минут, не сделал исключения и для свадебного пира; как только он встал из-за стола, все остальные были вынуждены сделать то же, не успев всего попробовать.
Шел восьмой час вечера; небо над Парижем озарили фейерверки: сияющие букеты вспыхивали, рассыпаясь искрами, по всей длине Елисейских Полей от площади Согласия до заставы Звезды. Огненное действо было делом рук Мишеля Руджиери – сына королевского пиротехника Петронио Руджиери, украшавшего праздник по случаю бракосочетания дофина и Марии-Антуанетты.
Парижане потянулись к бесплатным буфетам, устроенным неподалеку от Елисейских Полей, и фонтанам с вином. На иллюминацию было потрачено почти триста тысяч франков, еще столько же – на угощение, но радости на эти деньги купить не удалось. Чего ждать от новой австриячки? Не иначе – новой беды. Как надоели эти войны! Вы не слыхали, о рекрутском наборе не объявляли пока?.. Да тут и без войны не знаешь куда деться! Хлеб разрешили вывозить за границу – а пошлины какие? Это же кошмар!.. И не говорите! На забавы у них деньги есть, а векселя не переучитывают – видите ли, казна пуста! Торговля идет совсем плохо… Хозяин грозится фабрику закрыть – чем тогда кормить пять голодных ртов?..
Генерал Рапп лежал в комнате с опущенными шторами, страдая от мигрени; каждые полчаса слуга в туфлях на войлочной подошве приходил переменить ему повязку, смоченную уксусом. Старые раны давали о себе знать; сколько он их получил? Точно и не вспомнить, кажется, восемнадцать… Еще в девяносто пятом, служа в Рейнской армии, он хотел подать в отставку, когда ему раскроили голову саблей, но доктор Бартольди его отговорил. А левую руку ему хотели отнять дважды: в Каире в девяносто девятом и в Варшаве в восемьсот шестом… Прибыл посыльный из Тюильри: адъютант Наполеона должен явиться на поклон к императорской чете. Рапп продиктовал слуге записку к Дюроку и подписал ее, морщась от боли: он совершенно не в силах встать с постели и куда-то ехать. Дюрок-то его поймет, но вот Бонапарт? Он не желает слышать слова «невозможно»…
Король Голландии уже уехал в Амстердам и требовал к себе жену. Двор вновь перебрался в Компьень; Наполеон занимался только Марией-Луизой, его сестры с мужьями предавались играм, танцам, шумным собраниям, говорили об украшениях, успехе и величии. Из гордости Гортензия скрывала от них свою печаль. В день отъезда все вышли на крыльцо провожать ее. «Почему вы так скоро уезжаете?» – спросил Наполеон, мягко взяв ее за руку. Почувствовав, что сейчас заплачет, Гортензия вырвала руку и, не ответив ни слова, побежала к карете.
* * *
Графине Потоцкой потребовалось целых три урока, чтобы научиться делать реверанс, пятясь задом: вся трудность состояла в том, чтобы незаметным движением ноги отбрасывать огромный шлейф придворного платья. Поскольку она была иностранкой, то, прежде чем предстать перед императором с императрицей, должна была представиться всем королевам и герцогиням, а каждая из них имела свой приемный день, поэтому лучшие утренние часы уходили на долгий, утомительный туалет. После визита нужно было снять придворное платье (тоже долгое дело), пообедать и ехать в театр – отдыхать.
Недостаток благородства новые государыни восполняли спесью, а отсутствие манер – чванством. Элиза Бонапарт походила лицом на брата, хотя ее черты имели более жесткое выражение; ей приписывали ум и характер. Полина Боргезе была наделена классической красотой греческих статуй; современный Парис не стал бы долго раздумывать, кому отдать свое яблоко, хотя княгине уже приходилось устранять при помощи искусства следы пощечин, нанесенных временем. Уступая сестре в красоте, Каролина Мюрат обладала куда более живой физиономией, ослепительным цветом кожи, безупречной талией и королевской осанкой, а что касается ума, то, по словам Талейрана, эта женская головка покоилась на плечах государственного мужа. Потоцкой оставалось поверить ему на слово, поскольку протокольный визит не позволил ей сделать собственных выводов. Отъезд Гортензии и Августы ее обрадовал: на два дня мучений меньше.
Император принимал в полдень, в своем кабинете. О Потоцкой доложили, она сделала первые три реверанса. Наполеон стоял, опершись рукой о стол. О, конечно же, он прекрасно помнит ее! Расспросив Анну о ее семье и в особенности о дядюшке – Юзефе Понятовском, император перехватил ее взгляд, устремленный на «Персидскую Сивиллу» Гверчино, вывезенную из Рима и висевшую над столом.
– Вам следует познакомиться с господином Деноном, он покажет вам музей. Но я надеюсь, что вы не пропустите ради этого ни одного из праздников.
В приемной императрицы уже ожидало много посетительниц. Мария-Луиза вышла из своих апартаментов в сопровождении фрейлин и докладчиц. Потоцкая видела ее впервые, и австриячка вовсе не показалась ей такой дурнушкой, как расписывали в Сен-Жерменском предместье. И одета со вкусом. Только вот это деревянное лицо без доброжелательной улыбки или интереса во взгляде… Она обходила круг дам, точно заводная кукла; император шел рядом, подсказывая, что говорить. «Вы само очарование», – шепнул он, когда докладчица представляла графиню Потоцкую. Взглянув на Анну (лицо сердечком, миндалевидные глаза, аккуратный носик), императрица повторила эту фразу, но очень сухо и с сильным немецким акцентом.
Полина Боргезе первой устроила праздник в честь императорской четы. Миновав парковую решетку Нейи, кареты останавливались у театрального зала, устроенного прямо на лужайке под открытым небом, где уже высыпали звезды. Ложи, украшенные гирляндами из цветов, были заполнены красивыми нарядными женщинами; даже Мария-Луиза не удержалась от восклицания при виде этого чуда; Наполеон был рад тому, что она рада, и нежно благодарил сестру. Лучшие актеры из Французского театра сыграли пьесу, которой никто не слушал, самые знаменитые танцовщики исполнили балет, на который никто не смотрел, – настолько публика была поглощена разглядыванием счастливой пары. Сидевшие поблизости были поражены тем, что супруги обращались друг к другу на «ты», а Мария-Луиза называла мужа «Нана» или «Попо»! После представления экипажи направились к бальной зале через парк, освещенный тысячами фонариков. Несколько искусно расставленных оркестров перекликались друг с другом подобно горному эху. На пути кортежа был античный храм, где Грации пробуждали Амура, и приют сурового отшельника, который открывал решетчатую дверцу паломникам из Палестины, а те славили его песнопениями. Грации были из Оперы, паломники – из Консерватории. Амур подарил Марии-Луизе венок из роз, украденный у Граций, трубадуры пели ей романсы. Но вот аллея сузилась, парк стал похож на лесную чащу, музыка смолкла. Под подвесным мостом шумел водопад, подсвеченный так, будто горел огнем. Стало совершенно темно, гости молчали; в тишине раздался голос Наполеона: мы что, сбились с дороги? Однако за поворотом оказалась поляна, залитая ярким светом, а на ней… возвышался замок Шёнбрунн с просторным двором, фонтанами, портиками! По парку гуляли группы гостей, к крыльцу подъезжали экипажи, сновали лакеи в ливреях; тирольцы в коротких штанах и шляпах с фазаньим пером плясали с молочницами в чепцах под звуки волынки. Мария-Луиза прижала ладони к щекам, ее глаза наполнились слезами… Но она очень быстро овладела собой. Наполеон смотрел на нее с нежностью: милое дитя! Такая наивная, простодушная! Полина – просто молодец. Сорок лет назад в Страсбурге выстроили декорацию Шёнбрунна для Марии-Антуанетты, чтобы скрасить ей горечь расставания с родиной, но княгиня Боргезе превзошла королевских чиновников!
* * *
Мария Валевская узнала о свадьбе Бонапарта из газет. Десять дней спустя, четвертого мая, она разрешилась от бремени сыном, которого нарекли Александром; граф Валевский дал ему свою фамилию. В это время Наполеон с Марией-Луизой были в свадебном путешествии, объезжая бывшие Австрийские Нидерланды.
Весна полностью вступила в свои права; головная боль утихла, и Рапп вышел немного прогуляться. На бульварах ему встретился военный министр Кларк: «Имейте в виду, император чем-то недоволен и, скорее всего, намерен отправить вас обратно в Данциг, губернатором». Что ж, это, конечно же, опала, но в Данциге Рапп чувствовал себя своим. Пожалуй, там ему будет лучше, чем при дворе.
Как только Наполеон вернулся в Сен-Клу, генерал явился к нему за инструкциями.
– Присматривайте за Пруссией, лебезите перед русскими и сообщайте мне обо всём, что происходит в портах на Балтике, чтобы мне не нужно было сноситься с Берлином. Это всё, можете идти.
19
Живот Екатерины Павловны заметно округлился; муж крепко держал ее под руку, когда они гуляли вместе по дворцовому саду, беседуя обо всём на свете. Георг оказался поэтом; Катенька уверяла, что его стихи непременно нужно печатать, он смущался и возражал, но она в конце концов отдала в московскую типографию небольшую книжечку «Поэтические попытки» с пометкой: «Для семьи» (на которой настоял Жорж), снабдив немецкие вирши своими рисунками и арабесками.
Грядущее меня не искушает:
Святой любви алкаю для себя.
Ах, время безвозвратно утекает…
Мой ангел! – говорю тебе любя.
Побудь со мной, прекрасное мгновенье!
Ты предо мной – блажен я, как дитя.
Твой ясный взор прогонит все сомненья,
Навеки счастье в душу воротя.
Любовь, переполнявшая душу Георга, побуждала его творить добро везде, где только возможно. Ах, сколько хорошего он мог бы сделать в сфере более обширной и более заметной, чем сухопутное и водяное сообщение! После очередного доклада Лубяновского о положении в Москве, Твери и о жизни губернской принц отдал ему прочесть свое письмо к императору и просил высказать чистосердечно свое мнение. В письме излагался прожект о выкупе крепостных крестьян на волю и о заселении ими пустующих земель для их освоения. У Лубяновского засосало под ложечкой. Были, были уже такие прожекты! В самом начале царствования, когда государь еще носился с либеральными идеями и был окружен своими друзьями из Негласного комитета. Где теперь все те друзья?
Весной 1801 года Мордвинов предложил продать или раздать большую часть казенных земель дворянству, позволив владеть землею также купцам, мещанам и казенным крестьянам и запретив продавать крестьян без земли. А как же дворовые? – возразили ему на это. Такой запрет сильно стеснит владельцев, у которых нет имений. Тогда светлейший князь Платон Зубов, желая выслужиться перед сыном убиенного им императора, предложил записать всех дворовых в мещане и распределить по цехам, сохранив над ними господскую власть, исключить их из ревизии, сложить с них подушный оклад, а подати за них взыскивать с помещиков. При этом запрещалось бы переводить пашенных крестьян в дворовые, дробить дворы и семьи, закладывать крестьян без земли и землю без крестьян, которые ее обрабатывают. Дворовых же в случае необходимости (например, для уплаты долгов) можно было бы продать в казну, которая выкупила бы их на волю, чтобы они затем сами решили, кем им быть. Более того: трудолюбивые, воздержанные и бережливые крестьяне, желавшие откупиться от своего помещика, могли бы обратиться в губернское правление и через него получить отпускную в обмен на деньги за всю семью, сохранив за собою скот и движимое имущество, дабы никакое препятствие не заграждало путь заслугам и дарованиям.
Николай Новосильцев выступил против этого проекта: откуда в казне деньги на выкуп дворовых? И что прикажете делать с этой массой людей, которые ничего не умеют – только служить своему барину да принимать от него побои? Да и дворянство лучше не раздражать. Князь Чарторыйский горячо на это возразил, что крепостное право есть такая мерзость, что истреблять ее следует без оглядки на расходы; граф Кочубей считал совершенно необходимым облегчить судьбу крепостных, которые, будучи самым многочисленным сословием, не имеют никаких прав по сравнению с остальными; граф Павел Строганов добавил, что крестьяне видят своего единственного защитника в государе, народная преданность монарху зависит от этих надежд, их ни в коем случае нельзя поколебать, дворянство же в России есть раб верховной власти.
И что в итоге? Приняли только меру Мордвинова: разрешили разночинцам покупать пустоши. После Тильзитского мира Кочубей выпросил себе отставку и уехал в Париж как частное лицо; Чарторыйский тогда же потерял портфель министра иностранных дел и сейчас тоже где-то за границей; после его опалы Строганов перешел со статской в военную службу и теперь находится в Дунайской армии; лишь сенатор Новосильцев состоял при императоре до конца прошлого года, а ныне уехал в Вену, где, говорят, запил горькую. За князем Зубовым же еще раньше установили «тайный» полицейский надзор, который был слишком явным. Он испросил бессрочный отпуск за границу, но быстро вернулся в Россию, сбежав от дуэли с генералом Игнацием Гелгудом, желавшим отомстить за раздел Польши. Обещал государю освободить своих собственных крестьян – и не исполнил. Хуже того: будучи в седьмом году неподалеку от Шавлей и проезжая через имение Зубова, государь пришел в негодование при виде нищих крестьян, занимавшихся попрошайничеством вместо землепашества и умиравших от голода, пригрозил богатому скряге карой, однако тем дело и кончилось. Но то светлейший князь, а кто такой Лубяновский, чтобы соваться в опасные дела? Крайнего сыщут быстро.
Принц смотрел на него со счастливым лицом, ожидая безусловного и радостного согласия. Лубяновский не стал говорить ему прямо, что проект несбыточный, а посоветовал письма не отправлять, отложив всё до личного свидания с императором (письмо к делу пришить можно, а разговор не пришьешь). Лицо Георга мгновенно омрачилось. Письмо он всё-таки отправил, а когда посланный вернулся с ответом, вызвал к себе Лубяновского и назвал его дурным пророком.
Но не угомонился. Получив записку о необходимости открыть в Твери два института – благородных девиц и благородных юношей «для службы по части внутренних сообщений государства», принц загорелся этой идеей, тотчас утвердил программу и выделил средства, и тут как раз в Тверь приехал граф Разумовский, попечитель Московского учебного округа. Георг пригласил его разделить с ним трапезу, за обедом негодовал, что он, генерал-губернатор, устранен от управления учебными заведениями в своих губерниях, тогда как он мог бы создать здесь образцы для всей империи. Граф кушал да кивал, а принц после этой беседы вызвал к себе Лубяновского, объявил, что попечитель отдает ему все учебные заведения в Тверской и Ярославской губерниях, и отправил к Разумовскому уладить все формальности, дабы поскорей покончить дело и тотчас приступить к преобразованиям. Разубеждать его было бесполезно, Лубяновский отправился. Понятно, что Алексей Кириллович был удивлен, даже поражен, на другой же день собрался спозаранку в обратный путь, сказав при этом принцу, что статс-секретарь его либо не вразумился, либо неверно истолковал его слова, и просил прислать к нему в Москву официальное отношение. Георг и тут не послушался Лубяновского, предсказывавшего ему, что из затеи этой ничего не выйдет: «Не всегда же тебе быть дурным пророком». Каков итог? Получив отношение, попечитель обратил принца к министру народного просвещения графу Завадовскому, который и в более молодые лета отличался меланхолией и подозрительностью, а в старости сделался раздражителен и не выбирал выражений. В ответном письме граф порицал легкомыслие верхохватов, плодящих прожекты из тщеславия. Оскорбленный Георг написал представление императору, который похвалил его за добрые намерения, но указал на неудобство от исключений из общего правила. Кто же оказался виноват? Лубяновский, ставший из дурного «фатальным» пророком!
Принц перестал с ним советоваться, да и ее высочество теперь редко приходила к мужу в кабинет, когда там был статс-секретарь. Один лишь генерал Бетанкур обходился с Лубяновским с прежней приязнью, но его дружелюбие не спасло Федора Петровича от опалы. В исходе мая он получил список с высочайшего указа Сенату о его увольнении от службы – якобы по его же прошению за болезнью, хотя Лубяновский был здоров и ни о чём не просил. Окольными путями ему удалось узнать, что это Екатерина Павловна смертельно обиделась на какое-то его замечание, сочтя его высокомерным, и в тот же день отправила курьера к государю, требуя отставить Лубяновского от службы и не принимать обратно, пока она жива.
Птички щебетали и чирикали, беззаботно перелетая с ветки на ветку, в церквях благовестили к литургии. Лубяновский с раннего утра гулял в роще на берегу Волги, надеясь ногами помочь мыслям улечься в голове. Как быть, куда податься? Сыну-младенцу еще и году от роду нет… В Петербург ехать незачем, остается вернуться в Белокаменную и припасть к ногам благодетеля – Ивана Владимировича Лопухина, уж он-то оценит перевод «Тоски по отчизне». Первое время можно будет прожить на приданое жены, а там, Бог даст, найдутся какие-нибудь литературные занятия для снискания хлеба насущного. Клонить шею пониже, говорить потише, перемелется – мука будет.
Утомившись, Лубяновский присел на скамью, с которой открывался вид на город по ту сторону реки. Солнце ласково сияло в лазоревом небе, поглаживая его плечи теплыми ладонями, играя лучами на маковках церквей. Будущее уже не казалось мрачным, даже наоборот: держась подальше от венценосцев, проще уцелеть.
…Государь вновь гостил у любимой сестры, осматривая и хваля преобразования, совершенные в Твери ее мужем. Первого июня все втроем присутствовали при закладке нового храма Рождества Христова по проекту Росси; государь пожертвовал три тысячи рублей, внес еще тысячу от имени вдовствующей императрицы и пятьсот рублей от своей супруги, принц тоже дал пятьсот. Затем осматривали минеральный источник у подошвы крепостного вала, чуть ниже моста через Тьмаку, открытый инспектором врачебной управы Карлом Шнабелем. За всеми улицами теперь закрепили их названия, которые можно было прочесть на жестяных дощечках, прибитых к столбам, – Тверь в самом деле претендовала на статус третьей столицы империи! Однако рожать Екатерина Павловна предпочла всё же в Северной столице и отправилась туда водою. В Вышнем Волочке Ольденбургские застряли на восемь дней: принц осматривал работы на канале. Александр уехал вперед, но от Чудовского Яма поворотил направо, переправился через разлившийся Волхов и в Духов день к вечеру приехал в Грузино – имение графа Аракчеева.
В большом каменном доме начался переполох, дворовые носились сломя голову, приготовляя покои для нежданно нагрянувшего царя. Сторожам было велено в эту ночь под окнами не бродить и в колотушку не стучать. На следующее утро Александр пробудился в прекрасном настроении и отправился гулять по саду.
Полюбовавшись вишневыми, персиковыми, абрикосовыми деревьями, государь изволил объехать деревни, составлявшие поместье, и подивился тому, что нигде почти не видно мужиков, одни бабы на огородах. Граф пояснил, что местные почвы делают землепашество невыгодным, а потому его мужики в большинстве своем состоят на оброке, некоторые уходят на заработки в самый Петербург, прочие сбиваются в артели и выполняют казенные подряды по строительству мостов и дорог, ухаживают за скотом, разводимым на продажу, на барщине же работают только должники в виде наказания. Александр признал такую систему вполне разумной, но добавил лукаво, что никак не может взять в толк, отчего столько баб брюхаты, если они так мало видят своих мужей. Нимало не смутившись, Алексей Андреевич объяснил и это: он приказал особо, чтобы все замужние бабы рожали каждый год, а не родившие должны представить десять аршин холста сверх положенного урока. Император расхохотался.
Обедали во флигеле напротив господской усадьбы: там жила пассия графа, Настасья, – еще молодая, но сильно располневшая женщина в черном платье, довольно приятной наружности, смуглая, черноволосая, с бойкими карими глазами под дугами густых бровей; похоже, в ее жилах текла цыганская кровь. Аракчеев представил ее императору как хозяйку Грузина, и тот позволил ей приложиться к своей руке. Все знали, что любовь к бывшей крепостной крестьянке – единственная страсть, оживлявшая механическое сердце неутомимого министра, который выгнал из дома свою жену через несколько месяцев после свадьбы, уличив ее то ли во взятках, то ли в непослушании. Настасья же Минкина вертела своим любовником как хотела, особенно после того как родила графу сына, которого тот записал дворянином Михаилом Шумским; вся дворня была уверена, что Настасья ведьма и напустила на барина туман.
Крестьяне благословляли приезд императора: в этот день на конюшнях не свистели ни розги, ни кнут, а сидевшим в железах в Эдикюле (граф назвал свою тюрьму именем константинопольской темницы) даже дали похлебать жидких щец.
В седьмом часу вечера государь отбыл в Петербург, и Алексей Андреевич бросился писать радостные письма родным и друзьям об оказанной ему великой чести. Известие о посещении императором «своего подданного» в селе Грузино было напечатано в «Санкт-Петербургских новостях и «Северной почте», иностранные дипломаты уведомили о том свои дворы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?