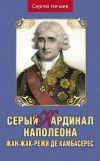Текст книги "Огонь под пеплом"
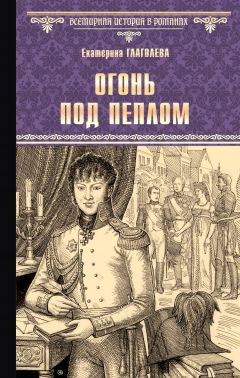
Автор книги: Екатерина Глаголева
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
31
В гостиную доносились стоны Марии-Луизы. Сбившись в группки, придворные перешептывались, украдкой взглядывая на императора, который ходил кругами, не находя себе места. Из спальни вышел Корвизар, Наполеон бросился к нему. Все напрягли слух, пытаясь разобрать негромкий голос врача: схватки стихают, ребенок появится на свет не раньше завтрашнего дня.
– Мальчик или девочка? – спросил Наполеон. – Может, есть какие-нибудь признаки, по которым…
Корвизар пожал плечами: ждать осталось совсем недолго, завтра всё выяснится.
Гортензия не узнавала Бонапарта, она давно… пожалуй, никогда не видела его таким встревоженным, таким беспокойным.
Сановников распустили по домам; народу, собравшемуся возле Тюильри, тоже велели расходиться; время уже клонилось к полуночи.
Зайдя в спальню к жене, которая была бледна, но уже не стонала, Наполеон поцеловал ее в лоб и нежно погладил по руке.
– Если это девочка… вы ведь будете любить ее? – прошептала Мария-Луиза.
Она сама сейчас казалась ребенком, несмотря на огромный живот, подпиравший одеяло. Наполеон успокоил ее, пожелал доброй ночи и вышел.
Поспав несколько часов, он справился о здоровье императрицы. Пока ничего. В шесть утра на дверях дворца вывесили бюллетень, подписанный Корвизаром: «Ее Величество Императрица начала испытывать вчера вечером, около восьми часов, предродовые боли. Ночью они утихли и на рассвете почти прекратились. Ее Величество чувствует себя превосходно. 20 марта 1811 г.» Рядом с Марией-Луизой дежурил Антуан Дюбуа, в которого Наполеон верил почти так же, как в Корвизара. В Египте Дюбуа командовал сотней полевых хирургов, сам оперировал в Александрии генерала Клебера (которого потом зарезал турок), генерала Мену и отважного Лассаля; больницу в предместье Сен-Дени называют «Лечебницей доктора Дюбуа». Год назад он сделался из хирурга акушером, сменив своего покойного друга Бодлока, который принимал роды у Каролины и Гортензии. Самому Дюбуа, впрочем, в личной жизни не везло: он трижды овдовел, а с четвертой женой развелся, у него всего один сын. Но говорят ведь, что сапожник без сапог…
Не раньше полудня… О, как тягостно ожидание! Не зная, чем еще успокоить разыгравшиеся нервы, Наполеон погрузился в ванну. И в это время к нему ворвался Дюбуа: воды отошли слишком рано, ребенок лежит неправильно, роды будут сложными… Кое-как одевшись, Наполеон поспешил к жене.
Мария-Луиза громко, надрывно кричала, несмотря на все увещевания придворных дам: терпите, криком вы отнимаете у себя силы! Дюбуа стоял на коленях у кровати, глядя роженице между ног; его лысина в оборочке из кудряшек взмокла от пота.
– Чего вы ждете? – нетерпеливо бросил ему Наполеон после очередного вопля жены. – Почему вы не помогаете императрице? Разве еще не время?
– Сир, я не могу начать без Корвизара.
– Зачем он вам? На что вам Корвизар? – Наполеон готов был ударить этого труса. – Если вам нужен свидетель вам в оправдание, то вот он я! Дюбуа, я приказываю вам разрешить от бремени императрицу!
Шейка матки еще недостаточно раскрыта… Но уже ясно, что ребенок лежит бедром вперед. Тазовое предлежание… Бодлок описал этот редчайший случай в своей книге «Искусство родовспоможения». Наморщив лоб и глубоко дыша, Дюбуа пытался вспомнить советы учителя… Шейка раскрылась! Наружу выпал сизый, склизкий, упругий жгут – пуповина. О чёрт! Он не взял с собой ножницы!
– Дайте мне чистую подвязку! – крикнул врач.
Дамы смущенно переглянулись; требование передали лакею. Текли томительные минуты, Мария-Луиза кричала не переставая, плод не двигался и не шевелился… Запыхавшийся мальчишка-посыльный принес две шерстяные подвязки, которые ему дали в привратницкой; одной из них Дюбуа перетянул пуповину, другой связал ножки младенца и потянул на себя.
Без четверти девять… О, как здесь была бы сейчас кстати мадам Лашапель! Но дворцовый протокол запрещает присутствие повитух при родах императрицы. Кто только выдумал эти протоколы! Хорошо, что Корвизар уже пришел, одно его присутствие успокаивает… Ножки вышли, и тельце до самых лопаток… Какой упитанный младенец… мальчик… Голова застряла! О господи!.. Положив тельце на подставленные руки доктора Овити, Дюбуа встал и подошел к императору.
– Кого вы желаете спасти – мать или ребенка? – негромко спросил он.
– Не сходите с ума! Конечно, мать! Думайте только о матери! – ответил Наполеон громким шепотом. – У природы свои законы; считайте, что это мещаночка с улицы Сен-Дени. Поступайте так, как будто это сын башмачника!
Увидев щипцы в руках Дюбуа, Мария-Луиза завизжала:
– Нет, нет, вы хотите убить меня!
Корвизар, лейб-хирург Иван и герцогиня де Монтебелло крепко держали ее за руки и за ноги, пока Дюбуа осторожно вводил ложки щипцов собственного изобретения. Роженица рыдала в голос. Бледный Наполеон отпустил ее руку и выбежал в уборную, не в силах этого вынести.
Получилось! Синеватое тельце завернули в пеленку и положили на пол; потерявшую сознание императрицу приводили в чувство; Дюбуа сел на стул, чувствуя, что сам сейчас хлопнется в обморок; его руки дрожали так, что он не мог налить себе воды из графина, к горлу подкатывала тошнота… Про ребенка вспомнил Корвизар. Приник ухом к его груди, начал растирать, тормошить, разводить ручки в стороны… Овити пришел к нему на помощь: он был как раз специалистом по новорожденным. Младенец издал первый крик; Иван метнулся в уборную звать императора.
В комнату впустили придворных, начались ахи и охи. Наполеон держал в руках свое сокровище (целых девять фунтов!) и плакал, не скрываясь.
– Где он? – раздался слабый голос императрицы.
Муж подошел, положил кричащего младенца ей на грудь, чтобы она могла обнять его, прижался мокрой щекой к ее щеке – их слезы смешались. Графиня де Монтескью, назначенная гувернанткой императорских детей, забрала ребенка, чтобы показать его архиканцлеру Камбасересу, а потом передала кормилице, которую выбрали из тысячи ста кандидаток. Камбасерес продиктовал секретарю свидетельство о рождении римского короля.
Измученная Мария-Луиза спала так крепко, что не слышала пушечной пальбы, приветствовавшей появление на свет наследника престола. Остановившись на улице, бросив все дела или проснувшись после бурной ночи, парижане считали выстрелы: девятнадцать… двадцать… двадцать один… двадцать два! Ура! Это мальчик! Отовсюду слышались аплодисменты, а салют продолжался: для девочки ограничились бы и двадцатью выстрелами, но мальчику полагался сто один!
Смолкшую пальбу подхватил колокольный перезвон: все парижские церкви сзывали прихожан на молебен, чтобы вознести хвалу Господу. Ремесленники выбегали из мастерских, торговки закрывали свои лавочки – в несколько минут улицы, набережные, площадь Карусели, сад Тюильри оказались заполнены густой толпой; люди пели, плясали, кричали «ура!».
Все морщины на лице Дюбуа проступили отчетливей, его лысина стала матовой, в уголках губ застряла слюна.
– Мне больно говорить об этом, сир, но… ее величество вряд ли сможет родить еще раз.
Наполеон молча обнял его, постоял так, потом отпустил и быстрым шагом ушел к себе. Дворцовый казначей получил собственноручную записку от императора: выдать Антуану Дюбуа сто тысяч франков.
Привет тебе, о месяц достославный,
Счастливой вечности явивший нам залог!
Восславься, Цезарь, что десницею державной
На сына Марсов возложил венок!
Этот экспромт Дезожье в тот же вечер декламировали во Французском театре.
Оды, куплеты, эстампы, гравюры – типографские прессы работали в полную силу, хотя никто из авторов понятия не имел, как выглядит младенец, здоров ли он и на кого похож. А существует ли вообще это дитя? – тотчас задались вопросом в Сен-Жерменском предместье. И вот уже по Парижу побежали слухи о том, что беременность Марии-Луизы была ложной, ведь всем известно, что Наполеон бесплоден…
Тем временем архитекторы Персье и Фонтен трудились над проектом грандиозного дворца – «кремля, в сто раз красивее, чем в Москве, с огромными садами, больше, чем в Версале и обоих Трианонах, вместе взятых», – который император хотел возвести для своего сына на холме Шайо, напротив Марсова поля. Кстати, на строительстве потребуется множество рабочих рук – вот и решение проблемы безработицы. Зато от храма Славы на месте церкви Св. Марии Магдалины, которую не могли достроить уже сорок пять лет, Наполеон в конце концов отказался. После победного завершения Польской кампании он намеревался открыть там зал Великой Армии, начертав на стенах святилища имена всех своих солдат до единого. Ах, каким наивным романтиком он тогда был… «Мне не нужны кумиры, – объявил император архитекторам. – Пусть храмы караулят священники».
32
Часов в одиннадцать Александр засобирался в дорогу: по ночам еще морозно, полозья легко скользят, не цепляясь за бревенчатый настил, в кибитке можно поспать, к утру он будет уже в Вышнем Волочке. Сестра с мужем и гости вышли провожать его на крыльцо; садясь в кибитку, государь еще раз улыбнулся Екатерине и Георгу, скользнул взглядом по чете Оболенских, увидел высокого Карамзина и отвернулся. Возница хлестнул лошадей, снег заскрипел под полозьями.
Екатерине свойственно увлекаться людьми. Едва услышав в ком-нибудь отголосок сочувствия своим собственным мыслям, она тотчас вытаскивает его из толпы и находит в нём то, чего в нём и не бывало. Так вышло с Багратионом, так происходит теперь с Ростопчиным и Карамзиным. Оба стали частыми гостями в Твери, и оба неприятны Александру. Ростопчин строит из себя шута, представляет в лицах разные случаи: несбывшееся обручение великой княжны Александры с Густавом Адольфом, из-за которого императрицу Екатерину хватил удар, экстравагантные выходки Павла – например, объявление войны римскому императору Францу за неумение жить в свете, отмененное в последний момент… И все смеются! Просто покатываются со смеху! А ведь речь идет об их с Катиш несчастной сестре, их бабушке, их отце, столь трагическим образом ушедшем из жизни! Конечно, Бисям Бисямовна была еще девочкой, когда сначала Alexandrine, а потом и отец перешли в лучший мир, но всё же почти тринадцать – не несмышленыш. Провожая дочь-невесту в Вену, отец твердил, что больше не увидит ее… Alexandrine тогда было всего шестнадцать лет! Ее выдали замуж за эрцгерцога Иосифа – брата императора Франца. Императрица страшно ревновала к ней мужа, которому русская великая княжна напоминала его первую жену – свою родную тетку. Бедняжка не пережила родов: врач, которого к ней прислала императрица, был более искусен в интригах, нежели в медицине, ребенка извлекли щипцами, девочка прожила всего несколько часов, а сама Alexandrine скончалась на девятый день, четвертого марта 1801 года – на восемь дней раньше отца… Александр оплатил строительство православной церкви во имя мученицы царицы Александры, которую возвели в Венгрии, неподалеку от Буды… Карамзин, конечно, не станет смеяться над усопшими. Но у него другой порок: он мнит себя познавшим истину, призванным нести ее другим.
Нынче вечером он читал отрывки из своей рукописи – «Истории государства Российского». Его слушали, затаив дыхание, боясь прервать даже похвалой. И сам историограф слушал себя с явным удовольствием. Спору нет: написано отменно, живо, легко, увлекательно. Однако Карамзин – сочинитель, а не ученый. Ученый не дает волю чувствам и не ставит идеи превыше фактов, его цель – постичь законы природы, чтобы применить их к деятельности человеческой, а не толковать их.
Все предметы падают вниз благодаря силе земного тяготения – хорошо это или дурно? Ни то, ни другое: сие от нашей воли не зависит и исправить оного мы не можем, остается лишь применяться ко всеобщему закону. Человек убьется, если сбросить его со скалы, но никому не придет в голову винить в его смерти притяжение земное. В истории же, в отличие от хронологии, важны не столько события, сколько их толкование. Но ведь каждый человек видит и судит по-своему! Позови трех очевидцев, расспроси о том, чему они стали свидетелями, – в чём-то их слова совпадут, но отличий будет много больше. И если поверить бумаге рассказ лишь одного из них, позднейшее суждение о событии будет заведомо предвзятым, ибо потомки станут смотреть на него единственно глазами летописца. Любой капитан-исправник знает, как трудно составить картину преступления по опросам свидетелей, и это по горячим следам, а если прошло двадцать лет? Знание последующих событий неминуемо исказит восприятие того, что им предшествовало; память, как губка, впитает в себя предрассудки, расхожие мнения, запреты, смазав прежде четкие контуры, потому-то все мемуары – заведомое убийство истины. Хотя чтение это довольно занимательное.
Александр покосился на пухлую папку, которую дала ему перед отъездом сестра, – еще одна рукопись Карамзина. Катиш настойчиво просила непременно прочесть. Что ж, он пролистает, если станет скучно в дороге.
…«Записки о старой и новой России в ее политическом и гражданском отношении». Эпиграф: «Несть лести в языце моем. Псалом 138». Александр углубился в чтение, и с каждой перевернутой страницей раздражение в нём нарастало.
Пояснив, что знание прошедшего необходимо для постижения настоящего, Карамзин начал с глубокой древности – варваров, создания первых государств, греков и римлян, древних славян, призвания варягов, монгольского нашествия, объединения удельных княжеств… Из всего этого постепенно выкристаллизовались две идеи: что твердое единовластное правление спасительно для России и что, хотя иноземцы много опередили нас в гражданском просвещении, заимствовать у них надлежит с осторожностью, применяясь к отечественному и непременно соединяя новое со старым. Обрисовав царствование Ивана Грозного, Бориса Годунова и период Смуты, осудив убийство Лжедмитрия народом, прежде присягнувшим ему на верность (чернь не имеет права убивать царей, пусть и самозваных), автор добрался до Михаила Романова и Алексея Тишайшего, который воевал с поляками и шведами. О них он отзывался безучастно, зато после явил всю свою непредвзятость, заговорив о заслугах и пороках государей, правивших в прошлом веке.
Признавая дар Петра Великого угадывать таланты и употреблять людей по их способностям, Карамзин отказывался признать его, «вслед за несведущими иноземцами», творцом государственного величия России, поскольку оно было подготовлено московскими князьями, и решительно осуждал его страсть к чужеземным обычаям. «Искореняя древние навыки, представляя их смешными, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в собственном их сердце», – негодовал обличитель. Противоборствуя «невинным склонностям и привычкам» (под которыми, вероятно, разумелся Домострой), Петр ограничил свои преобразования дворянством, «и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах, ко вреду братского, народного единодушия сословий». Петр уничтожил достоинство бояр, которым народ привык поклоняться «с истинным уничижением», когда они «с азиатской пышностью, при звуке бубнов являлись на стогнах», – ему были надобны министры, канцлеры и генералы! «Деды наши, уже в царствование Михаила и сына его присваивая себе многие выгоды иноземных обычаев, всё еще оставались в тех мыслях, что правоверный россиянин есть совершеннейший гражданин в мире, а Святая Русь – первое государство. Пусть назовут то заблуждением, но как оно благоприятствовало любви к Отечеству!.. Некогда называли мы всех иных европейцев неверными, теперь называем братьями; спрашиваю: кому бы легче было покорить Россию – неверным или братьям?.. Мы стали гражданами мира, но перестали быть гражданами России. Виною Петр».
По этому порочному пути Россия скользила и при Анне, и при мягкосердной Елизавете, когда лишь счастье спасало ее от чрезвычайных зол. Счастьем же стало и восшествие на престол Екатерины II, которая «хотела повелевать, как земной Бог». Не требуя от россиян «ничего противного их совести и гражданским навыкам», она старалась возвеличить данное ей Небом Отечество и свою славу победами, законодательством, просвещением, истребив и дух рабства в высших сословиях: «Мы приучились судить, хвалить в делах государя только похвальное, осуждать противное». Похвальным были наши победы, к которым Екатерина приучила Европу. «Пусть иноземцы осуждают раздел Польши: мы взяли свое». А слишком развольничавшихся дворян государыня привязала к трону орденскими лентами. При всём при том, в государственных учреждениях было более блеска, чем основательности, форма главенствовала над содержанием, правосудие не цвело, правдой и чинами торговали, разврата не стыдились. Сын Екатерины решил покончить с этим, но как? «Павел восшел на престол в то благоприятное для самодержавия время, когда ужасы Французской революции излечили Европу от мечтаний гражданской вольности и равенства… Но что сделали якобинцы в отношении к республикам, то Павел сделал в отношении к самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оного».
Тем не менее сына деспотичного Павла историограф порицал за желание поставить закон выше государя: «Две власти государственные в одной державе суть два грозные льва в одной клетке, готовые терзать друг друга, а право без власти есть ничто». Пусть Александр царствует добродетельно и приучит подданных к благу для рождения спасительных обычаев, но при этом покончит с бесстрашием в обществе, основанным на всеобщем мнении о кротости государя: никто и никогда не изображал монарха пастушком, держащим в руках букетик полевых цветов, но воином в латах и с разящим мечом!
Однако сам Карамзин бесстрашно взялся разбирать внешнюю и внутреннюю политику самодержца, как будто имел на это право, снисходительно заметив Александру, что «можно с добрым намерением ошибаться в средствах добра».
Первой ошибкой было вступить в войну против Франции, тогда еще ничем нам не угрожавшей, на стороне Англии и Австрии, то есть соперников наших. Второй ошибкой было желать битвы, и Аустерлиц обернулся позором, истреблением русского войска, падением Австрии, порабощением Германии… Третьей же стал Тильзитский мир: «Без стыда могли бы мы отказаться от Европы, но без стыда не могли служить в ней орудием Наполеоновым, обещав избавить Европу от его насилий… Лучше было согласиться, чтоб Наполеон взял Силезию, самый Берлин, нежели признать Варшавское герцогство». После этого «мы взяли Финляндию, заслужив ненависть шведов, укоризну всех народов» – не ради своей безопасности, а следуя хищной системе Наполеона, который знает, что мы внутренне ненавидим его, ибо боимся.
Далее автор клеймил нововведения правительства: учреждение комитетов, усиление министров в ущерб Сенату, основание университетов, гимназий и школ, для которых недостает ни учителей, ни учеников, – и твердя при этом, что привычное зло лучше нового добра.
Раскритиковав запрет на продажу и куплю рекрут (которых лучше брать из людей злосчастных, нежели счастливых – то есть не из справных мужиков, а из бобылей, лентяев и пьяниц, в надежде на их исправление в «строгой школе воинской»), Карамзин разъяснял, почему освободить крестьян в России невозможно. Земля есть собственность дворянская; если освобожденные земледельцы, не желая покидать насиженных мест, наймутся к своему же бывшему помещику, тот, прежде щадивший в них свою собственность, учнет драть с них три шкуры. Начнутся тяжбы, разорительные для всех; освобожденные от власти господской, крестьяне станут жертвами откупщиков и бессовестных судей, пустятся пьянствовать и злодействовать; вот и выходит, что их свобода вредна для государства.
Не меньше тридцати страниц были посвящены финансовым вопросам: ценности ассигнаций, бережливости и бесстыдной роскоши, ввозу и вывозу товаров, мздоимству таможенников и корыстолюбию лавочников. Затем стрелы полетели в законодателей, работающих над проектом Уложения, который есть не что иное, как дурной перевод Наполеонова Кодекса! Кстати ли начинать русское Уложение главою о правах гражданских, коих в России нет и не было? У дворян, купцов, мещан, крестьян права разные, а общего – лишь название русских, к тому же в Ливонии, Финляндии, Польше, Малороссии, входящих в состав Российской империи, имеются свои гражданские уставы. Так уж ли они нужны? Про то один Бог ведает, а только от новизны добра не жди.
Не менее пространно автор рассуждал о правильном выборе людей на важные должности и о нахождении способов «усиливать в чиновниках побуждение добра или обуздывать стремление ко злу», советуя предпочитать кнут прянику, ибо «за деньги не делается ничего великого». Не замечая, что противоречит сам себе, он утверждал, что происхождение важнее заслуг: «надлежало бы не дворянству быть по чинам, но чинам по дворянству». Наконец, будучи всего одиннадцатью годами старее государя, Карамзин наставлял его, точно учитель ученика: «Если Александр вообще будет осторожнее в новых государственных творениях, стараясь всего более утвердить существующие и думая более о людях, нежели о формах, ежели благоразумною строгостью обратит вельмож, чиновников к ревностному исполнению должностей; если заключит мир с Турцией и спасет Россию от третьей, весьма опасной, войны с Наполеоном, хотя бы и с утратою многих выгод так называемой чести, которая есть только роскошь сильных государств и не равняется с первым их благом, или с целостью бытия; если он, не умножая денег бумажных, мудрою бережливостью уменьшит расходы казны и найдет способ прибавить жалованья бедным чиновникам воинским и гражданским; если таможенные Уставы, верно наблюдаемые, приведут в соразмерность ввоз и вывоз товаров; если дороговизна мало-помалу уменьшится, то Россия благословит Александра, колебания утихнут, неудовольствия исчезнут, родятся нужные для государства привычки, ход вещей сделается правильным, постоянным; новое и старое сольются в одно, реже и реже будут вспоминать прошедшее, злословие не умолкнет, но лишится жала!.. Судьба Европы теперь не от нас зависит».
Александр отшвырнул от себя папку и стал смотреть в окно – кажется, они подъезжают к Новгороду.
«Отцы наши не глупей нас были». Это слова Ростопчина, но Карамзин долдонит то же самое. Один уверяет, что плуг – дорогая игрушка, нам и соха хороша, другой – что паровые машины приводят в упадок Тульский оружейный завод, а новые образцовые ружья разоряют мастеров. Не надо машин, раз обращаться с ними не умеем, а учиться не хотим? Пищалями войско вооружим и бросим его на неприятеля, вспоминая о суворовских победах? «Действуйте на душу более, нежели на тело»! Упиваться рассказами о подвигах дедовских, возомнив, будто их слава покрывает и внуков и не износится никогда, и кичиться именем русских! И золотые монеты истираются, когда долго ходят по рукам! Мы русские! Мы особенные! Фамилия «Карамзин» происходит от «Кара-Мурзы». Когда-то его предок перешел на службу русскому царю или князю, преследуя вполне материальные пользы и выгоды. И Ростопчины происходят от татар. А кто сейчас служит Александру не за страх, а за совесть? Француз Ришелье, генерал-губернатор Новороссии, с помощью французов же, швейцарцев и немцев; немцы Георг Ольденбургский и Балтазар Кампенгаузен; в армии – шотландец Барклай, француз Ланжерон, немец Засс… грузин Багратион, и всем им дорога́ Россия нынешняя и грядущая! Где те «облагодетельствованные судьбою» дворяне, привыкшие с колыбели «любить Отечество и государя за выгоды своего рождения», о которых пишет Карамзин? Не они ли в бабушкино царствование получали чины и награды, с пеленок записанные офицерами в гвардейские полки, и проводили время в кутежах и разврате, вместо того чтобы заниматься службой? Не они ли истязают своих крестьян, утоляя свои дикие прихоти, и не боятся ни Бога, ни гнева государева, потому что губернаторы их покроют по сословному братству, а исправников и судей можно купить или запугать? Хорошо любить Отечество, не служа ему! Теперь они оскорбились, увидав возле трона «людей низкого происхождения», и кричат, что «естественные дары» не заменят «благородство духа»! Люди истинно благородные умеют видеть достоинства в других, а в этих говорит одна лишь зависть. Увидали голубую ленту на Сперанском и взбеленились! Да вообще вся эта писанина явно нацелена против государственного секретаря. Какую только напраслину на него не возводят! И вор он, и Антихрист, и в сговоре с Наполеоном! Судачат о каких-то его миллионах, которых он никогда не имел. Так же и графа Аракчеева ненавидят за отсутствие в нём их собственных пороков. Вот уж кто действительно «без лести предан» – и государю, и Отечеству! Ни родня, ни свойственники не дождутся от него протекции, если он не считает их людьми достойными и полезными; ни одно дело у него дольше суток не залежится!
А что касается нового, старого и подражания чужеземным образцам – отчего же сам Карамзин в своих сочинениях не следует образцам Ломоносова и Державина? Отчего он вводит в русский язык новые слова, переделанные или скопированные с французских, за что ревнители национальной словесности обвиняют его в обезьянстве? Не потому ли, что русские люди обнаружили в себе чувства и свойства, роднящие их с иноплеменниками, но не нашли для них названий в древних летописях?
La critique est aisée, et l’art est difficile[15]15
Критиковать легко, а сделать трудно (франц.).
[Закрыть]. Катиш может увлекаться, кем пожелает, но только Александр отныне станет с нею осторожнее и более не будет давать ей читать проекты прежде их опубликования. А сочинение господина Карамзина опасное, ибо людей увлекающихся у нас много. Света оно не увидит.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?